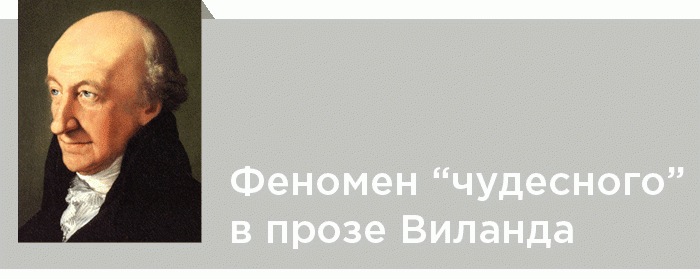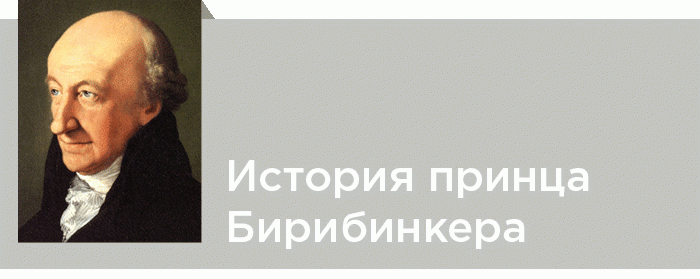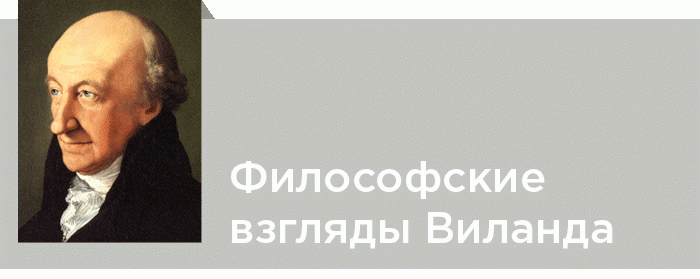К вопросу об общественных взглядах X. М. Виланда и «бурных гениев»
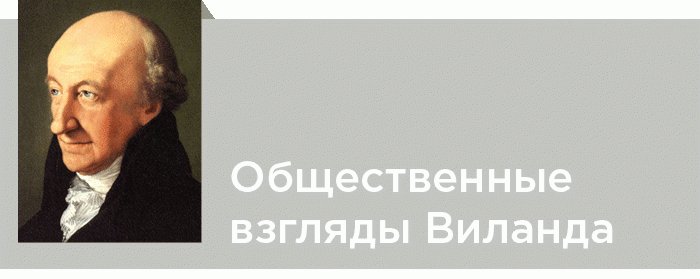
А. И. Жеребин
Когда в 1790-1790-е годы Виланд анализирует события французской революции, жанровой формой этого анализа становится философско-политический диалог. Обращение к нему диктует не только литературная традиция и общепросветительский стиль мышления. Специфика виландовских диалогов, лишенных формального синтеза, построенных на принципе иронической игры несходными мнениями, указывает на непосредственную зависимость жанра от общественной позиции автора. Виланд испытывает разочарование в просветительстве, но отрицает радикализм, признает историческую закономерность революции, но не верит в спасительность насилия, и скептическая двойственность его общественных взглядов отливается в форму диалога.
Важным этаном творческой эволюции Виланда явилась полемика с «бурными гениями», относящаяся к 70-м годам. В ходе этой полемики сложилась идейная, содержательная основа диалогического жанра разрабатываемого писателем в последующие десятилетия.
70-е годы XVIII века отмечены глубоким кризисом немецкого Просвещения. В условиях обострении социальных противоречий типичное для Германии расслоение бюргерства приводит к расколу общественного движения на две борющиеся партий — старших просветителей, объединяемых понятием «позднего Просвещения», и течение «Бури и натиска», Виланд находился в центре этой борьбы.
Инициаторами раскола явились представители «Бури и натиска»; один из них— Я. Ленц обрушил на Виланда в течение первого пятилетия 70-х годов целую серию пародий и критических выступлений. Ленц осмеял программный политический роман Виланда «Золотое зерцало» (1772), содержавший дидактическую утопию просвещенного абсолютизма. Отвечая на вопрос путешествующего восточного принца Танди, о чем трактует эта книга, бакалавр Цирау, утонченный философ и почитатель Виланда, набрасывает общественную программу немецких просветителей: «Если воспитание будет поставлено иначе, если в школах и академиях будут достойные и ученые мужи, если духовенство будет выбираться из людей явно заслуженных и прозорливых, не лицемеров и не фанатиков, если суды будут наполнены людьми старыми, опытными, почтенными, законниками, если различие сословий, если не род и не деньги, а только заслуги, если правитель, если его советники, если...» «Довольно, довольно, — прерывает его принц Танди, — от всех ваших «если» свет не станет ни на волос ни лучше, ни хуже, любезнейший и почтеннейший г-н автор!». Устами своего героя Ленц дает уничтожающую и очень показательную для настроений периода «Бури и натиска» характеристику европейской цивилизации: «И это просвещенная часть света! Повсюду, куда ни взглянешь, вялость, ленивое бессильное желание вместо огня и жизни, болтовня вместо действия!».
Используя характерную для литературы Просвещения тему «восточного путешественника» с целью критики самой просветительской идеологии, Ленц вскрывает ее основное противоречие — конфликт между произвольной идеалистической конструкцией и общественной реальностью. «Болтовня вместо действия», — таков главный упрек Просвещению со стороны «Бури и натиска». И хотя в зачатке этот упрек уже содержал точку зрения материализма, социально-экономическое состояние Германии приводило к тому, что жажда действия неизбежно оборачивалась у «бурных гениев» идеальным порывом к свободе от исторической обусловленности.
Ориентация «Бури и натиска» на идеализм объясняется не только слабостью немецкой буржуазии, но и двойственностью социального смысла механического материализма. Освобождая человека от абсолютного нравственного долга, утверждая зависимость сознания от обстоятельств и чувственной природы, сенсуализм узаконивал «эгоистический» протест против деспотизма и неравенства как источников человеческих страданий, приводил к мысли о необходимости сделать человечными самые обстоятельства. Однако принцип сенсуализма допускал и прямо противоположный ход мысли. Если наши идеи являются продуктом среды и нравственное сознание есть явление вторичное, то, следовательно, человек предназначен Природой к тому, чтобы покорствовать обстоятельствам, быть их рабом, а не господином, не перестраивать мир согласно своим идеалам, а к нему приспособляться. Эвдемонизм означал, с одной стороны, отрицание деспотизма, с другой, — неприятие жертв, неизбежных в борьбе с ним. Эта оборотная, оппортунистическая сторона материализма особенно отчетливо выступала на первый план экономически и социально отсталой Германии, где обстоятельства толкали буржуазию на компромисс с феодальной монархией, а эвдемонистические устремления принимали форму гедонистического аморализма высшего сословия.
С восприятием сенсуализма в качестве философской основы примирения с объективной общественной реальностью связаны широко известные инвективы «штюрмеров» против Виланда как распространителя французской безнравственности. По сообщению Фосса, празднование геттингенским «Союзом рощи» дня рождения Клопштока в 1773 году закончилось торжественным сожжением эротической поэмы Виланда «Идрис» и портрета автора. «Говорили, — пишет Фосс, — о Германии, о свободе, великих деяниях и о мести Виланду, оскорбляющему добродетель».
Несмотря на связь геттингенских бардов с Клопштоком, в целом молодая бюргерская интеллигенция протестовала против поэзии рококо отнюдь не с точки зрения христианского благочестия. В произведениях Виланда «штюрмеров» возмущал не эротизм как таковой, а его социальный смысл. Оправдывая в 1775 году свои выпады против Виланда, Ленц писал Софи Ларош: «Я хочу лишь противодействовать порче нравов, незаметно передающейся от высшего сословия к низшему, не имеющему против него никаких средств.
Вы видите, почему я могу любить Виланда как человека, восхищаться им как поэтом, но ненавижу и всегда должен буду ненавидеть его как философа. Он думает, что оказывает людям услугу, разъясняя им, что их душевные силы неспособны возвыситься.». В автокомментарии к направленной против Виланда сатирической комедии «Облака» Ленц высказывает мысль о том, что учение о счастье, апостолом которого он с полным основанием считает Виланда, равносильно добровольному отказу «от всех прав человечества». Рисуя картину глубокого нравственного падения изнеженного современного человека, он противопоставляет гедонисту образ героического юноши, который «в стороне от путей, усеянных розами, вступает на шипы, ведущие к счастью полубогов».
В отличие от романтиков «штюрмеры» еще не могли, однако, окончательно пошатнуть авторитет Виланда. Несмотря на критику со стороны «Бури и натиска», именно в 70-е годы, т. е. в период нарастания оппозиционных общественных настроений, устанавливается то беспрецедентно глубокое взаимопонимание между писателем и широкой бюргерской аудиторией, которое, начиная с Гёте, неизменно отмечают все биографы Виланда и подтверждают исключительно высокие тиражи его произведений. Переориентация самого Виланда с дворянского на бюргерского читателя, которую И. Г. Циммерман отмечал как источник его возросшей популярности, не дает достаточного объяснения того факта. Гораздо важнее то, что по отношению к основной массе бюргерства усиление оппозиционных настроений в 70-е годы означало не отказ от социального содержания французского сенсуализма, а напротив, было связано с его запоздалым признанием: в тот момент, когда движение «Бури и натиска» ознаменовало «перерастание» материалистических принципов европейского Просвещения, немецкое третье сословие в основной своей массе до него только еще «дорастает». Поэтому политический радикализм «штюрмеров» оказывается чужд среднему немецкому бюргеру, тогда как Виланд и другие представители позднего Просвещения только и именно с 70-х годов становятся подлинными выразителями его надежд и разочарований.
Непосредственные отклики старших просветителей на творчество «бурных гениев» обнаруживают глубокое сходство их общественных взглядов. Отвечая в 1775 году на просьбу Виланда принять участие в издаваемом им журнале «Немецкий Меркурий», Лессинг писал: «Каких произведений ждете Вы от меня? Работ гения? Но на все гениальное наложили теперь арест известные люди, с которыми я не хотел бы обнаружить себя на одном пути». В том же году Виланд буквально повторяет данное Лессингом определение «бурных гениев» — «люди, наложившие арест на гениальность». Он делает это в своем хвалебном отзыве на пародию Николаи «Радости молодого Вертера»; последняя явилась в свою очередь исполнением совета Лессинга дать «Вертеру» «циническое заключение». На фоне характерного для 70-х годов отождествления эстетических и политических принципов неприятие поздними просветителями «штюрмерской» трактовки гения как «той силы человека, которая через действие и деяние дает закон и правило», свидетельствовало о наличии у них политической тенденции, направленной против идеалистического радикализма. Когда Лессинг противопоставляет сентиментальному индивидуализму Вертера гражданские добродетели древнегреческого юноши, Николаи упрекает героя Гете за «увиливание от уплаты долга обществу», а Виланд в статье того же времени обвиняет «штюрмеров» в подмене практических задач литературы абстрактным пафосом свободы, эти суждения ясно указывают на характер идейных разногласий между Просвещением и «Бурей и натиском». В «Легенде о Лессинге» Меринг писал, что, по мнению Лессинга, идеология «Бури и натиска» была «сомнительным отклонением от пути, по которому буржуазные классы Германии только и могли продвигаться вперед». Оба других лидера позднего Просвещения — Виланд и Николаи — разделяли это мнение. Единственно правильным, т. е. реальным путем общественного развития Германии, представлялся им реформизм, но важнейшее отличие взглядов Виланда состояло как раз в том, что протест против волюнтаризма сочетался у него с нарастающими сомнениями в Просвещении.
До тех пор, пока Просвещение и «Буря и натиск» рассматривались как последовательно сменяющие друг друга этапы литературного процесса, позднее творчество Виланда закономерно выглядело анахронизмом, чуждым эпохе, главными представителями которой считались «бурные гении». Обоснование этой точки зрения дали уже сами «штюрмеры», выдвинув тезис о «поверхностности» Просвещения (seichte Aufklaerung) Между тем, позиция Виланда в 70-е годы не сводилась к упрямому отставанию исторически преодоленных взглядов раннего немецкого Просвещения. Его концепция трансформируется в свете нового исторического опыта, под новыми идейными влияниями.
Исходным моментом общественно-исторической концепции Виланда является руссоистская коллизия природы и цивилизации, которую он критикует и одновременно усваивает в качестве важного элемента собственных взглядов. Открытой полемике с Руссо посвящена серия его статей и новелл 1770 года, объединенных под названием «Очерки тайной истории человеческого разума и сердца». Их общая тенденция заключается в опровержении руссоистского понимания гражданского общества как принципиальной противоположности «естественного состояния». Виланд стремится доказать, что естественное и общественное состояние представляют историческую непрерывность, осуществляющую разумный план развития человечества в направлений всеобщего счастья. Он включает в свою книгу несколько пародийных утопий и аллегорических рассказов, иллюстрирующих непрочность «первобытного рая», основанного на неосведомленности людей и неразвитости их потребностей, и затем пишет: «Нам предначертано более совершенное счастье. Сейчас люди еще далёки от него, но все перемены, испытанные нами до сих пор, приближали нас к этому счастью, все маховые колеса морального мира работают для этой великой цели, и творец природы так мудро согласовал их работу, что даже кажущиеся отклонения и беспорядки становятся в целом движущими причинами этого поступательного развития». Подлинный «золотой век» явится, по мнению Виланда, результатом того неуклонного расцвета науки и искусства, начало которому было положено «три века назад», т. е. в эпоху Возрождения. Политический смысл этой антируссоистской концепции вполне очевиден. Она направлена против революционного содержания общественной теории Руссо и волюнтаризма его немецких учеников. Если история есть отпадение от природы, ознаменованное роковым актом общественного договора, то, следовательно, общество подлежит радикальному изменению в соответствии с требованиями природы; если же общество трактуется как осуществление заложенного в природе божественного плана, как результат органического развития от семьи к государству, то можно говорить лишь о частных, субъективных отклонениях от нормы, и требование демократии равносильно тогда призыву к анархии. С точки зрения Виланда, «пороки человечества» коренятся не в принципе гражданского общества, а являются следствием политического деспотизма и могут быть исправлены введением «разумного государственного устройства и законодательства». Отсюда прямой призыв к Иосифу II в конце одного не разделов.
Вместе с тем, руссоистская критика рационализма порождает у Виланда серьезные сомнения в просветительской философии истории. Так, развернув в статье «Об утверждении вредности беспрепятственного развития человечества» весь арсенал просветительской телеологии, Виланд пишет: «Вы скажете, что все это химера? Ну что ж, тогда мы знаем, что думать об этом низшем мире. Тогда все вместе взятое есть такой пустой бурлескный, бессмысленный и бесцельный трагикомический фарс, что все арлекины мира не могли бы сочинить глупее». Наиболее очевидное свидетельство влияния на Виланда руссоистской критики Просвещения представляет его статья 1777 года «О мнимом упадке человеческого рода». Включенная позднее авторвм в книгу «Записки к тайной истории человечества», она явно противоречит содержанию антируссоистской полемики в предыдущих частях. Отказываясь от телеологического взгляда на историю, Виланд пишет: «В том круге, в котором вечно кружит нас природа, имеется два полюса, один из которых обозначает высшую точку естественного здоровья, величия и силы человека, другой — низший предел незначительности, бессилия и вырождения. Каждый народ совершает неукоснительное движение от первого полюса ко второму». Виланд перечисляет типологические признаки умирающей цивилизации и относит их к современному состоянию Европы, которую он сопоставляет с Римской империей накануне завоевания ее германцами. Такими признаками являются «чрезмерное» общественное неравенство, политическая тирания, любовь к роскоши и падение нравов. Так же как и «штюрмеры», Виланд обвиняет современного человека в неспособности на сильное чувство и решительное действие, в подмене любви и ненависти мертвящим рассудком, направленным на оправдание бесстрастной и безвольной созерцательности. «Мы не знаем больше страстей, да они и не нужны нам в том государстве, где мы имеем честь жить, — пишет он, — ведь мы только марионетки, которым не нужны честные гражданские добродетели. Нас легко утешает болтовня о космополитизме». Век Просвещения соотносится, по мнению Виланда, с героическим прошлым европейских народов как театральный спектакль и реальное деяние.
Одновременно Виланд делает попытку «спасти» телеологию, утверждая, что с точки зрения человечества в целом история описывает не круг в собственном смысле слова, а незаметно прогрессирующую спираль. Одна цивилизация завершает цикл своего развитиями на ее обломках расцветает молодая культура другого народа, которому суждено повторить тот же самый цикл, но на новом витке спирали. Однако обоснование этой мысли превышает, считает Виланд, возможности человеческого разума. Человеку не дано снять с природы ее священный покров и заглянуть во внутренний механизм истории, чтобы увидеть, как в силу всеобщей связи вещей всякое зло есть добро и всякая смерть есть жизнь. Очевидным остается для Виланда лишь тот факт, что еще ни один народ не достигал вторично своего былого величия.
Несмотря на наличие оптимистического тезиса, определяющим тоном статьи остается тон глубокого разочарования в Просвещении. «Нет ничего удивительного в том, — пишет Виланд, — что человек, который уже достаточно долго наблюдает за игрой, если он постоянно слышит, как болтают о достоинствах нашего времени, преимуществах нашей просвещенности и цивилизации, и вместе с тем видит, что ничто и нигде не становится от этого лучше, а, напротив, только ухудшается, — что такой человек рано или поздно должен испытать отвращение к этой трескотне и сказать вслух то, что он преспокойно мог бы и не говорить, потому, что это ни в чем и никому не может помочь». Жажда общественных преобразований сводится к неверной надежде на возможность сберечь в «ярмарочной сутолоке мира» некоторый минимум любви, правды и человечности, чтобы, замкнувшись в тиши домашней жизни, употребить их на пользу себе и своим близким.
Неудовлетворенность Просвещением, противопоставление цивилизации и природы связывает общественные взгляды Виланда с идеологией «Бури и натиска» на основе общего для них сознания противоречивости общественного прогресса. Виланд, однако, прав, когда в заключительной части своего рассуждения об упадке человечества он возражает против отождествления своих взглядов с точкой зрения «штюрмеров». Изображая вслед за ними моральное и политическое вырождение современного ему общества, Виланд исходит из принципиально других философских предпосылок и делает выводы, очень отличные от позиции «Бури и натиска». Основа размежевания остается той же, что и в первых антируссоистских статьях: общество в его современном состоянии представляет не результат рокового для него разрыва с природой, а есть выражение непреложного, непрерывно действующего естественного закона. Но при этом самое содержание естественного закона существенно меняется. Если в начале десятилетия Виланд трактовал его преимущественно оптимистически, как фактор общественного прогресса, то в статье 1777 года естественный закон приобретает отчетливые черты непознаваемого и, несмотря на отмеченную попытку спасения телеологии, враждебного человечеству рока. Раннепросветительская (лейбницианская) вера в провидение, предполагавшая известную активность человека, уступает место фатализму, отрицающему свободу воли. Поэтому признание Виландом общественного упадка не устраняет, а, напротив, увеличивает его разрыв с идеологией «Бури и натиска», становится основой насмешки над претензией «штюрмеров» на силу, гениальность и свободу. Радикализму «Бури и натиска» противостоит теперь у Виланда не политическая активность в социальных рамках старого режима, а скептическая резиньяция мудреца, стремящегося к идеалу эпикурейской добродетели.
Образуя отчетливую параллель к той критике Просвещения, которую ведут в 70-е годы представители «Бури и натиска», общественные взгляды Виланда представляют особую — скептическую — форму осознания кризиса просветительского идеализма.
Л-ра: Реализм в зарубежных литературах XIX-XX веков. – Саратов, 1983. – С. 143-152.
Произведения
Критика