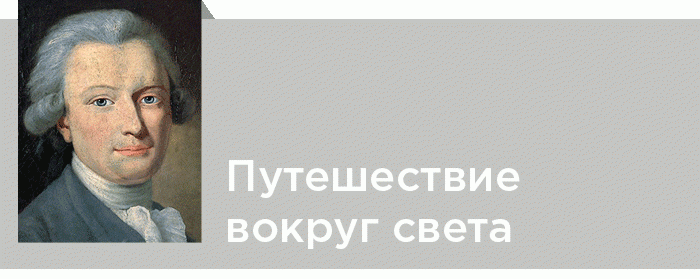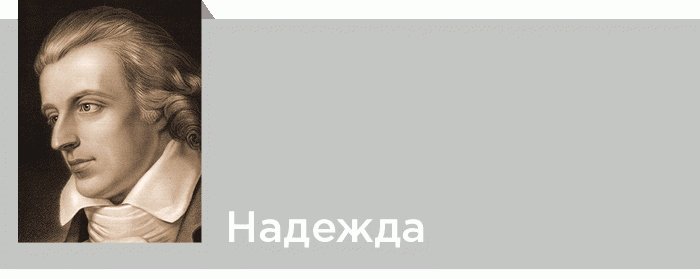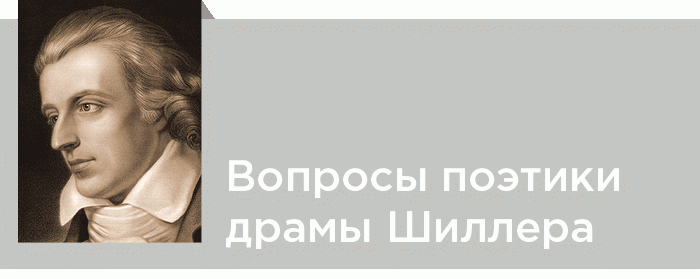Роман Ф. Шиллера «Духовидец»

С. А. Пятков
Роман «Духовидец» занимает видное место в наследии Ф. Шиллера-прозаика. Это место определяется, на наш взгляд, тем, что в данном произведении в особой, специфической форме проявились своеобразные черты художественного метода писателя. То, что было присуще Шиллеру — драматургу и поэту, находит в его последнем прозаическом произведении новое идейно-художественное преломление.
Оценивая «Духовидца» в плане историко-литературном, следует прежде всего отметить, что роман принципиально отличается от так называемой «тривиальной литературы», широко распространенной в Германии в 70-80-х годах XVIII столетия (Крамер, Торринг, Майер, Шпис и др.).
Роман Шиллера представляет собой также оппозицию по отношению к произведениям тех писателей-современников, которые ставили перед собой морализирующие цели — поучать и исправлять.
В отличие от них Шиллер стремился в своем романе к такому художественному исследованию истины, которое послужило бы «желанной разгадкой всего происшедшего».
Поэт был глубоко убежден в том, что его «Духовидец» должен приобрести исторически достоверный характер, стать произведением мемуарным. Об этом свидетельствует не только подзаголовок романа «Из воспоминаний графа фон О***», но и вступление к нему, где автор стремится непредубежденно объяснить и истолковать события, непосредственным участником которых он является.
Повествователь подчеркивает: «Я хочу рассказать одну историю, которая многим покажется неправдоподобной, хотя почти вся она происходила у меня на глазах... этот рассказ станет, если не ключом к тайне, то еще одной страницей в истории заблуждений человеческой души».
Роман «Духовидец» снабжен коротким вступлением, в котором писатель заявляет, что будет раскрывать события в форме объективного повествования, поскольку им владеет только «чистая и строгая истина».
Придание произведению формы «воспоминаний» объясняется еще и тем, что во второй половине XVIII в. в Европе была широко распространена мемуарная литература, особенно французская.
В этот же период Шиллер интересуется такими историческими книгами, как «Жизнь знаменитых женщин» Брантона, «Анналы царствования Елизаветы» Кемдена, «Об иезуитах и ренегатах, о святошестве и редкостных извращениях характера, и об инквизиции» Рейнальда. Кроме этого, он публикует в журнале «Талия» целую серию воспоминаний об иезуитах и религии. Многое из этого и послужило материалом для создания его романа «Духовидец».
В сфере литературы автобиографической, эпистолярной, собственно мемуарной Шиллера привлекали те ее жанры, в которых правдиво воспроизводились «пережитые автором» события.
Как справедливо отмечают современные критики, сам мемуарный жанр все более проникается эстетическим началом, «беллетризуется», становится органической частью художественной литературы».
Не случайно Ф. Шиллер в письме к Кернеру от 12 марта
Ярким примером воплощения подобного рода теоретических положений и явился сам жанр, в котором написан роман «Духовидец». Работа над романом (1786-1789) по времени совпадает с завершением третьего акта драмы «Дон Карлос».
В письмах о «Дон Карлосе» Шиллер позднее писал: «Драма должна была отразить в себе различные колебания, которым подвергались мой образ мыслей и чувства». К концу работы над драмой он приходит к мысли «выставит к позорному столбу все ее (инквизиции. — С. П.) черные пятна». Все это, естественно, диктовалось, исторической потребностью. Под влиянием этих факторов, вероятно, и возникла у Шиллера мысль о создании романа «Духовидец», основным лейтмотивом которого стала провозглашенная уже в «Доне Карлосе» свобода мысли.
«Внешним толчком» к написанию романа послужил не столько судебный процесс Марии-Антуаннетты, сколько уже возникшее в высших кругах недоверие к обманщикам типа Калиостро. Как сообщают исторические источники, «выступления» масона Калиостро пользовались вплоть до
Во второй половине XVIII в. немецкое масонство как религиозно-идеологическое течение достигает своего апогея. Первоначально масонский орден возник во Франкфурте-на-Майне и в Праге, затем появились кружки розенкрейцеров в Аугсбурге, Нюрнберге, Штуттгарте и других городах. Вскоре масонским центром становится Вена. В обильной масонской литературе в числе прочих имела широкое хождение популярная в ту пору идея так называемого «философского камня» как универсального средства, якобы поддерживающего вечную молодость, вызывающего души умерших, осуществляющего мнимую связь человека с духами и пр. В дальнейшем подобного рода псевдофилософские учения стали идеологической основой для создания и других, подобных масонским, организаций.
«Ни одна эпоха не благоприятствовала в такой степени возникновению всевозможных тайных сообществ, которые толкали общество к политическим интригам. Иллюминаторство приобрело огромное влияние и подготовило то умственное брожение, которым был ознаменован конец XVIII века». В раздробленной Германии именно поэтому идейные искания масонства нашли особенно благоприятную почву. Так, в северной части страны большой популярностью пользовалось, например, учение шведского мистика Сведенборга, а в остальной — Гамана, Лафатера, Якоби. Вера в потусторонний мир владела многими людьми из высших слоев общества.
Борьба между просветительским и мистическим мировоззрением приобрела общеевропейский масштаб. В последней трети XVIII в. доверие к масонским и иллюминаторским «мудростям» в Германии стало осуждаться публично. Так, в майском номере «Берлинского ежемесячника» (1786) некая Эльза фон Рекке из Курляндии, глубоко верившая ранее в «волшебный дар» Калиостро, неожиданно выступила с разоблачением его «чудес», а после появления в журнале таких сочинений, как «Известия о знаменитом пребывании Калиостро в Митаве», «О тайных связях иезуитов с магами», Рекке писала: «Теперь я могу с глубочайшей убежденностью заявить, что пребывание Калиостро в Германии, а также в Варшаве дает основание говорить о нем, как о хитром мошеннике, располагающем большими планами и злоупотребляющем доверием окружающих его людей». В том же
Просветительски настроенные писатели, естественно, не могли стоять в стороне от этой проблемы, тем более что розенкрейцеры обрушились на рационалистический метод их мышления, рьяно отстаивая философию мистицизма.
Такова была историческая, философская, социальная и литературная атмосфера, которая окружала Шиллера в пору создания романа «Духовидец».
Сюжетный стержень романа «Духовидец», как отмечалось в критике, «образует история немецкого принца, приехавшего в Венецию и ставшего здесь жертвой невидимой, но могущественной организации иезуитов, цель которой — обратить принца в католичество и посадить его на престол, где он был бы их послушным орудием».
Такая сюжетная коллизия, связанная с некоторыми реальными фактами, потребовала от автора, однако, известной романтизации образа центрального героя, равно как и фигур, находящихся на периферии повествования.
Уже говоря о характере принца, хотя и весьма условном (Шиллер но традиции не называет даже его имени), писатель с первых же страниц романа стремится дать читателю как можно больше «информации» о нравственном облике своего героя.
Вначале мы узнаем о том, что принц, действительно незаурядный человек, стремится вести свой образ жизни в соответствии со своим высоким положением, что он предпочитает находиться в стороне от светской жизни, а к «прекрасному полу» питает полное равнодушие. Вместе с описанием его положительных черт, в первую очередь мужества, с каким «он мог бороться с любым предрассудком и умереть за то, во что верил сам», автор показывает, что его герой все-таки не стал духовно зрелым человеком.
И здесь встает важный вопрос о методах воспитания, культивировавшихся в изображаемую эпоху. Речь идет главным образом о воспитании религиозном, теософском.
«Религиозная меланхолия была наследственным недугом его семьи, — узнаем мы из романа. — Принц и его братья получили воспитание, благоприятствующее этим наклонностям, и оно было поручено людям, которых именно с этой точки зрения отбирали, — то есть лицемерами или фанатиками». «Во всех его представлениях о религии было что-то устрашающее, и ее грозный, беспощадный образ сильнейшим образом владел его пылким воображением и удержался в нем надолго. Его бог был страшилищем, карающей десницей; вера в него — рабским трепетом...».
Что же касается проблемы светского воспитания, то Шиллер затрагивает ее лишь вскользь. Однако нам хорошо известно, какое важное значение имела эта проблема в период позднего Просвещения. Не вызывает никаких сомнений то, что и сам Шиллер испытал на себе пороки немецкой системы воспитания, о чем, например, свидетельствует его письмо к Г. Кернеру от 15 апреля 1786 года: «Я до боли чувствую, как страшно много мне еще надо учиться, сеять для того, чтобы снять жатву. На самой благодатной земле терновнику не принести персиков, но персиковому дереву не взрасти на пустынной почве».
Не ограничиваясь описанием только духовных свойств натуры принца, повествователь довольно конкретно показывает его и как личность, долженствующую выполнять и определенные политические функции: принц оказывается непосредственно связанным с царствующим двором ***ского княжества.
Недостатки в процессе духовного, интеллектуального формирования характера центрального героя явились — как видно из логики повествования — одной из основных причин того, что он не обладал устойчивым мировоззрением и не был ортодоксально верующим. Он скорее был «протестантом по традиции, чем по убеждению». Пытаясь определить религиозные воззрения принца, повествователь лишь неопределенно сообщает о нем: «Масоном, насколько я знаю, он никогда не был». Этими скупыми словами писатель не только подчеркивает неустойчивость его поведения, но и в определенной степени напоминает о распространении масонства в Германии в конце XVIII в.
В «Письмах о «Дон Карлосе» Шиллер категорически заявил: «Я не иллюминат и не масон». Это откровенное признание Шиллера — свидетельство его отношения к мистическим союзам. В масонские же ложи вступали в это время даже некоторые его великие современники — Лессинг, Гердер, Гёте, Виланд и др. Все они, конечно, стремились быть в стороне от мистических масонских актов.
Однако что же привлекало их в масонстве?
С полной уверенностью можно утверждать, что первоначальные масонские идеи «братства» и гуманизма были созвучны мировоззрению просветителей, например для Лессинга. С давних пор люди, по утверждению Лессинга, стремились к взаимопониманию, но никогда не называли себя при этом масонами. Гердер же стремился найти в масонстве прежде всего идеал «гуманности и великодушную любовь». Поскольку вскоре эти аристократические секты стали открыто выступать против демократического движения, он со временем полностью отказался от их идеологии и уже в
Указанные религиозно-философские и нравственные проблемы эпохи не могли не найти своего отражения и в «Духовидце», своеобразно преломившись в романе.
То, что тайному обществу удалось опутать легковерного протестанта, и то, что он перешел в католичество, — должно быть воспринято не как факт реального «прозрения», но как естественный результат эволюции мировоззрения героя, который, разумеется, не мог и не должен был прийти к «атеизму» (в современном понимании этого слова), но пришел к отказу от философии мистицизма. По мере развития действия мы можем проследить, какими этапами шло это «обращение» и каким средствам католическая «церковь, сделавшая в лице принца ***ского столь блестящее приобретение... была обязана своей победой».
Вначале принц легко поддается всякого рода мистификациям, даже не пытаясь критически их осмыслить. В дальнейшем же он, уверовав в силу своего ума, благодаря саморазоблачению Сицилйанца, освободился (но не до донца) от противоречий своего мировоззрения: «удар, разрушивший его веру в чудеса, поколебал и его здание религиозных убеждений». И если все же он в результате и приходит к католицизму, то лишь под воздействием власти более могущественной, чем мнимые чудеса Сицилианца.
Кульминационным пунктом первой части романа является эпизод с вызовом духов. Спиритический сеанс, на котором мнимый Сицилианец (в действительности мошенник и ловкий мистификатор, о чем пока никто из действующих лиц не знает, но читатель уже догадывается) «демонстрирует» по настоянию принца свои «сверхъестественные» способности — представляет собой эпизод, включающий в себя целый ряд внешне незначительных, но очень красноречивых деталей.
Шиллер как бы предваряет читательское впечатление от тех фантастических происшествий, которые будут изображены ниже. Он подчеркивает, что «почти все гости решительно утверждали, что таинственные явления чаще всего сводятся к простым фокусам». Характерно отношение, например, англичанина ко всему происходящему. «Ваш принц благородный человек, — говорит он повествователю, — мне жаль, что он связался с обманщиком».
Заметим, что в течение всего этого «таинственного действия» среди участников все время присутствует неизвестный «русский офицер», который обращает на себя внимание читателя своей необычной внешностью. Давая портрет этого персонажа, автор делает акцент на том, что в дальнейшем этому человеку предстоит сыграть особую роль в развитии событий.
Все последовавшее за тем — подготовка к мистическому акту, подробное описание его аксессуаров, а также сам акт — выливается в изображение узнавания принцем в мнимом русском Армянина. Неожиданное появление сыщиков приводит к тому, что мы окончательно убеждаемся в его связи с инквизицией: как явствует из текста, именно по его донесению и были посланы сыщики, чтобы арестовать шарлатана Сицилианца.
Ключевой сценой первой части романа является заключительная беседа принца с арестованным Сицилианцем. Раскрытие последним истинной подоплеки его «таинств» и есть тот рубеж, перейдя который, принц отбрасывает все свои предрассудки, внушенные ему порочным воспитанием и бывшие для него прежде одним из основных элементов мировоззрения.
Таким образом, логика раскрытия характера принца такова, что, будучи от природы человеком трезвого ума, но в силу недостатков воспитания временно одержимый мистицизмом, он сам в конце концов находит вполне реалистическое объяснение многим «чудесам», которые остались не до конца объясненными и раскрытыми Сицилианцем. Не случайно именно принца автор делает истинным разоблачителем и таинственного Армянина, функция которого становится ясна читателю лишь в самом конце романа.
Аналитический ум принца позволил ему увидеть подлинный смысл отношений двух «чародеев». Сицилианец оказался своего рода ширмой, прикрывающей авантюры Армянина, мошенника несравненно более крупного масштаба. Дискредитация «чудес», производимых Сицилианцем, приводит к полному отказу от философии мистицизма, но никак не к освобождению из-под таинственной власти Армянина, которая в конце концов полностью подчиняет себе героя.
Необычный приключенческий сюжет позволил Шиллеру показать эволюцию характера и мировоззрения человека. Показу этой нравственно-философской эволюции героя подчинена и внутренняя композиция произведения: последовательность сцен и событий, расстановка действующих лиц, чередование сюжетных и идейных центров, а также одноплановость основной интриги.
Процесс трансформации характера принца продолжается и во второй части произведения. Причем конкретные признаки этой трансформации вновь даются здесь «изнутри» (посредством проникновения повествователя в характер героя). Так, например, процесс нравственной деградации принца прослеживается по его письмам, рассказывающим о дальнейшем его пребывании в Венецианской республике.
Во второй части романа, так же как и в первой, мы знакомимся с целым рядом событий, которые, однако, даже внешне имеют более реалистический характер. Это например, описание следующих сцен: расточительный образ жизни принца; эпизод с необычным спасением маркиза Чивителлы, в результате которого последний становится кредитором принца; сцена в таверне, где какие-то адвокаты пытаются выведать у слуги принца об обстоятельствах жизни его господина, и, наконец, история любви героя к неизвестной гречанке. Как видим, здесь нет ни таинственных пророчеств, ни предсказателей, ни мнимых призраков и т. п.
Однако в повествовании последовательно проступает мысль о том, что за всеми, этими фактами стоит чья-то могущественная сила, присутствие которой ощущают и сам принц, и автор писем барон фон ф*** некоторые другие герои. Подтверждается это тем, что все чаще в романе появляются упоминания о таинственном Армянине. Впервые его «узнает» (во вставкой новелле, рассказываемой маркизом Чивителлой) камер-юнкер Ц***. «Это наш Армянин, — восклицает он, когда речь заходит о неизвестном, встреченном Чивителлой, — это мог быть только; наш Армянин и никто другой!». О нем же упоминает и сам барон после рассказа Бьонделло о происшествии в таверне: «Может быть, тут снова действует Армянир».
Роль этого грозного «господина», чаще всего остающегося «за кадром», сводится к тому, что он, будучи психологически более сильным типом, нежели принц, в конечном итоге полностью разрушает его зыбкую философию, доводит до крайнего предела его внутренние противоречия и тем самым достигает своей цели.
«Образ действия принца, — писал Шиллер в одном из своих писем к X. Г. Кернеру, — ...должен вытекать не из его философии, а из его неуверенного положения между этой философией и культивированными им прежде чувствами, из недостаточности этого рассудочного знания и из происходящей отсюда беспомощности его существа».
Диалог принца, изложенный в четвертом письме, является, на наш взгляд, кульминацией романа, его вторым идейным центром.
Герой выдвигаетесь целую концепцию человеческого бытия, в которой перекрещиваются важнейшие вопросы, несомненно, волновавшие и самого писателя.
Первый вопрос — это вопрос социального детерминизма. «Что такое мысами как не создание общественного мнения? — говорит он. — Для вас, владетельных князей, общественное мнение — все! Оно — наша нянька и воспитательница в детстве, оно — наша законодательница и возлюбленная в зрелые годы, наша опора в старости». Но будучи в состоянии «вырвать из своей памяти все безумные заблуждения», воспитанные в нем выходцами из его же среды, принц предпочитает обманывать себя «искусственными наслаждениями».
Второй вопрос встает перед героем вследствие того морального кризиса, который вместе с верой в «чудесное» разрушил и его религиозные представления. Теперь перед ним чисто онтологическая альтернатива: «либо он должен жадно ловить скудный подарок судьбы — сегодняшний миг, либо — смириться с неизбежным переходом в небытие». И принц безоговорочно избирает первое. «...Заключив все свое существование в границы сегодняшнего дня, — говорит он, — я еще больше ценю то земное, которым я чуть было не пренебрег ради тщеславной мечты о завоевании мира потустороннего».
Этот выбор героя согласно логике его характера предопределили и дальнейшее событие его жизни — его романтическую любовь к таинственной незнакомке. Если прежде, как мы помним, к прекрасному полу «он проявлял полнейшее равнодушие», то теперь, отдавшись всецело радостям земной жизни, принц оказывается одержим страстным чувством к прекрасной женщине.
Любовная коллизия позволяет нам увидеть еще одну сторону мировоззрения принца. Герой развивает свою собственную романтическую философию любви. Любовь для него оправдана его жизненным выбором, и вместе с тем она оказывается выше повседневной реальности. Однако все обстоятельства его любви оказываются подчиненными той могучей и таинственной власти, о которой мы говорили выше.
Мы узнаем, что таинственная гречанка, оказавшаяся на самом деле соотечественницей героя, была жертвой чьих-то тайных козней, приведших ее в Венецию, где она опять-таки благодаря «странному стечению обстоятельств» и встретила своего возлюбленного. Кроме того, в перипетиях любовной интриги и в ее трагической развязке вновь обнаруживаются противоречия в характере принца.
Рука таинственного «господина», настойчиво направляющего принца к католичеству, явилась причиной смерти его возлюбленной (из письма барона мы знаем, что она была отравлена). Незримое присутствие этого таинственного «господина» принц чувствовал и раньше, особенно после получения письма от ***ского двора.
Таинственный Армянин и оказывается в дальнейшем тем самым «господином», который управлял судьбой героя. Цель его, как мы уже говорили, совершенно ясна: привести принца в лоно католической церкви, что, по-видимому, диктовалось важными политическими соображениями. О них в произведении говорится весьма глухо, и тут мы можем оставаться только в области догадок и предположений.
Цели своей «господин» в конце все-таки достигает. Из последней записки ф*** мы узнаем, что принц так или иначе оказывается в руках Армянина и что он прослушал первую католическую мессу. Такая развязка, на первый взгляд, противоречит логике характера принца. Дело в том, что его возлюбленная, умирая, выразила желание, чтобы он встал на путь, который и ее «вел на небеса», т. е., очевидно, чтобы он принял католичество. Однако, как гласит письмо Ф***, у принца «все же сохранилось достаточно силы воли, чтобы отказать этой верующей душе в ее последней просьбе».
Казалось бы, страстно влюбленный принц должен был, повинуясь уже одному этому обстоятельству, прийти к цели, которую преследовал Армянин, но неожиданно герой оказался стойким. И все же, как мы уже говорили, цель была достигнута.
Спрашивается, как же это произошло?
Принц приходит к католицизму не потому, что вновь уверовал в бога и загробную жизнь и отказался от радостей земного бытия, а как раз вопреки этому, о чем свидетельствует красноречивая мысль Генриетты: «Единая католическая церковь... вероятно, не оставит его (принца. — С. П.) без средств для того, чтобы он мог продолжать тот образ жизни, которому эта церковь и обязана своей победой». Стало быть, не внутреннее религиозное чувство привело героя к ортодоксальной религии, но возможность с помощью «ренегатства» вновь предаваться земным радостям. Именно такова, как нам думается, логика раскрытия характера героя романа «Духовидец».
Художественные принципы, используемые Шиллером, не отличаются многообразием, что обусловливается, на наш взгляд, самой эстетикой писателя.
Характер принца предстает перед нами главным образом в освещении двух повествователей: графа фон О*** и барона фон ф***. Это определяет и внешнюю композицию произведения (книга первая написана в форме воспоминаний, вторая — имеет эпистолярную форму, причем и в нее вкраплены (высказывания главного повествователя графа фон О***) п. Фигуры обоих повествователей, по сути дела, не имеют сколько-нибудь четких очертаний: им предназначена чисто «техническая» роль рассказчиков, и служат они для того, чтобы обрисовать натуру принца, его характер, противоречия его мировоззрения и все обстоятельства его судьбы с двух различных точек зрения.
Столь же подчиненную функцию выполняют и другие действующие лица, находящиеся на периферии повествования: Венецианец, Сицилианец, английский лорд Сеймур, камер-юнкер фон Ц***, принц фон Кардинал А*** и др. Одни связаны тайными нитями с Армянином и служат орудием исполнения его главной цели, другие являются в какой-то. мере его разоблачителями.
Несколько особняком стоят фигуры маркиза Чивителлы и слуги принца Бьонделлы. С появлением первого в романе начинает звучать мотив власти, денег: Чивителла становится кредитором принца, инсценирует карточную игру, которая приводит героя к полной зависимости от маркиза. Бьонделло представляет собой традиционный тип верного и благородного слуги, достаточно распространенный в литературе.
Армянин предстает перед нами в самых различных обличиях: то в виде незнакомца в маске, то в одежде францисканского Монаха, то в облике таинственного русского офицера и т. п. Его таинственность настойчиво подчеркивается рядом сцен. Однако роль этого загадочного персонажа сводится к вполне определенным «земным» действиям.
Нет сомнения, что так называемый Армянин был одним из вожаков некоего тайного ордена, руководители которого «рассчитывали на то, что безвольный' и лишенный честолюбия юный правитель будет всецело находиться в их власти, станет марионеткой в руках святош-авантюристов».
Такова основная идейная тенденция «Духовидца», художественной реализации которой служат все рассмотренные нами проблемы.
Художественное своеобразие романа «Духовидец» проявляется прежде всего в синтезе элементов сентиментализма и романтизма с элементами реалистического повествования. Само собой разумеется, что роман — это не простой конгломерат различных художественных принципов, но сложное переплетение определенных творческих установок автора.
Так, отдельные черты сентиментализма можно усмотреть в пристальном внимании Шиллера к внутренним переживаниям своего героя, к тем противоречиям и метаниям, которые обнаруживаются в процессе его духовной трансформации, в той неожиданной вспышке страстного чувства, которую пробудила в нем любовь. Элементы сентиментализма проявляются и в описании чувств, которые испытывают повествователи, рассказывающие о судьбе принца, и в лирически окрашенных пейзажных зарисовках.
Влияние романтического метода нам представляется более ощутимым. Несмотря на то что роман «Духовидец» был написан в предреволюционную эпоху, Шиллер уже и здесь обнаруживает определенные подступы к эстетике романтизма. Основные черты его проступают в сфере характерологии, а также в сюжетосложении. Так, характер главного героя предстает как выражение одного доминирующего качества: неустойчивого, противоречивого мировоззрения, «неуверенного положения» между философией и чувством. Сюжет, как мы видим, также насыщен яркими романтическими эпизодами необычного, авантюрного характера. Романтическим ореолом окружена и вся история любви принца. Что касается отдельных тенденций реализма, то они, на наш взгляд, выступают в виде системы мотивировок поведения героя. Так, все необычные «таинственные» происшествия с принцем объясняются вполне реальными мотивами и целями. Более того, при достижении этих целей, используются вполне «материальные» средства. Да и сама цель обращения принца в католичество была достигнута также «материальным путем», хотя и иным: принц, не желавший отказаться от радостей земной жизни, оказался перед угрозой разорения, а католическая церковь, очевидно, была способна улучшить его положение.
Идейная художественная проблематика романа Шиллера направлена не только против философии мистицизма, но и носит вполне ощутимый антиклерикальный характер. Эта антиклерикальная направленность, конечно, ни в какой мере не может быть истолкована как тенденция к атеизму (хотя на это и указали некоторые современники писателя). Но и она уже свидетельствует о важной стороне мировоззрения Шиллера-просветителя.
Роман «Духовидец» остался незаконченным, за что критика и по сей день упрекает Шиллера. Но, как справедливо заметил Т. Манн, писатель «показал, как можно, хорошо владея пером, создать первоклассную и занимательную повесть с захватывающей интригой. Незачем было дописывать ее до конца, тем более, что лучше она от этого не стала бы».
В этой «незавершенности» произведения кроется «дразнящая перспектива». Шиллер, несомненно, рассчитывал на вдумчивого и прозорливого читателя, который мог бы задуматься над дальнейшей судьбой принца и составить ясное представление о характере и мировоззрении человека эпохи Просвещения.
Художественная ценность романа неоспорима. Яркая авторская речь, философские рассуждения, психологическая тонкость в обрисовке действующих лиц, общая прогрессивная направленность — все это делает произведение одним из ярких образцов немецкой художественной прозы конца XVIII в.
Л-ра: Филологические науки. – 1972. – № 5. – С. 27-36.
Произведения
Критика