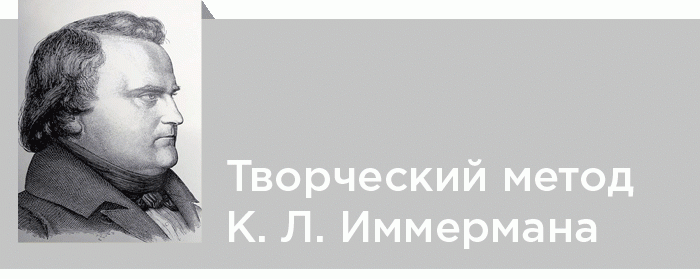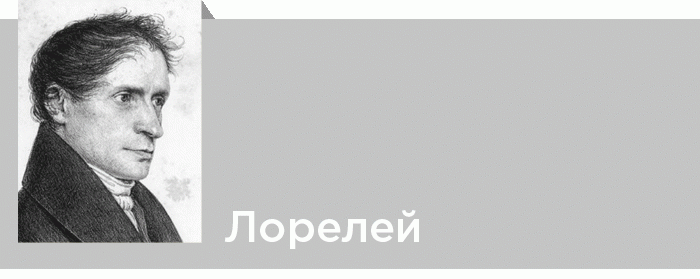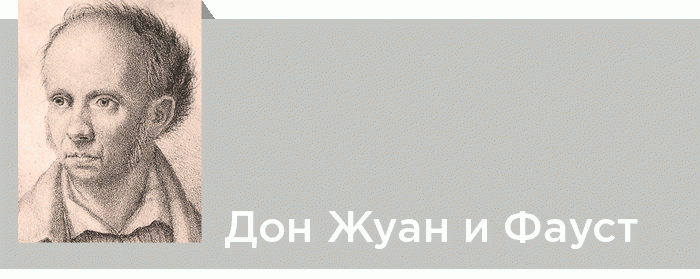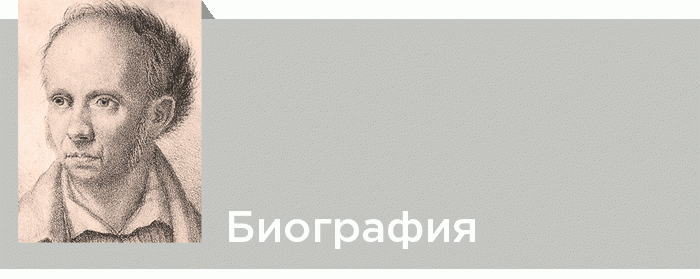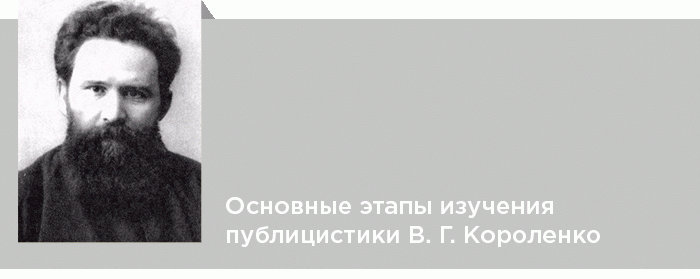Жанровое своеобразие комедии X. Д. Граббе «Шутка, сатира, ирония и кое-что посерьезнее»
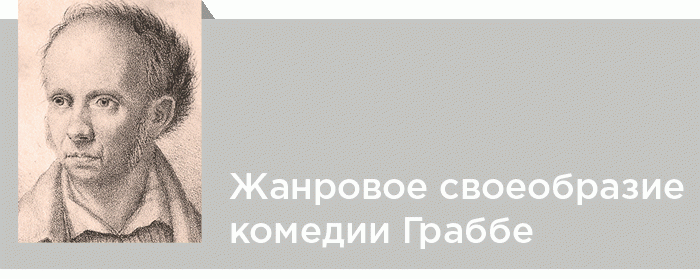
Л. В. Эйсфелье
20-30-е годы XIX века можно охарактеризовать как период переходный от романтизма к реализму, то есть сознательному стремлению сделать литературу органом познания и объективного отражения действительности. Этот переход не был спокойным, он сопровождался длительным и мучительным кризисом. В произведениях этих лет мы нередко находим настроения глубокого пессимизма, разочарование в идеале свободы, просвещения, разочарование в поэзии, дружбе, едко саркастическое отношение ко всему. Новое отношение к действительности, новое мировосприятие требовали от художников новых средств выражения, создания новых форм. Об этом свидетельствуют творческие искания Гейне, Бюхнера, Ленау, Пушкина, их полемика с романтиками.
Именно в это время, в
«Я навалился на философию. Искусственный язык ее отвратителен; следовало бы найти человеческие слова для человеческих понятий. Однако это мне не мешает. Я смеюсь над собственной глупостью и стараюсь не забывать, что, в сущности, все равно на этой земле делать нечего, остается переливать из пустого в порожнее. Но ведь надо же на чем-то ехать по этой планете; вот я и оседлал осла, не боясь недостатка в корме: лопухов и дураков хватит, пока еще не забыто искусство книгопечатания».
Здесь, вероятно, было бы уместным вспомнить, как болезненно переживал кризис романтического мироощущения в 1823-1824 гг. А. С. Пушкин, у которого в это время можно обнаружить мотивы, чуждые его поэзии и после не повторявшиеся. 1 декабря
...Вот же вам совет;
Внемлите истине полезной;
Наш век — торгаш; в сей век железный
Без денег и свободы нет.
Что слава? — Яркая заплата
На ветхом рубище певца.
Нам нужно злата, злата, злата;
Копите злато до конца!
Это провозглашает «хозяин жизни», книгопродавец, и сломленный поэт смиренно соглашается и переходит на прозу: «Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся».
Та же тональность звучит в предисловии к первому сборнику Граббе, вышедшему в
Как видим, Граббе, как ему казалось, удалось найти верный подход к жизни.
В предисловии к комедии говорится: «Если читатель не поймет, что в основе этой комедии лежит определенное мировоззрение, то она не заслуживает одобрения».
Современники по достоинству оценили эти «пробы пера»: «Такой значительный, в высшей степени своеобразный талант, такая заброшенность, такая сила духа при абсолютном бездушии, такое поистине здоровое чувство собственного достоинства при таком общем отказе от самого себя мне еще никогда не встречались... В ней (комедии. — Л. Э.) осмеивается все высшее и низшее, во что верит и что знает человек, и при этой тенденции к универсальности невозможно пьесу, несмотря на многие отдельные яркие моменты, назвать комедией». Это мнение Роберта Шумана. Английский же критик заявляет: «Каковыми бы ни были недостатки произведений м-ра Граббе, с другой стороны, эти произведения, конечно, должны быть признаны новыми и оригинальными».
Главное действие «Шутки», развивающееся вокруг Лидди и трех претендентов на ее руку и сердце — жениха Вернталя, друга детства Мольфельза и барона Мордакса, — пародирует любовную тематику современной автору драматургии Шредера, Иффланда, Коцебу, Гроссмана и др.
В качестве «alter ego» автора в комедии выступает черт, отправленный на землю по причине генеральной уборки в аду. Попав к людям с твердым намерением «сеять зло», он оказывается настолько бессильным и беспомощным перед их алчностью, жестокостью, коварством, что сам в конце концов попадает в ловушку. И быть бы ему ярмарочным шутом, не освободи его от мучений бабушка, пришедшая на выручку.
В изображении черта Граббе следует традициям народного кукольного театра и народных сказок, где у этого персонажа совершенно отсутствуют какие-либо признаки демонического духа зла и ада, каким он рисуется в христианской демонологии. Он любит подшутить над человеком, но часто подчиняется ему. Сказки изображают его скорее в комическом, чем в отвратительном или ужасном виде. О том, что своим происхождением черт обязан народным традициям, свидетельствует то, что создавалась комедия в период увлечения Граббе и его друзей кукольным театром, очень популярным в то время. У них был даже свой кукольный театр, где, в числе прочих пьес, разыгрывались также трагедии Шекспира.
Внешне «Шутка» (особенно финал) напоминает комедии Тика, но если автор «Кота в сапогах», «Принца Цербино», «Мира наизнанку» лишь «посмеивается над теми зрителями, которые будут искать глубокого смысла в его сказочных пьесах». Это отличает «Шутку» также от комедий Платена, так и не вышедшего за рамки частного, бравшего очень узкий круг тем — только литературу (пародии «Роковая вилка» и «Романтический Эдип»), — и сближает с комедией Бюхнера «Леоне и Лена», которую А. В. Карельский сравнил с «грандиозным капустником на романтические темы». Однако комедию Бюхнера отличает более глубокое проникновение в суть изображаемых явлений. Граббе лишь называет симптомы болезни времени, в то время как Бюхнер старается вскрыть именно причины существующего порядка.
Уже в зачине комедии, в 1-й сцене I акта, можно видеть, что автор выступает против пресловутой немецкой учености с ее претензией на гениальность. К пьянице сельскому учителю, для которого тоска смертная объяснять что-либо своим ученикам («Сегодня предстоит трудный день — мне нужно вдолбить крестьянским мальчишкам первое склонение. Сын крестьянина и первое склонение — это все равно что возжелать натянуть на ворона чистую рубаху!»), приходит Тобис со своим сынком Готлибхеном. Мать этого недоросля решила, что он непременно должен стать ученым, потому что у него глисты (это ведь отличает его от окружающих!). И прохвост учитель соглашается за девять жирных гусей и бочонок шнапса к каждому дню святого Мартина представлять Готлибхена в качестве гения, которому для поддержания своей репутации надлежит лишь изредка произносить что-нибудь не очень вразумительное: «Я хочу тебе сказать, что ты должен делать во дворце, чтобы прослыть гениальным: тебе нужно заткнуться, тогда они подумают: черт побери, он, вероятно, о многом умалчивает, потому что не говорит ни слова; или тебе следует говорить сумасшедшие вещи, тогда они подумают: черт побери, он, вероятно, сказал нечто глубокомысленное, ибо мы, понимающие обычно все, не понимаем этого; или ты должен есть пауков и глотать мух, тогда они подумают: черт побери, он — достойный муж (или, что тебе больше подошло бы, достойный юноша), ибо он не питает отвращения к мухам и паутине... Нечто подобное принесет тебе славу оригинальности, ты, ублюдок!».
Далее во 2-й и 3-й сценах I акта перед нами уже готовые «светила» науки, каковым Готлибхену еще только предстоит стать. Наткнувшись в ясный солнечный день 2 августа на черта, замерзшего с непривычки «вопреки всем правилам и наблюдениям», они долго и нудно спорят, выдвигая и отвергая одну гипотезу за другой, о том, кто же это может быть: рецензент, пасторская дочка (слишком уж глупое и злобное выражение лица) или еще кто-нибудь. Предположение о том, что это черт, отбрасывается только потому, что черта никак не вместить в их «систему»: «Это ab inito невозможно, ибо черт не подходит для нашей системы!». Характерная черта немецкой «учености» — любое отклонение от правил должно быть учтено и соответствующим образом внесено в «систему», а то, что не вписывается в нее, уже как бы и не существует. В 3-й сцене III акта, уже после того, как отогревшийся в пламени свечи и пришедший в себя черт представился всем как каноник Теофил (гр. theos — бог, phileo — люблю) Христиан Тойфель (нем. Teufel — черт), горе-ученые, уже окровавленные, продолжают ломать свои «гениальные» головы здоровенными кусками камней, пытаясь выяснить, что же это за каноник, который без всяких вредных для себя последствий может сунуть палец в огонь. Они высекают лишь искры, не более:
«Все вместе. Мы нарочно поломали себе головы, но все никак не можем выяснить, что же за парень этот так называемый, сующий палец в огонь каноник! О! О! О!
Один из них. Не падать духом, господа! Наука зовет! Давайте еще раз попробуем! А ну-ка еще раз по головам!».
Таким образом, разоблачая в лице школьного учителя, так сказать, первой стадии в процессе создания «гениев», и естествоиспытателей современную немецкую систему воспитания, Граббе тем самым развенчивает идеологию филистерства.
Вообще весь свет, как тот, так и этот, предстает как «посредственная комедия, нацарапанная безусым желторотым ангелом, ...который учится еще в седьмом классе и у которого сейчас каникулы», в которой все вывернуто наизнанку, в которой черт самим папой еще в средние века был провозглашен «почетным членом общества поощрения христианства среди евреев и рыцарем гражданских заслуг за то, что держал для него чернь в постоянном страхе». И, конечно же, не случайно черт в комедии, которую следует рассматривать как острую сатиру на современность, представляется каноником. В этот период, когда трон и алтарь выступали в нерушимом единстве, стараясь использовать религию, чтобы задушить даже намек на свободомыслие, черт в обличии священника приобретал глубокое значение как символ времени — он олицетворял клерикализм, пародировал его своей фигурой.
В этом мире настолько смещены и извращены все понятия добра и зла, что уже не разобрать, что заслуживает осуждения, а что — восхищения, поэтому оружием становится усмешка, ибо даже убийц не наказывают, над ними только смеются: «Над убийцей мы смеемся до тех пор, пока он и сам не рассмеется над тем, что взял на себя труд убить человека. А самое жестокое наказание проклятого состоит в том, что он должен читать «Абендцайтунг» и «Фраймутигер», при этом ему запрещено плевать на них». Вспомним, что писалось это в период Священного союза, когда любой выпад против церкви или правительственного органа расценивался как серьезное политическое выступление.
Не заслуживают серьезного отношения со стороны черта, а следовательно, и автора новомодные увлечения философскими учениями, которые не только не помогают разобраться в окружающем хаосе, но еще более усиливают путаницу, так как они подвергаются фальсификации со стороны филистерства, стремящегося приспособить их к своим узким представлениям. «В свободное время мы обычно делаем из духов, поскольку они невидимы, а следовательно, прозрачны оконные стекла или очки. Вот недавно моя бабушка водрузила на нос обоих философов — Канта и Аристотеля, потому что ей вздумалось разглядеть суть добродетели, но так как у нее из-за этого только потемнело в глазах, она вместо этого сделала себе лорнет из двух крестьян из Померании, и тут уж она все смогла рассмотреть, как хотела». Итак, единственным средством избавления от «философского тумана» автор считает народную мудрость. Об этом вполнё серьезно говорится в статье «О шекспиромании», написанной в
Мир для автора — дьявольский театр, где в роли драматурга и режиссера-постановщика выступает черт, а люди — лишь марионетки: «Я, собственно, уже поставил несколько произведений, вот, например, недавно — Французскую революцию, трагедию в четырнадцати годах с прологом Людовика XV и хорами эмигрантов. Однако пьеса была очень плохо принята публикой, особенно из-за допущенной в ней ошибки — пьеса гильотинировала критиков. Я даже не могу, несмотря на то, что мне тайно помогают некоторые друзья; возобновить эту постановку ни в Пруссии и Австрии, ни в Англии. Слишком строга цензура. Все же я не теряю надежды поставить ее с небольшими изменениями, коль скоро герцог Ангулемский не выпьет всю мою испанскую горечи, а сейчас я занят фарсом, который выйдет в издательстве турецкого императора под названием «Греческая освободительная борьба, сочиненная автором Французской революции». Здесь явственно ощущается неверие в способность народов к революционной освободительной борьбе, что характерно для периода безвременья. Бюхнер: «Люди готовы пойти в огонь, когда горит пунш!». Пушкин в стихотворении «...Свободы сеятель пустынный»:
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
В этом мире наживы ничто не свято, все продается и все можно купить по сходной цене. Позднее, в «Золушке», об этом будет сказано так: «...иного можно получить за один пфенниг, а зачастую и вовсе бесплатно...». В «Шутке» жених продает черту невесту, чтобы расплатиться с долгами.
Вернталь. ...Что вы мне предлагаете за Лидди? Она удивительно хороша.
Черт. За ее красоту я дам 2000 рейхсталеров в обычной монете.
Вернталь. У нее ум!
Черт. За него я удержу 5 грошей 2 пфеннига, потому что ум у девушки — недостаток.
Вернталь. У нее мягкая, нежная рука.
Черт. Это смягчает пощечины: за нее я плачу 7000 рейхсталеров золотом.
Вернталь. Она еще невинна!
Черт (делает кислую мину). Ах, есть невинность, нет невинности; за нее я вам дам не более 3 грошей 1 пфеннига медью.
Вернталь. Сударь, известно ли вам, что фунт баранины стоит больше 4 грошей?
Черт. Ба, да с тех пор, как ухудшилось освещение на улице и введены новые пошлины, баранина очень подорожала, а невинность совсем упала в цене...
Вернталь. Но у Лидди к тому же чувство, воображение...
Черт. Чувство портит цвет лица, от воображения появляются круги под глазами и портится суп. За весь хлам я из чувства юмора дам драйер.
Торг продолжается довольно долго, и в конце концов прекрасная Лидди продана за 19 999 рейхсталеров, 22 гроша, 2 пфеннига. (Заметим, кстати, как низко теперь оценивается автором романтический «хлам», за который только, «из чувства юмора» он может дать ломаный грош.)
Как видим, вся действительность посленаполеоновского времени с разложившейся феодальной аристократией, захваченной духом наживы, с вечно пьяными школьными учителями, псевдоучеными предстает в изображении Граббе как ад, созданный, чтобы мучить, калечить людей, но отнюдь не приспособленный для нормальной жизни. Кстати, ад Реставрации находится совсем рядом, он вполне досягаем, предлагается даже его точный адрес: «Отсюда, из деревни, он несколько далековат; но если вы хотите попасть туда как можно скорее, вам следует поехать в Берлин, а там пойти за Кенигсмауэр или в Дрездене зайти в Фишергассе, а в Лейпциге — в Глитчергассе, или поехать в Париж и зайти в Пале-Рояль; от всех этих мест Тартар лишь в пяти минутах, к тому же вы сможете проехать туда по замечательным, отлично усовершенствованным дорогам...». Об адской действительности напоминает еще одна сцена торга — черт обещает барону Мордаксу (нем. Mord — убийство) добыть прекрасную Лидди, невесту Вернталя, но «при условии».
Барон. Любые условия, какие вам заблагорассудятся.
Черт. Во-первых, вы должны отправить своего старшего сына изучать философию.
Барон. Хорошо.
Черт. Во-вторых, вы должны убить тринадцать подмастерьев.
Барон. Ты считаешь меня дураком, мошенник? Что за глупые требования? Убить тринадцать подмастерьев! С чего же это именно подмастерья?
Черт. Потому что они самые невинные.
Барон. Действительно! — Но тринадцать! Так много! Нет, в крайнем случае я снесу головы семи, но уж никак не больше!
Эту сцену можно расценивать как выпад против трагедии рока с ее числовой магией. Подчеркивая случайность, абсурдность выбора, Граббе дискредитировал и десакрализовал представления о числах. В конце концов сходятся на двенадцати, а тринадцатому лишь будут переломаны ребра. Но здесь барон вдруг смущается:
Барон: Видите ли, у меня новый сюртук и новый белый жилет, а во время убийства они наверняка сильно запачкаются.
Черт: Если только это! Вы же можете повязать салфетку!
Итак, опять убийца, которого смущает лишь возможность перепачкать новый жилет, а вовсе не возмездие за содеянное и чудовищность его. В «Готланде»:
У короля и вовсе много прав: имеет право, например,
Он произвол творить, чинить насилья,
Иль, скажем, право на убийство масс...
Позднее эту так называемую элиту Гейне заклеймит в «Путешествии по Гарцу».
Большое место в комедии отведено критике современной культуры и, в частности, литературы. Именно той «литературы», бездарной и пошлой, которая в посленаполеоновский период буквально вытеснила истинные произведения искусства и которая была частью культурной политики Меттерниха. В сатирической пьесе Граббе названы имена всех или почти всех создателей такого рода литературы. Их автор объединил под понятием «дамские писатели», а Пушкин называл их пошло-сентиментальные творения «коцебятиной». Граббе обвинял их не в отсутствии таланта, а в том, что они приукрашивали и расцвечивали жалкую немецкую действительность. Взгляды его выражает в драме Мольфельз (ит. rnolle — мягкий; нем. Fels — скала; нем. Moll — минор), только что прибывший из Италии, любимой романтиками страны, куда, в «апельсиново-макаронный» рай, стремятся герои «Леонса и Лены». Он выступает с обвинением против бездарного литератора Раттенгифта (нем. Rattengift — крысиная отрава): «...нравится мягкое, пусть это будет лишь мокрая грязь, но вы в первую очередь и постоянно должны придерживаться вкуса дам, потому что они, коих еще никогда I, ни один истинный поэт не признавал компетентными судьями, считаются сейчас в области искусства высшей инстанцией...». В полемическом запале Граббе поместил в ад, который занимается изучением продукции именно такого рода, даже маркиза Позу за риторически-идеалистический пафос и Валленштейна за «филистерскую слабость».
Но если критика «дамских писателей» остается только в области речевых мотивов, то совсем иначе обстоит дело с «Воспоминаниями» Казановы и «Эротическими записками» Августа Фишера. Эти писатели служат развитию действия: школьный учитель использует их в качестве приманки в клетке, куда он собирается поймать черта. И черт, выбирая из двух зол (школьный учитель с его палочными методами воспитания и эти книги) меньшее, попадает в клетку. Таким образом, они являются звеном в цепи драматического действия, хоть и побочного. То, что именно данные авторы выбраны в качестве движущего момента в развитии действия, свидетельствует, во-первых, об их огромной популярности, а во-вторых, еще раз подчеркивает, что учителя с их методами наносят куда больший вред, чем даже порнографическая литература или мемуарная, которую Граббе ставил ничуть не выше.
Формально финал комедии выдержан в духе Тика, постоянно стремившегося разрушить сценическую иллюзию. Когда оба злодея — Мордакс и Вернталь — должны понести заслуженное наказание от дядюшки Лидди (тоже барона), они покидают сценическую площадку: «Ха, такова-то награда за то, что я так божественно играл свою роль? Вы думаете, я не знаю, господин театральный барон, что вы — актер и чтобы ничего не сможете мне сделать? — Быстро, господин фон Вернталь, давайте спустимся в оркестр к музыкантам. Они мои ближайшие друзья и пальцем нас не тронут!».
Однако, несмотря на романтический реквизит, комедию Граббе уже никак нельзя безоговорочно отнести к разряду романтических, так как основное в ней — не романтическая ирония, а ненависть к окружающему.
Л-ра: Трагическое и комическое в зарубежной литературе. – Пермь, 1986. – С. 36-46.
Произведения
Критика