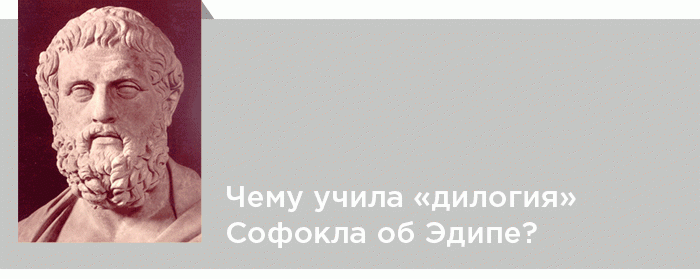Г. Гауптман: от натурализма к символизму («Вознесение Ганнеле»)

С. К. Коврова
Ранний период его творчества связан с вступлением на литературную арену немецкого натурализма.
Гауптман, без сомнения, один из тех немецких писателей, которые вызывали больше всего споров. Уже начало его творческой деятельности совпало по времени с неприятием критикой нового литературного течения. Сначала ругали его и его сторонников за их натурализм, так как этот стиль, как считалось, никоим образом не может быть искусством. Он мог восприниматься лишь как очень односторонне смонтированный репортаж.
Наконец, этот порицаемый и неправильно понятый натурализм, благодаря упорству своих последователей, добился признания и завоевал немецкие литературные круги. Натуралисты необычайно расширили тематический диапазон литературы, ввели новые мотивы и сюжеты. Они пытались точно и правдиво воспроизвести окружающую их жизнь. Объектом художественного отображения в натурализме становятся беспросветная нужда, социальная несправедливость, страдания и унижения. Появляется особый интерес к индивидуальным особенностям речи, различным речевым жанрам, диалектам, к звукоподражанию.
Молодой Гауптман был в центре этого литературного явления. «Без него натурализм в Германии просто не существовал бы, несмотря на Арно Хольца и Иоханнеса Шлафа, точно также как не было бы немецкой классики без Гёте и Шиллера». Однако признанный глава этого направления, Гауптман, шокировал публику внезапным, кажущимся немотивированным отказом от «своего» стиля. В 1893 г. он опубликовал драму «Вознесение Ганнеле». Мнения критиков разделились, причем отрицательной критики было больше.
Удивление писателей-социалистов таким обращением драматурга к символизму, мистицизму можно отчетливо увидеть в критике Ф. Меринга: «Мы скорбим о Гауптмане... Мы еще ни разу не были осуждены на то, чтобы своими глазами увидеть такое большое злоупотребление такого большого таланта», и назвал драму «чепухой». Он считал, что в ней нет драматического действия, она выпадает из рамок как поэтического натурализма, так и психологической вероятности. Видения Ганнеле не могут являться представлениями о смерти и потусторонней жизни девочки из беднейшей рабочей семьи.
Другой критик, К. Хаениш, писал, как князь Хоенлое — Шиллингсфюрст в кругах знатной публики отозвался о драме: «Сегодня вечером на „Ганнеле”. Ужасная халтура, социал-демократически-реалистическая, к тому же полная болезненной сентиментальной мистики, действующая на нервы и вообще отвратительная. Мы пошли после этого к Борхарту, чтобы икрой и шампанским привести себя снова в нормальное человеческое настроение». У П. Шлентера мы читаем следующее: «Святоши приписывали драму социал-демократам, социал-демократы — святошам. Одних раздражала подстрекающая критика социального состояния общества, других „мистицизм и церковность”».
Итак, критики не отказывали писателю в праве смены стиля и в свободной фантазии, но они были не в состоянии понять источник такого гауптмановского поэтического шага. То есть они критиковали не саму драму, а скорее художественную теорию, отказ Гауптмана от прежнего восприятия мира и политическую позицию в драме.
Если обратить внимание на все творчество писателя, то перед нами предстанет картина беспрестанной смены стилей: обращение Гауптмана и к натурализму, и к символизму, и к реализму. По этому поводу довольно резко высказался Ф. Меринг: «Как только драматург Гауптман начинает философствовать, он всегда застревает в напыщенной тривиальности, ему не хватает законченного мировоззрения, без которого немыслим великий поэт».
Чтобы как-то систематизировать творчество писателя, критики попытались разделить драматические произведения Гауптмана на стилистические фазы: натуралистическую, символическую и реалистическую. Причем каждая фаза относилась к определенному времени: натуралистическая — к раннему периоду творчества, символическая и реалистическая — к более позднему. Однако драматурга называли и натуралистом, и символистом, и реалистом.
А. А. Федоров по этому поводу пишет: «...в этом случае становятся неясными самые основные, принципиальные структуры творчества писателя, его мировоззрение и метод. Гауптман предстает как эклектик, разные пьесы которого, порой написанные почти одновременно, дают якобы исключающие друг друга концепции жизни. Однако для него есть одна правда, но эту правду, по словам писателя, он видит с разных сторон».
Как-то Гауптман в ответе на вопрос, касающийся его художественного стиля, сказал своему другу: «У греков била даже поговорка: „Каковы нравы, таков и стиль”. Если следовать этому, можно прийти к убеждению, что во времена упадка, когда все понятия расшатываются, веры больше нет, то и стиль становится запутанным. Стиль — это точный измерительный прибор, он показывает время, как цвет лица — здоровье». Художественные стили в творчестве Гауптмана не укладываются в определенные хронологические рамки, они сосуществуют. Достаточно выразительный пример тому — 1893 год, когда он создает такие разнохарактерные пьесы, как «Бобровая шуба» и «Вознесение Ганнеле»; в 1898 г. появляется реалистическая пьеса, «Возчик Геншель», а годом позже — фантастическая пастораль «Пастушеская песня».
Исследовательница Т. Сильман попыталась систематизировать пьесы Гауптмана не по хронологическому, а по тематическому принципу, хотя многие и до сих пор считают, что такой подход приводит к определенным потерям и упрощенности (например, упущению отдельных драм, объединению в одну группу драм с разницей написания по времени в двадцать — тридцать лет). У Т. Сильман одна группа — это натуралистические драмы, описывающие чаще всего жизнь крестьянства и социальных низов. Другой тип — проблемно-психологические драмы, которые имеют ибсеновскую ориентацию. В них изображаются семейно-моральные конфликты, проблема одиночества одаренного среди посредственностей. Третья группа — социально-исторические драмы, далее пьесы сказочно-символического плана и пьесы на исторические и мифологические темы.
Драма «Вознесение Ганнеле» явилась первым обращением драматурга к символизму. Драма состоит из двух актов: реального заднего плана — попытки самоубийства девочки, и сновидений умирающей Ганнеле. Первоначально драма имела еще третий акт, где изображалась жизнь Ганнеле в виде ангела, свидание с мамой и свадьба на небесах с учителем Готвальдом, чей образ сливается в ее видениях с образом Христа. Гауптман хотел создать по возможности наиболее впечатляющий контраст, противопоставить картины детского идеала лучшего мира и ужаснейшей бедности в действительности, а также показать смерть девочки при высшем небесном блаженстве, но в условиях глубочайшей нищеты в приюте для бедных. Чтобы не ставить под угрозу изобилие контрастов, он решил сам (а также по совету друзей ”) вычеркнуть третий акт и частично слить его со вторым. Блеск и великолепие небесных сцен, которые широко раскрыты в музыкальной пантомиме, могли бы затушевать картины нищеты и усилить нереальность происходящего.
Сначала драма называлась «Вознесение Ганнеле Маттерн», затем просто «Ганнеле» из-за осторожности дирекции придворных театров, которая избегала всего, что могло задеть или осквернить религиозные чувства публики. Но тем не менее вернулись к первоначальному заглавию и разрешили оставить «Вознесение Ганнеле», чтобы уже из названия пьесы было понятно, что речь пойдет не просто о жизни и смерти, а о действительном и потустороннем. Просто «Ганнеле» — это только покинутый ребенок, избиваемый отчимом, голодный и замерзший, частичка человеческого горя. А «Вознесение» — это вечное блаженство, расширение горизонта. «Миллионы звездочек» сияют на небосводе, божественный глас зовет из глубин холодной воды, добрые ангелы утешают во сне, любимый господин учитель превращается в Иисуса, прощающего грешниц.
Мистика и сентиментальность даны в драме еще с реальной мотивировкой: Гауптман показывает, как в результате жестокости окружающей жизни во внутреннем мире человека рождаются грезы. Драма начинается там, где натуралистические драмы заканчиваются в безысходности: при совершении самоубийства. Четырнадцатилетняя Ганнеле, жестоко мучимая спившимся отчимом, приходит в конце концов в такое смятение, что пытается утопиться в озере, но ее спасают и приносят в приют для бедных, где несколькими часами позже врач устанавливает смерть.
Внешние события образуют только рамку для воплощения внутренней драматичности видений, которые возникают в горячечном бреду Ганнеле. Мир чистого воображения, который несовместим с натуралистическими сочинениями, здесь показан в качестве движущей силы, которая направляет саму жизнь на путь бегства от жестокости бытия к достижению вечного блаженства в смерти. Тем не менее мы можем различить две как бы разграниченные сферы: натуралистическую и фантастическую (натуралистическая — в первом акте, фантастическая во втором), которые связаны между собой последней сценой первого акта, где смешались обе сферы. В первом акте — поющая нищенка, приют для бедных, лесник и учитель, вносящий в комнату умирающую девочку, и связка между актами: беседа сестры милосердия Марты с Ганнеле, которая мечется между реальностью и галлюцинациями, и песнь Марты, где небо с ангелами представляется утопией. Далее плавный переход ко второму акту, где изображаемое представляется только в перспективе горячечных видений девочки. Перед нами предстает ирреальный мир. Мы видим только то, что видит Ганнеле.
Вся короткая и ужасная жизнь Ганнеле олицетворяется в образе отчима, таким образом, весь реальный мир — это зло. Правда, есть и добрые чувства, затаенные мечты, любовь к учителю Готвальду, тоска по матери (умершей совсем недавно). Наивные представления об ангелах с нотами, как они изображены на алтаре, переплетаются со сказочными мотивами о рае. Ганнеле грезится счастливая жизнь, где нет нужды, голода и унижений, где уважают человеческое достоинство. И так как других мыслей и сравнений у нее нет, она формирует свои грезы из уроков религии, из церковных хоралов, которые пелись в костеле ее деревни, из изображений святых в деревянной церкви, из народных сказок, услышанных от мамы. Ганнеле преображается в прелестную девушку, в принцессу и невесту, ей видятся хрустальные башмачки Золушки, разнообразные явства на пиршественном столе, стеклянный гроб Снегурочки: она умирает, оплакиваемая всеми, и возносится на небо.
Видения Ганнеле (встреча с мамой, ангелы) сценически разграничены строфой колыбельной песни: «Спи, дитя, спи!». Все большее удаление действия драмы в потусторонний мир находит выражение и в символике освещения: при первом видении сцена освещена реальной свечой, которую вносит сестра Марта. Во время явления мамы комнату наполняет вызванный видением «сумеречный свет». К началу видения ангелов разгорается также вызванное воображением яркое сияние («goldgrüner Schein»). Страх жизни быть полностью уничтоженной после смерти и тем самым обратиться в ничто актуализируется в видении Ганнеле молчаливого ангела смерти.
Из вышеизложенного видно, что «отчим, смерть и небеса остаются связанными с иллюзиями грезящей девочки, так как все фазы происходящего в видениях развиваются строго из психологии желания ребенка. Символически эти картины являются только жестами страха, тоски и страстного желания».
Интересно отметить и языковое оформление драмы, где сосуществуют и переплетаются диалект и литературный язык, и получается такая «детская поэзия, наивная, некритическая, скачкообразная и ставит неизбираемо самое высшее рядом с низшим» (Фейхтвангер). При таком построении сцен проявляются и контрасты в языке. Посредством игры слов освещается противоречие человеческого существования; например, уже первая сцена показывает, как имя Иисуса звучит дважды в разных значениях. Первый раз в песне старой Тульпе: «Не оставь нас своею милостью, господь наш Иисус Христос!». А затем сразу же, когда Гедвига врывается из ненастья в комнату: «Ай, Иисусе, Иисусе, что за погода!». Или проследим за разговором в форме схоластического диспута между каменщиком Маттерном (отчимом Ганнеле), где он предстает в образе черта, и незнакомцем (Христом). Эффект контраста достигается тем, что незнакомец говорит на чистом литературном языке, а Маттерн на диалекте. Эту игру с языком Рауртман использует самыми разными способами, и в результате язык сам получает мимико-символичный характер. Заметим, что язык этой драмы, как и характер повествования (натуралистический, символический), распадается на две сферы. В первом акте преобладает преимущественно диалект и нормальный разговорный ритм языка, во втором же — почти исключительно лирический. Ганнеле же говорит только на литературном языке. Здесь можно привести мнение Бартельса: «Эта грёза-драма больше рассчитана на эффект, чем это обычно было у Гауптмана-натуралиста. Найден контраст ужасного приюта для бедных и ярких видений Ганнеле. Язык ребенка ненатурален. Его стихи — это стихи Гауптмана. Драма — театральна».
Со смертью Ганнеле исчезает возникший из иллюзий символический мир. Перед зрителями снова грязная темная комната. Мертвая Ганнеле лежит в углу, около нее сестра милосердия и доктор, который констатирует смерть. То есть таким образом происходит возвращение драмы в первоначальные бытовые рамки и сохранение реальной мотивации. С этой точки зрения основа драмы натуралистическая, однако можно утверждать, что видения Ганнеле образуют центральную тему драмы. Все характеры являются лишь фантастическими воплощениями Ганнеле. Уже подзаголовок произведения «Драма-грёзы» обозначает, что речь в ней пойдет не о каком-то активном действии, а о грёзах, о чем-то нереальном. Здесь явно видна большая склонность Гауптмана ко всему сказочному, что в его последующих произведениях играет значительную роль. Сам Гауптман в письме от 1894 г. написал: «„Ганнеле” выросла на почве сказки».
На сцене, как правило, драмы Гауптмана всегда имели успех. Н. Александер в своем труде о Гауптмане высказал интересную мысль: «Сценические произведения живут в двух сферах: литературы и сцены. Если пьеса оказалась жизнеспособной с литературной точки зрения, то она не всегда вызывает восторг современной театральной публики. И, наоборот, временный успех при постановках отнюдь не гарантирует литературное качество. Редкое совпадение обоих элементов выпадает чаще всего на обусловленные временем благоприятные случаи, как, например, на премьеры драм „Перед восходом солнца” и „Ткачи”». Грегор же написал конкретно о «Ганнеле»: «...этот сон является воплощением выразительных ощущений жизни. Это остается на все времена одним из чарующих фактов магии театра».
Символизм на берлинской сцене появился еще с драмами Метерлинка, которые вначале не понимали и не принимали. Один из критиков того времени иронично заметил, что «результат символической драмы достигается самым блестящим образом: кажется, что проведен целый час в сумасшедшем доме». Только значительно позже заговорили о «литературной изысканности» писателей-символистов и стали называть их «аристократами в искусстве».
Когда на сцене появилась драма «Вознесение Ганнеле» (ее премьера состоялась 14 ноября 1893г. на сцене королевского дома актеров в Берлине при поддержке тогдашнего шефа придворных театров графа Хохберга), символизм еще не охватил публику. И хотя драма вызвала поток отрицательной критики в свой адрес, были и положительные отзывы. Для драматурга было бы хуже, если бы о его пьесе вообще промолчали.
«В нем не пылало никакой великой идеи, — писал В. Мушг, — но он был гением театра. Он мыслил в картинах и мелодиях предложений. Его взгляд на сценическое, на настоящее и драматически эффектные жесты был безошибочным. Вокруг его образов всегда был воздух, их разговоры полны жизни». Очень мило отозвалась о «Ганнеле» Лу Дндреас-Саломе: «Поэзия „Ганнеле” может правильно и полностью оказать положительное воздействие только на тех, которые могут забыть, что они взрослые: ибо, произведение не хочется критиковать, а хочется его любить».26
В России драма была поставлена в начале XX века К. С. Станиславским в театре Солодовникова и имела большой успех.
В заключение хотелось бы сказать, что следует согласиться с самим Гауптманом в том, что его произведения «живут сами по себе между любовью и ненавистью», а «искусство не зависит от заглавий и одеяний. Его суть — это обнаженная душа человека».
Л-ра: Вестник Санкт-Петербургского университета. – Сер. 2. – 1995. – № 16. – Вып. 3. – С. 90-95.
Произведения
Критика