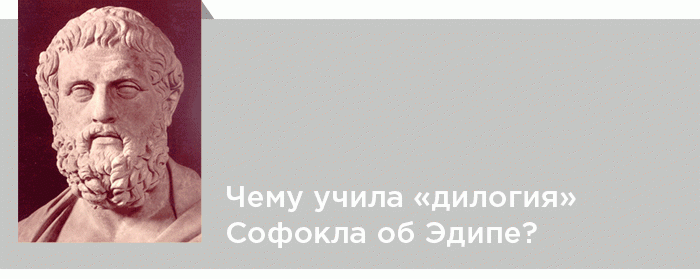Герхарт Гауптман. Атлантида

(Отрывок)
Двадцать третьего января тысяча восемьсот девяносто второго года из бременского порта вышел немецкий почтовый пароход-экспресс «Роланд». Среди ходивших в Нью-Йорк кораблей Северогерманской судоходной компании он был одним из самых старых.
Экипаж парохода состоял из капитана, четырех офицеров, шести механиков, провиантмейстера, казначея, старшего стюарда, шеф-повара, помощников провиантмейстера, казначея, старшего стюарда и шеф-повара и, наконец, врача. Кроме этих людей, в чьи руки была вверена судьба огромного плавучего дома, на борту корабля были также матросы, стюарды, стюардессы, кухонные рабочие, подносчики угля и прочие члены команды, а также несколько юнг и сестра милосердия.
В Бремене каюты заняли не более ста человек. Палубных пассажиров оказалось около четырехсот.
Одна каюта на этом пароходе была заказана по телеграфу из Парижа для Фридриха фон Каммахера. Молодому человеку пришлось поторопиться. Прошло каких-нибудь полтора часа после того, как он убедился, что место на корабле ему обеспечено, а он уже сидел в скором поезде, доставившем его в двенадцать часов ночи в Гавр. Отсюда он, проведя ночь на койке в отвратительной общей каюте, благополучно переправился в Саутгемптон.
Рассвет Фридрих фон Каммахер встретил на палубе, наблюдая, как, появившись словно призраки, стали придвигаться все ближе и ближе берега Англии, пока наконец пароход не вошел в гавань Саутгемптона. Здесь Фридриху предстояло дожидаться прибытия «Роланда».
В бюро обслуживания пассажиров ему сообщили, что у причала стоит готовый к отплытию маленький, но комфортабельный пароход, на котором можно будет добраться до «Роланда», как только тот покажется на рейде. Господину фон Каммахеру посоветовали к вечеру взойти со всем своим багажом на борт этого пароходика.
И вот он почувствовал себя человеком, которому нечего делать и который должен провести не один час в этом чужом и унылом городе. К тому же было еще холодно — десять градусов ниже нуля. Он решил поискать гостиницу и по возможности проспать там значительную часть остававшегося времени.
В витрине небольшой лавки он увидел сигареты Симона Арцта из Порт-Саида. Фридрих вошел в лавчонку, где в это время прибиралась работница, и купил несколько сот этих сигарет.
Он сделал это не потому, что хотел ублажать себя как курильщика, нет, то был акт, продиктованный некими дорогими ему воспоминаниями.
В нагрудном кармане у Фридриха покоился бумажник крокодиловой кожи. Среди лежавших там бумаг находилось письмо, полученное им за день до описанных событий. Вот что там было написано:
«Дорогой Фридрих!
Все по-прежнему худо. Из санатория в Гарце я вернулся в дом моих родителей конченым человеком. Эта проклятая зима в горах Гейшейера! Не стоило мне по возвращении из тропиков лезть в лапы к такой зиме! Впрочем, вся беда была в лисьей шубе моего коллеги, в этом проклятом балахоне, которому я обязан своей собачьей долей, да заберет его повелитель ада и бросит со всей силой в пекло! Прощай и будь здоров! Я, разумеется, попросил колоть мне туберкулин, после чего выплюнул немало бацилл. Enfin: их еще осталось немало, что гарантирует мне скорый exitus letalis.
А теперь о самом важном, мой добрый друг. Надо уладить дело с моим наследством. Я подсчитал, что должен тебе три тысячи марок. Ты в свое время дал мне возможность завершить мое медицинское образование, которое, правда, сейчас бросает меня в беде. Но ты тут, разумеется, ни при чем. Как это ни странно, теперь, когда все уже потеряно, меня больше всего мучит мысль о том, что я, к сожалению, не в состоянии вернуть тебе долг. Видишь ли, мой отец — учитель на государственной службе, он возглавляет народную школу и сумел удивительнейшим образом кое-что скопить, но кроме меня у него еще пятеро чад, и это всё дети малые. На меня он смотрел как на капитал, который, как он надеялся, принесет большие проценты, а потому вкладывал в меня, пожалуй, даже больше, чем нужно было. А ныне он, человек практического ума, понимает, что и капитал, и проценты потеряны.
Короче говоря, его пугают долги, которые, к сожалению, не уйдут вместе со мною — тьфу, тьфу, тьфу! (плюнем три раза!) — в лучший мир. Что мне делать? Можешь ли ты не требовать от меня погашения долга?
Между прочим, старина, я уже несколько раз чуть ли не побывал на том свете. И тебе достанутся мои, кажется, не лишенные научного интереса записи о том, что происходило со мною в такие минуты. Если же после великого часа у меня появится хоть какая-то возможность дать знать о себе с того света, то ты кое-что обо мне еще услышишь.
А где ты, собственно говоря, сейчас? Всего тебе доброго! В увлекательных фантасмагориях моих сновидений тебя все время качают океанские волны. Может, ты и впрямь собираешься пуститься в плавание?
На дворе январь. Разве у него нет известного преимущества перед апрелем? Мне по крайней мере можно не бояться погоды, не так ли?
Жму твою руку, Фридрих Каммахер!
Твой Георг Расмуссен».
В ответ на это письмо адресат сразу же послал телеграмму из Парижа, которая освобождала сына, героически встречавшего смерть, от беспокойных мыслей о здравствующем отце.
В читальном зале гостиницы Гофмана близ гавани Фридрих написал ответное письмо обреченному на смерть другу:
«Дружище!
Пальцы у меня окоченели, однако я неустанно окунаю треснутое перо в заплесневевшие чернила. Но если я не напишу сейчас письма, то ты получишь от меня весточку не раньше чем через три недели: сегодня вечером я отплываю на борту «Роланда», парохода Северогерманской судоходной компании. Выходит, твои сны в самом деле чего-то стоят — ведь никто же не мог рассказать тебе о моем путешествии. Это исключено, я и сам-то за два часа до того, как получил твое письмо, никаких планов не строил.
Послезавтра исполняется год с того дня, как ты после своего второго кругосветного путешествия прямо из Бремена приехал к нам в Гейшейер и привез с собою целый ворох историй, фотографий и сигарет от Симона Арцта. Кстати, не успел я вступить на британскую почву, как в двадцати шагах от пристани увидел в витрине нашу любимую марку. Я, конечно, сразу же закупил эти сигареты оптом и вот как раз сейчас курю, отдавая дань доброй памяти. К сожалению, кошмарный читальный зал, где я пишу это письмо, табачным дымом не согреешь.
Ты уже провел у нас две недели, как однажды зимней ночью в дверь моего дома грозно постучалась судьба. Оба мы рванулись к той двери, да, видимо, простыли при этом. Что до меня, то я нынче продал дом, оставил практику, своих троих ребят определил на полный пансион в чужом доме. Ну, а жена… Да ты ведь и сам знаешь, что с нею стряслось.
Черт возьми! Как хватают порою за сердце наши воспоминания! До чего же хорошо было нам обоим, когда ты стал замещать нашего захворавшего коллегу. Я и сейчас, словно вчера это было, вижу, как ты, сидя в его санях и в его лисьей шубе на плечах, объезжаешь больных. А когда он умер, разве мог я иметь что-то против того, что так близко от меня поселился ты, такой славный сельский врач? Хотя прежде мы немало потешались над голодной долей сельского врача.
И вот все пошло совсем другим путем.
А помнишь, как мы не уставали шутить по поводу золотистых овсянок, обрушившихся на заснеженный Гейшейер? Стоило приблизиться к голому кусту или дереву, как казалось, что они вдруг начинают трястись, сбрасывая с себя, как бесчисленные золотые листья, стайки этих птиц. Это, говорили мы, сулит нам горы золота. А по вечерам мы лакомились этими самыми овсянками, потому что горе-охотники продавали их огромными партиями, а моя выпивоха кухарка чудесно умела поджаривать этих птичек. Ты клялся тогда, что не останешься врачом, если государство не отдаст в твое распоряжение огромный склад товаров, чтобы ты мог обеспечить больных бедняков мукою, вином, мясом и всем необходимым. А теперь вот злой гений цеха врачевателей тебе подножку устроил. Но ты поправишься, никуда от меня не денешься!
Я уезжаю в Америку. Почему? Узнаешь, когда увидимся. Жене моей, которая находится у Бинсвангера, а значит, в самых лучших руках, я сейчас ничем не могу быть полезен. Я навестил ее три недели тому назад. Она даже не узнала меня.
Должен еще тебе сказать, что я таки расстался с профессией врача, а заодно и с бактериологическими исследованиями. Ты ведь знаешь о моем несчастье. Я заслужил себе имя в ученом мире, но теперь его изрядно замарали. Утверждают, что вместо возбудителя сибирской язвы я исследовал и описал в своей работе волоконца в красящем веществе. Может, оно и так, да только я в это не верю. А в общем-то, мне это безразлично.
Мне порядком опротивели все благоглупости, коими напичкан сей мир; я чувствую, что из-за них у меня скоро начнется английский сплин. Чуть ли не весь свет, и уж во всяком случае вся Европа, превратилась для меня в стылое кушанье в вокзальном буфете, которое не вызывает никакого аппетита».
Доктор Фридрих фон Каммахер закончил письмо сердечными пожеланиями, надписал на конверте адрес и поручил коридорному-немцу отправить его. Затем он поднялся наверх, в свой гостиничный номер с заледеневшими окнами, и, дрожа от холода, улегся в большую промерзшую двуспальную кровать.
Путешественнику, пережившему ночную переправу и собирающемуся предпринять переезд через океан, и вообще-то не позавидуешь, а состояние, в котором находился молодой врач, было к тому же еще связано с целым клубком горьких воспоминаний, порою вступавших друг с другом в борьбу. Бесконечной чередой, так что одно воспоминание мгновенно вытесняло другое, подступали они к нему. Ему бы нужно было соснуть, чтобы набраться немного сил для всего, что предстояло, но он по-прежнему лежал с открытыми или полузакрытыми глазами, перед которыми вставали немеркнущие картины прошлого.
В течение целого десятилетия — от двадцати до тридцати лет — жизнь его протекала без каких бы то ни было потрясений. Рвение и склонность к той науке, которою он занимался, принесли ему покровительство знаменитых учителей. Он стал ассистентом Коха. Но и у Петтенкофера, противника Коха, он провел несколько семестров в Мюнхене.
Вышло так, что и в Мюнхене, и в Берлине, как и вообще в кругах ученых-бактериологов, он прослыл одним из самых талантливых исследователей, чья карьера не вызывала никаких сомнений. Разве что некоторая доля эстетства, присущая молодому человеку, заставляла иногда его чопорных коллег покачивать головой с едва заметной миной осуждения.
Теперь, когда злополучный труд Фридриха фон Каммахера вышел в свет и потерпел фиаско, в ученых кругах пришли к единодушному выводу: увлечение посторонними делами отвлекло молодой, подающий надежды ум и привело его к самоуничтожению.
По правде говоря, Фридрих ездил в Париж, чтобы избавиться от одной страсти, но ее предмет, шестнадцатилетняя дочь человека из мира эстрады, продолжал его удерживать. Его любовь превратилась в болезнь, и недуг этот, быть может, потому достиг такой степени, что после невеселых событий недавнего прошлого Фридрих стал особенно восприимчив к любовному яду.
Легкий багаж доктора фон Каммахера свидетельствовал о том, что этому океанскому путешествию не предшествовала тщательная подготовка. Внезапное решение отправиться в путь было неким жестом отчаяния: оно было принято в страстном порыве, когда пришло известие, что двадцать третьего января в Бремене эстрадный артист и его дочь сели на почтовый пароход-экспресс «Роланд», чтобы отправиться в Нью-Йорк.
Проведя в постели одетым не более одного часа, наш путешественник встал, наскоро умылся, для чего ему пришлось предварительно разбить образовавшийся в умывальнике лед, и спустился в первый этаж маленькой гостиницы. В читальном зале сидела молодая обаятельная англичанка. Вошел не столь молодой и не столь обаятельный коммерсант с иудейской внешностью, оказавшийся, как скоро выяснилось, немцем. Ждать было скучно, и это способствовало знакомству. Немец жил в Америке и должен был на «Роланде» вернуться домой.
Воздух казался серым, в зале было холодно; молодая дама беспокойно шагала взад-вперед мимо нетопленого камина, и беседа новых знакомых скоро вылилась лишь в обмен немногословными репликами.
Если душевное состояние любящего несчастливца не остается тайной для окружающих, оно их смешит. Такого человека то воодушевляют светлые иллюзии, то терзают мрачные. Какая-то сила вытолкнула потерявшего голову от любви и охваченного беспокойством молодого человека из гостиницы и погнала по улицам и переулкам портового городка. Он думал о намеках своего соплеменника, с помощью которых тот пытался разузнать о цели его путешествия, и о том, как он сам что-то смущенно бормотал, только чтобы не выдать своей тайны. Отныне, решил Фридрих, если к нему опять будут приставать с такими вопросами, он скажет, что едет за океан, чтобы взглянуть на Ниагару и Йеллоустонский парк, а также повидаться с университетским другом.
Во время молчаливой трапезы в гостинице стало известно, что «Роланд», возможно, к пяти часам будет уже стоять на рейде у острова Уайт. Фридрих и его новый знакомый, которого заставили пуститься в путь коммерческие дела — он торговал готовым платьем, — выпили кофе и выкурили несколько сигарет от Симона Арцта. Затем оба господина, взяв свой багаж, отправились к упомянутому комфортабельному пароходу, о котором ему сообщили в бюро обслуживания и который, кстати, никак не заслуживал столь пышного эпитета.
Здесь пришлось провести несколько часов в весьма неуютной обстановке, и все это время низкая труба выпускала клубы черного дыма, устремлявшегося к тяжелой завесе грязного желтого тумана. Время от времени было слышно, как в машинном отделении ударяется об уголь лопата кочегара. Один за другим появились, не вступая ни с кем в разговор, пять-шесть пассажиров в сопровождении носильщиков. Над палубой возвышалась общая каюта, похожая на большой стеклянный ящик. Внутри нее, под окнами, стояла длинная скамья с мягкой обивкой из красного плюша.
Никто из пассажиров не оставался долго на одном месте: не хватало терпения. Беседовали шепотом, опасливо озираясь. Три молодые дамы с бледными лицами неустанно шагали взад-вперед через всю каюту, беспрерывно шушукаясь. Одной из них оказалась англичанка из читального зала, она шла посередине.
— Я уже в восемнадцатый раз пересекаю океан в оба конца, — заявил неожиданно, а вовсе не отвечая на чей-то вопрос, коммерсант.
Кто-то спросил его:
— А вы морской болезнью не страдаете?
— Стоит мне взойти на корабль, — послышалось в ответ, — как я уже больше не человек. Труп! И так каждый раз.
Наконец после долгого ожидания почувствовалось какое-то движение в недрах пароходика и у руля. Три дамы обнялись и поцеловались. Средняя, самая красивая, та, что была в читальном зале, осталась на борту, а ее приятельницы сошли на берег.
Но пароходик так и не трогался. Наконец железные кольца на причале были освобождены от тросов. Раздался душераздирающий свисток, и винт начал медленно, как бы на пробу, вспенивать черную воду. Тем временем ночь вступила в свои права, и все кругом погрузилось во тьму.
В последнюю минуту Фридриху доставили несколько телеграмм. Родители желали ему счастливого пути. Несколько сердечных слов послал и брат. Были еще две депеши: одна от его банкира, другая от адвоката.
Итак, у молодого доктора Каммахера после его отъезда не оставалось на саутгемптонской набережной никого из друзей, родных или даже просто знакомых, и все-таки стоило пароходу прийти в движение, как буря разразилась в его душе. Он не мог бы сказать, что вызвало эту бурю — скорбь, мука, либо, может быть, отчаяние, или то была буря надежды на беспредельное счастье.
У людей незаурядных жизненный путь, по-видимому, каждое десятилетие вступает в полосу опасного кризиса. Во время такого кризиса организм либо освобождается от всех накопившихся болезнетворных элементов, либо же терпит поражение. Зачастую таким поражением является физическая смерть, но иногда и духовная. Один из серьезнейших кризисов, вызывающих особенное удивление у наблюдателя, — это тот, что начинается на рубеже третьего и четвертого десятков. До достижения тридцатилетнего возраста он наступает редко, но зато часто бывает так, что кризис заставляет себя ждать до середины четвертого десятка и даже до более поздней поры, ибо этот момент нередко совпадает с часом подведения капитальных итогов, жизненного баланса, который человеку хочется, елико возможно, оттянуть и уж во всяком случае не подойти к нему слишком рано.
Не передать словами, с какой силой сознание Фридриха охватило всю прожитую до сих пор жизнь, как только он покинул почву Европы. Казалось, что огромная часть его души остается в мире, с которым он прощался, не надеясь на свидание в будущем. То была безвозвратная потеря. Стоит ли удивляться, что в эти минуты все существо его было потрясено до самых глубин?
Темень окутывала маленький пароход. Исчезли огни гавани. Посудинку со стеклянным павильоном над палубой начало сильно покачивать. Ветер, свистя и постанывая, продувал ее насквозь. Иногда он мешал пароходику продвигаться. Вдруг несколько раз нарушил тишину свисток, и суденышко вновь устремилось своим курсом вперед, вонзаясь во мглу.
Хлопание окон, дрожь, сотрясавшая корпус, подрывная работа, которую как бы подпольно проводил клокочущий гребной винт, — все это в сочетании со свистом, стоном и ревом ветра, положившего кораблик набок, вызывало у пассажиров тяжелое чувство. Снова и снова пароход застывал на месте, словно потеряв курс, и тогда раздавался его резкий и пронзительный свисток, который настолько заглушали порывы черного воздушного океана, что он был похож на хриплые звуки, исходящие из простуженного горла. А судно двигалось то назад, то вперед, пока вновь, подвластное вертящим и вздымавшим его волнам, не останавливалось в нерешительности, словно погруженное в вечную тьму и обреченное на гибель.
Но вдруг оно разорвало тишину, стало, взбивая воду, выпускать с диким шипением пары, зловеще засвистело, раз, другой — Фридрих фон Каммахер насчитал семь свистков, — внезапно обрело наивысшую скорость, точно сам сатана гнался за ним, и наконец, сделав поворот, застыло перед величественной картиной, озаренной бесчисленными огнями.
«Роланд» уже стоял на рейде с подветренной стороны. Огражденный его могучим торсом, маленький пароход, казалось, покоился в порту, залитом ярким солнечным светом. Впечатление, произведенное на Фридриха внезапным появлением могущественного покорителя океанских волн, можно было сравнить с фортиссимо необычайной силы.
Никогда доселе Фридрих не испытывал такого благоговения перед человеческим гением, перед подлинным духом своей эпохи, как сейчас, при виде этой гигантской черной стены, вздымавшейся над черной водой, этого огромного фасада, выбрасывавшего из нескончаемого ряда иллюминаторов потоки света на широкую равнину защищенных от ветра, пенящихся волн.
Матросы «Роланда» спускали трап. Фридрих увидел, что вверху на палубе стояла многочисленная группа людей в форменной одежде, готовящихся к приему на борт новых пассажиров. Все, кто прибыл с маленьким пароходом и еще находился в его каюте, стали, внезапно заторопившись, проверять, на месте ли их багаж, а молодой врач был покорен величественной картиной, открывшейся его взору. Привычное представление о трезвом характере современной цивилизации померкло перед лицом этой гигантской фантасмагории. Здесь всем навязывали дерзостную романтику, способную затмить грезы поэтов.
Покуда пароходик, кокетливо пританцовывая на пенящихся волнах, приближался к трапу, высоко-высоко, на палубе «Роланда», раздались звуки оркестра. То была бойкая, лихая маршевая мелодия, воинственная и в то же время покорная, из тех, которые ведут солдата на бой, а значит, к победе или смерти. Не хватало только этих духовых инструментов, этих литавр, барабанов и тарелок, чтобы еще сильнее возбудить молодого врача, словно растворяя его нервы в кипящей влаге!
Не подлежало сомнению, что эта музыка, льющаяся с высоты на маневрирующее суденышко и разрывающая ночную тишь, была предназначена для того, чтобы заглушить страх, который мог закрасться в робкие души. Вблизи простирался беспредельный океан. И, конечно же, в такую минуту люди представляли его себе как нечто мрачное, окутанное ночной мглою, как страшную силу, враждебную человеку и человеческим делам! И вот из чрева «Роланда», из его басовых глубин вырвались, крепчая все больше и больше, громовые и призывные звуки ужасающей силы, от которых кровь стыла в жилах. «Ну, дорогой «Роланд», — обратился вдруг Фридрих мысленно к кораблю, — такой бравый малый, как ты, с океаном справится!» И он занес ногу на трап. Он забыл, кем был до сих пор и что его сюда привело!
Когда Фридрих под бурные звуки марша поднялся по трапу и оказался наконец на просторной палубе, где дуговая лампа бросала на него яркий свет, он, к своему удивлению, увидел много внушающих доверие мужских лиц. Тут были собраны превосходные люди, все — от офицеров до стюардов — рослые и ладные, к тому же с лицами, в чертах которых таились отвага и скромность, ум и простодушие. «Немецкая нация все-таки еще существует», — сказал себе Фридрих фон Каммахер, чувствуя одновременно и гордость, и душевное спокойствие. Одним из оснований для этого чувства была странная уверенность, вдруг шевельнувшаяся в его душе, что, мол, господь бог никогда не позволит себе утопить в море, как новорожденных котят, эту элиту благородных, преданных своему долгу людей.
В его распоряжении оказалась двухместная каюта, а вскоре он уже сидел за подковообразным столом, где угощали превосходно. Вместе с запоздалыми пассажирами он находился в просторном полупустом зале с низким потолком, но в этом немногочисленном обществе не замечалось особого оживления: большой общий обед был уже позади, и к тому же каждый из этих поздних гостей чувствовал утомление и был занят собою.
За едой Фридрих с трудом осознал, что он в самом деле едет в Америку и вообще куда-то едет. Та громадина, которая теперь уносила его вдаль, подрагивала едва заметно и настолько тихо, что это не могло восприниматься как признак движения. Когда он по привычке выпил несколько рюмок вина, к нему пришло ощущение блаженства, и он испытал спокойствие, приходящее иногда на смену изнеможению. «Не странно ли, — рассуждал он сам с собою, предвкушая крепкий сон, — что впервые за многие недели и даже месяцы я именно здесь, в этом огромном экипаже, бороздящем без роздыха океан, ощутил покой и отдохновение?»
Затем он и вправду забылся крепким сном, будто ребенок, уложенный матерью в колыбель, и, открыв глаза после целых десяти часов, все еще находился в благостном состоянии душевного равновесия. Его первая мысль устремилась к той девушке, с которой его теперь на много суток крепкими нитями связал этот вместительный плавучий отель. Фридрих нежно поглаживал стены, как бы превратившиеся в медиум, помогавший ему прийти в соприкосновение с любимой и переносивший ее живое дыхание в его душу.
В салоне ему был сервирован обильный завтрак, который он съел с большим аппетитом. «Я спал, — думал он, — и, как всякой другой ночью, был в состоянии полного оцепенения, а тем временем проделал уже две сотни милей по Атлантическому океану. До чего же странно, до чего удивительно!»
Фридрих попросил подать ему список пассажиров и, когда нашел в нем два имени, которые не могли не оказаться в этом списке, побледнел от страха. Сердце его билось учащенно.
Прочитав слова «господин Хальштрём с дочерью» в списке пассажиров, Фридрих фон Каммахер сложил его и огляделся. Вокруг сидело пятнадцать-двадцать пассажиров, женщин и мужчин, и все они либо были заняты едой, либо заказывали стюардам блюда. Но Фридриху казалось, что эти люди собрались здесь с одной только целью: наблюдать и следить за ним.
Салон был расположен во всю ширину корабля, и время от времени его иллюминаторы затемнялись бьющимися об них волнами. Фридриху представился сидевший напротив него господин в форменной одежде: это был корабельный врач. Сразу же завязалась оживленная беседа на медицинские темы, и все-таки мысли Фридриха были далеко: он все еще не мог решить, как ему следует держаться при первой встрече с Хальштрёмами.
Прибегая к самообману, он уверял себя, что пустился в путь вовсе не из-за крошки Хальштрём, а просто ему захотелось совершить путешествие в Новый Свет, чтобы встретиться со своим закадычным другом Петером Шмидтом и повидать Нью-Йорк, Чикаго, Вашингтон, Бостон, Йеллоустонский парк и Ниагарский водопад. Он собирался сказать это же самое Хальштрёмам и ответственность за их неожиданную встречу возложить на случай.
Ему вдруг стало ясно, что он все больше овладевает своими чувствами. Иногда идолопоклонство любящего при разлуке с его идолом принимает роковой оборот. Живя в Париже, Фридрих не выходил из лихорадочного состояния, и страсть его достигла наивысшего накала. Образ малютки Хальштрём был окружен нимбом, который с такой покоряющей силой притягивал к себе мысленный взор Фридриха, что все прочее для него закрылось непроницаемой пеленой. И вдруг эта иллюзия была утрачена. Ему стало стыдно: он показался самому себе смешным, а когда встал из-за стола, чтобы впервые подняться на палубу, у него было такое чувство, будто он сбросил с себя вериги.
Ощущение свободы и выздоровления усилилось, когда наверху его встретил поток пропитанного солью ветра, вдохнувшего в душу освежающую струю. Мужчины и женщины лежали в шезлонгах в достойном сожаления состоянии. Полнейшая апатия была написана на их позеленевших лицах, и только по этим признакам молодой врач понял, что «Роланд» отнюдь не скользит по волнам Атлантики, как было до сих пор, а испытывает бортовую и килевую качку. К своему удивлению, Фридрих понял, что морская болезнь, которой многие боятся, его не коснулась ни в малейшей мере.
Он обогнул дамский зал и остановился под капитанским мостиком, наслаждаясь благотворным дуновением соленого морского ветра. На твиндеке до самой носовой части расположились палубные пассажиры. Судя по всему, «Роланд» шел на всех парах, но, несмотря на это, с трудом достигал предельной скорости. Ему мешала длинная череда волн, которые ветер швырял навстречу судну. Над нижней палубой был оборудован еще один капитанский мостик, вероятно, на случай бедствия, и в разгар пляски корабля Фридрих испытал вдруг сильный соблазн: ему захотелось оказаться наверху, на этом безлюдном мостике.
Он, разумеется, вызвал некоторую сенсацию, когда, спустившись мимо палубных пассажиров, а затем взобравшись на капитанский мостик, вытянулся во весь рост на этой овеваемой сильным ветром вершине, но сейчас это его не волновало. Какая-то сила внезапно возбудила его, освежила и обновила, и уже не верилось, что еще недавно его одолевала хандра, и он страдал от капризов нервнобольной жены, и лечил кого-то в неком медвежьем углу. Никогда — так казалось ему теперь — не изучал он бактериологии и уж тем более не терпел на этой почве поражения. И никогда он не был по уши влюблен, как думалось ему незадолго до этого дня.
Он смеялся, запрокинув голову, подставив лицо потоку сильного, освежающего ветра, жадно вдыхая его сдобренное солью дуновение, и чувствовал себя выздоровевшим.
В эту минуту снизу, с твиндека, до Фридриха донеслись раскаты дружного хохота; в то же время что-то белое и огромное, взметнувшееся, как он успел заметить, перед носом корабля, хлестнуло его по лицу с такой силой, что он чуть не ослеп. А затем Фридрих осознал, что стоит на ветру промокший до нитки и что с него стекает вода. На судно обрушилась первая волна. Только что он открыл в себе молодечество как подлинную основу своего бытия, и вот уже, дрожа и поеживаясь, он сползает под смех всех, кто это видит, по тем же самым ступенькам железной лестницы вниз. На голове у него еще была серая круглая шляпа, так называемое пралине, на плечах красовалось посаженное на ватин пальто с атласной подкладкой, на руках — лайковые перчатки, а на ногах — элегантные шевровые ботинки с пуговками. Все это было теперь пропитано холодным просоленным раствором. Когда во время своего отнюдь не героического отступления он пробирался, оставляя за собою мокрые следы, мимо столпившихся палубных пассажиров, те корчились от смеха. Фридрих еще не успел опомниться от случившегося, как вдруг он услышал голос: кто-то обращался к нему, даже называя его по фамилии. Он не поверил своим глазам, увидев перед собой одного из обитателей Гейшейера, который снискал себе самую дурную репутацию из-за пьянства и разных бесчестных поступков.
— Это вы, Вильке?
— Так точно, господин доктор.
Вильке отправился в Соединенные Штаты, чтобы погостить у брата, живущего где-то в Новой Англии. Он ругал своих земляков, называл их неблагодарными подлецами. Дома он был боязлив и подозрителен, даже по отношению к врачу, когда явился к нему недавно с колотой раной на шее, а здесь, качаясь с незнакомыми людьми на волнах океана, он стал словоохотлив и доступен, как благовоспитанное дитя.
— И вас, господин доктор, они тоже славно отблагодарили, — сказал он наконец на диалекте, растягивая гласные звуки, и выложил множество неизвестных Фридриху случаев, когда за добро ему, врачу, платили бессовестным наговором. Он сказал, что людишки из Плассенберга и его окрестностей, где жил и практиковал Фридрих, недостойны того, чтобы жить рядом с такими славными мужами, как он сам и господин доктор, настоящее место которых там, в Стране Свободы, в Америке.
Вернувшись на прогулочную палубу, Фридрих встретил не кого-нибудь, а самого господина фон Кесселя, белокурого капитана «Роланда». Тот остановил пассажира и сказал ему несколько любезных слов.
Фридрих переодевался в каюте, но находиться там было нелегко, так как качка тем временем усилилась. Свет в каюту проникал через иллюминатор с толстым стеклом. Как только стена, в которой он находился, вздымалась, а затем наклонялась, образуя некое подобие двускатной крыши, солнечный свет падал с искромсанного неба через иллюминатор на стоящую на противоположной стороне нижнюю койку красного дерева, и здесь, сидя на ее краю и наклонив голову, чтобы не стукнуться о верхнюю койку, Фридрих судорожно пытался удержаться и не проделать вместе с задней стеною отступательный маневр. Благодаря своему местоположению каюта испытывала цикличность того движения, которое именуется бортовой качкой, и Фридриху иногда казалось, что стена с иллюминатором превратилась в потолок, который, в свою очередь, обернулся правой боковой стеной, и что затем потолком стала стена с койкой, а потолок — стеной с иллюминатором, тогда как та на самом деле, приняв почти горизонтальное положение, подбиралась к его ногам, словно приглашая прыгнуть на нее, при этом иллюминатор, конечно, полностью уходил под воду, отчего в каюте было темно.
Не просто раздеваться и одеваться в помещении, которое подвергается таким метаморфозам. И Фридриха немало удивляло, что с тех пор как час назад он оставил эту каюту, она обрела способность к подобным перемещениям. Чтобы достать из чемодана ботинки и брюки и сунуть затем в них ноги, нужно было превратиться в гимнаста, так что он невольно рассмеялся. Различные сопоставления стали приходить ему на ум, и это опять-таки вызвало смех, не слишком, впрочем, задорный. Трудясь и кряхтя, он произнес примерно такую речь, адресованную самому себе: «Здесь моя личность каждой своей частичкой испытывает встряску. Как я ошибался, предполагая, что это уже происходило со мною в последние два года. Я думал: «Тебя трясет твоя судьба». А тут перетряхивают и мою судьбу, и меня самого. Я находил в себе трагическое начало. И вот со всей своей трагедией болтаюсь в этом дребезжащем ящике и к самому себе теряю уважение. Есть у меня такая привычка — размышлять обо всем и ни о чем. Я размышляю, например, о том, что корабль сует свой нос в каждую новую волну. Размышляю о смехе палубных пассажиров, которым, кажется, туго приходится в жизни, и о том, что я облагодетельствовал этих бедняг, дав им повод для потехи! О мерзавце Вильке, который там у нас дома женился на горбунье портнихе, просадил все сбережения жены и терзал ее каждый день и которого я только что чуть ли не облобызал при встрече. О белокуром тевтонце, сверхлюбезном, вызывающем с первого взгляда доверие капитане фон Кесселе, этом красивом, хоть и чересчур упитанном мужчине, который здесь наш царь и бог. И, наконец, я размышляю о собственном непрекращающемся смехе и признаюсь себе, что лишь в редчайших случаях смех бывает умен».
Еще какое-то время длились такого рода переговоры Фридриха с собственной персоной, причем в свете горчайшей иронии выступила даже и та страсть, которая подвигнула его на путешествие. Он и взаправду совсем лишился собственной воли, и в его нынешнем состоянии, когда, сидя в этой клетушке, он покачивался на высокой океанской волне, ему как бы слышались безжалостные упреки в неумении управлять собственной судьбой и в полнейшем бессилии.
Когда Фридрих вновь появился на палубе, там было довольно людно. Больные или отдыхающие пассажиры лежали в шезлонгах, прикрепленных к стенам кают. Стюарды предлагали прохладительные напитки. Было довольно любопытно глядеть, как они балансировали, держа поднос с шестью, а то и с восемью бокалами, до краев наполненными лимонадом, и ловко передвигались по раскачивающейся палубе. Фридрих тщетно искал глазами Хальштрёма и его дочь.
Измеряя со всей осторожностью шагами палубу, он заметил привлекательную англичанку, которую впервые увидел в читальном зале саутгемптонской гостиницы. Обложив себя одеялами и меховым покрывалом, она примостилась в заветрии вблизи излучавшей тепло трубы. Даму окружал своим вниманием вертлявый молодой человек. Вдруг он вскочил с места и поздоровался с Фридрихом. Тому, правда, показалось, что он никогда не слышал имени этого бойкого молодого человека — он назвался Гансом Фюлленбергом, — но последний напомнил, как они однажды встретились у общих знакомых. Он направлялся в Пенсильванию, в какой-то район железных рудников близ Питсбурга.
— А вам, господин фон Каммахер, известно, что с нами на пароходе едет малышка Хальштрём?
— Что за Хальштрём? — спросил Фридрих.
Ганс Фюлленберг был крайне удивлен, что Фридрих забыл, кто такая малышка Хальштрём. Он ведь точно помнил, что видел фон Каммахера в берлинском Доме актера, когда Хальштрём исполняла там свой знаменитый танец.
— Если вы этого не видели, господин фон Каммахер, то вы очень много потеряли, — произнес молодой берлинский джентльмен. — Во-первых, когда крошка Хальштрём вышла на сцену, на ней почти ничего не было, но то, что она демонстрировала, было поистине превосходно. С этим были согласны все. Сначала внесли большой искусственный цветок. Малютка подбежала к нему и стала вдыхать его аромат, после того как долго искала этот цветок, закрыв глаза, изгибаясь и как бы покачивая пчелиными крылышками, и пока его нюхала, по-прежнему не открывала глаз. Но вдруг она их открыла и окаменела. На цветке сидел огромный паук-крестовик. И она отпрянула назад, в самый дальний угол. Если вначале чудилось, что она как пушинка парит над землей, то теперь искусство, с каким она изобразила ужас, мгновенно прогнавший ее через всю сцену, усилил призрачность ее существования.
Фридрид фон Каммахер видел, как девушка танцует свой страшный танец, восемнадцать раз, а не только тогда, на утреннем спектакле в Доме актера. И в то время как юный Фюлленберг выискивал эпитеты, один красочнее другого, такие, как «сногсшибательный», «умопомрачительный», «уникальный» и тому подобное, этот танец вновь вставал перед глазами Фридриха. Он видел, как под звуки тамтама, литавр и флейты полудетская фигурка, оттрепетав, снова приближается к цветку. Не чувственность была источником этого второго приближения, а усилие. В первый раз танцовщица использовала носившееся в воздухе благовоние как след, который может привести к истокам аромата. Рот ее был приоткрыт. Крылья маленького носа подрагивали. Во второй раз ее влекло к себе нечто зловещее, внушающее ей попеременно страх, ужас и любопытство. При этом она широко раскрывала глаза и лишь иногда, боясь что-то увидеть, закрывала их обеими руками.
Но вдруг она разом сбрасывала с себя пелену страха. Бояться было нечего: она поняла, что толстый, медлительный паук не страшен крылатому созданию. И эта часть танца была исполнена грации и веселья, забавно брызжущего через край.
Затем танец вступил в новую стадию, но перед этим юная танцовщица показывала зрителям, что творится у нее на душе. Словно бы утолив жажду танца, она, одурманенная сладостным свиданием с цветами, упивалась своим утомлением и, собираясь отдохнуть, снимала с тела нечто похожее на ниточки паутины. Вначале это было овеяно спокойной мечтательностью, но вот все яснее и яснее ощущалось какое-то странное беспокойство, передававшееся и всем зрителям. Прелестное дитя спохватывалось, задумывалось и, кажется, было готово высмеять себя за внезапно возникшее опасение. Но уже в следующую минуту, побледнев от страха, оно совершало искуснейший прыжок, как бы пытаясь вырваться из петли. Вскипала волна спутанных, как у вакханки, белокурых волос, и возникало невиданное зрелище, вызывавшее бурю восторга.
Начиналось бегство, и теперь в танце, шедшем, кстати, под заглавием «Мара, или Жертва паука», звучала новая тема: нужно было создать впечатление, что Мара все больше запутывается в паучьих сетях и наконец там гибнет.
Девушка высвобождала ногу и вдруг замечала, что паук опутал ей шею. Она хваталась за нити на шее, но тут оказывалось, что теперь опутаны руки. Она вырывалась, она изгибалась, она выскальзывала. И чем больше она билась и неистовствовала, тем глубже погружалась в ужасные тенета. Под конец все увидели, как она лежит неподвижно, связанная по рукам и ногам, и почувствовали, как высасывает из нее жизнь паук.
Так как, по мнению Фюлленберга, Фридрих фон Каммахер не проявил достаточно интереса к молодой танцовщице Хальштрём, он назвал несколько имен других, ставших за последнее время популярными берлинских знаменитостей, отправившихся тем же рейсом в Соединенные Штаты. Среди них был тайный советник Ларс, хорошо известный в кругах деятелей искусства, с чьим мнением считались при государственных закупках произведений живописи и скульптуры. В Америке он собирался заниматься изучением тамошних коллекций. Был там и профессор Туссен, известный скульптор, автор памятников в нескольких городах Германии, как бы разжиженных произведений Бернини. Туссену, рассказывал Ганс Фюлленберг, нужны деньги. Собственно говоря, ему нужны деньги, растраченные его женой.
— Как только он вступит на американскую землю, — сказал Фюлленберг, который, казалось, был прямо-таки начинен берлинскими сплетнями, — денег в его бумажнике не хватит даже для того, чтобы оплатить счет отеля за первые три дня.
Почти в тот же миг, когда Фридрих увидел скульптора, который раскачивался в кресле в такт колебательным движениям «Роланда», перед его глазами возник странный человек без обеих рук; слуга провел его, придерживая за воротник, по палубе и осторожнейшим образом пропустил впереди себя через небольшую дверь в находившуюся поблизости курительную комнату.
— Это эстрадный артист, — объяснил врачу молодой берлинец. — Он будет выступать в Нью-Йорке в варьете Уэбстера и Форстера.
Несколько стюардов, балансируя на палубе, с подносами в руках, предлагали иззябшим пассажирам горячий бульон в больших чашках. Поднеся своей даме чашку бульона, молодой берлинец оставил ее на время одну, чтобы отправиться вместе с Фридрихом в курительную комнату. Здесь, разумеется, было шумно и людно. Оба господина раскурили сигары. В одном углу этого небольшого помещения с увлечением играли в скат, за несколькими столиками спорили по-немецки и по-английски о политике. Вошел доктор Вильгельм, корабельный врач, с которым Фридрих познакомился за завтраком. Он только что закончил утренний осмотр всех палубных пассажиров и присоединился к Фридриху. Среди этих пассажиров было две сотни евреев из России, эмигрировавших в Соединенные Штаты или Канаду. Кроме них там были тридцать польских семей и столько же немецких — с юга, севера и востока Германской империи. Доктор Вильгельм пригласил коллегу принять участие в завтрашнем осмотре.
Маленькая курительная комната представляла собою картину, которую обычно можно наблюдать по утрам в винных погребках и пивных; короче говоря, мужчины вошли в раж и говорили друг с другом громкими голосами. Кроме того, вступили в свои права грубоватый юмор и шумное веселье, благодаря которым у мужчин быстро пролетает время и которые для многих из них служат чем-то вроде наркотиков, позволяющих отвлечься от житейской суеты и вечной гонки. Обоим — и Фридриху, и доктору Вильгельму — не претила эта обстановка; они привыкли к ней еще в студенческие годы, и многое теперь всплывало в их памяти.
Гансу Фюлленбергу вскоре наскучила беседа обоих врачей, которые, кстати, почти совсем забыли о его существовании. Он тихонько вернулся к своей даме и сказал ей:
— When Germans meet, they must scream, drink till they get tipsy and drink Bruderschaft to each other.
Доктор Вильгельм явно гордился атмосферой, царившей в курительной комнате.
— Наш капитан, — заявил он, — строго следит за тем, чтобы господа чувствовали себя здесь свободно и чтобы ничто их не сковывало. Иными словами, он взял за правило ни в коем случае не допускать сюда дам!
В этом помещении были две металлические двери. Одна вела к левому борту, другая — к правому. Каждый раз, когда открывалась одна из них, выходящему или входящему приходилось выдерживать упорную борьбу с качкой и с натиском ветра. В одиннадцатом часу, как всегда бывало при сносной погоде, в курительной комнате появилась исполненная спокойствия массивная фигура капитана фон Кесселя. После того как на обычные вопросы о ветре и погоде, благоприятных или дурных видах на дальнейшее плавание последовали любезные, хоть и немногословные ответы господина капитана, он присел к столику обоих врачей.
— В вас погиб моряк, — обратился он к Фридриху фон Каммахеру, но тот возразил, что, к сожалению, насколько ему известно, капитан ошибается: он, мол, Фридрих, побывал уже разок в морской купели и повторять это омовение вовсе не жаждет.
Несколько часов назад один лоцманский катер принес с побережья Франции свежие новости. Двухвинтовый пароход «Нордманиа», вступивший в строй лишь в прошлом году и курсировавший между Гамбургом и американскими портами, потерпел аварию, когда возвращался в Европу, вынужден был в шестистах морских милях от Нью-Йорка лечь на обратный курс и теперь, уже без каких-либо новых неприятностей, прибыл в Хобокен. При относительном спокойствии на море внезапно, из-за так называемых сизигийных приливов, перед пароходом поднялась огромная масса воды, хлынула на корабль и сделала широкую пробоину в дамском зале и соседней палубе, так что даже фортепиано из этого зала провалилось в трюм. Все это и многое другое капитан поведал в своей спокойной манере. А еще он сообщил, что Швенингер находится в Фридрихсруэ у постели Бисмарка, смерть которого может, как опасаются, наступить с минуты на минуту.
На «Роланде» еще не был введен гонг, который имелся во многих странах. В коридорах между каютами и на палубе были хорошо слышны сигналы, которые подавал горнист, оповещавший пассажиров о том, что пора занимать свое место за обеденным столом. Первый из этих сигналов проник сквозь завывания ветра и гул голосов в тесную, переполненную гомонящими мужчинами курительную комнату. Вошел слуга безрукого артиста, чтобы сопровождать своего хозяина на обратном пути. Фридрих не спускал глаз с артиста, который поражал его своим молодцеватым видом и живостью ума. Он говорил одинаково бегло по-английски, по-французски и по-немецки и, ко всеобщему удовольствию, легко парировал наглые замечания молодого фатоватого американца, чья бесцеремонность, кажется, не собиралась отступать даже перед священной особой капитана.
Большой обеденный стол имел форму трезубца, основание которого было обращено к носу корабля, а три зубца — к корме. У среднего зубца перед неким подобием камина и настенным зеркалом величественно возвышалась элегантная фигура старшего стюарда Пфунднера в синем фраке. Со своими тщательно завитыми и, казалось, напудренными седыми волосами господин Пфунднер, мужчина на пятом десятке, смахивал на дворецкого времен Людовика Четырнадцатого. Когда, высоко подняв голову, он оглядывал покачивающийся и парящий салон, его можно было принять за телохранителя капитана фон Кесселя, за спиной которого он стоял и который, будучи одновременно и хозяином дома, и самым почетным гостем, занимал место в конце среднего зубца. Рядом с ним сидели доктор Вильгельм и первый помощник капитана. Так как Фридрих пришелся капитану по душе, ему было приготовлено место рядом с доктором Вильгельмом.
Произведения
Критика