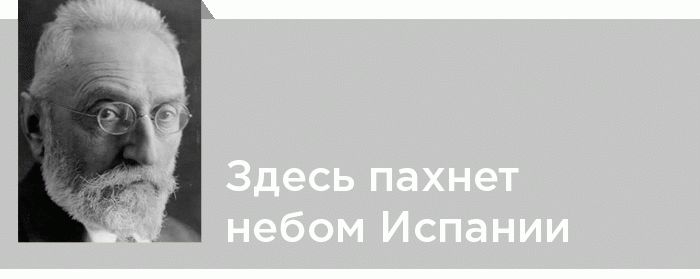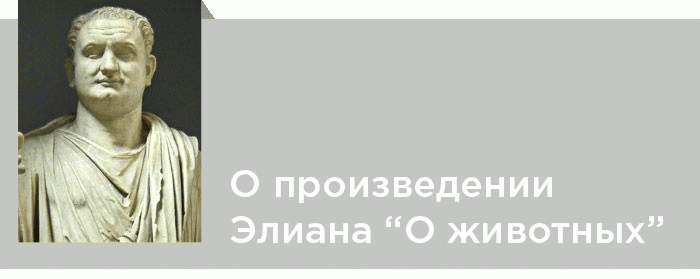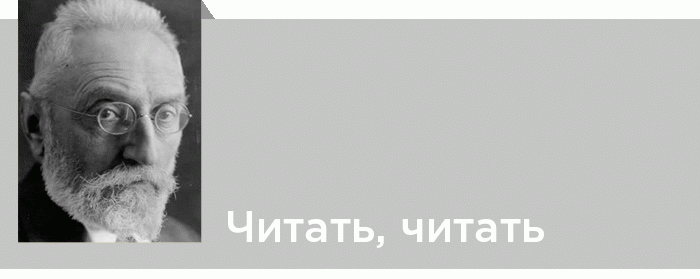Назидательный и развлекательный аспект басен Авиана
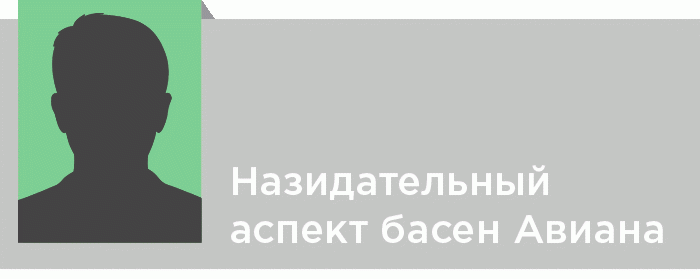
М. И. Борецкий
Своим происхождением басня обязана, как известно, практической необходимости — с ее помощью человек пытался найти разумные нормы своего поведения в жизни. Поэтому поучительность уже с самого начала становится главной чертой басни, а сама басня в силу этого — своеобразным кладезем житейской мудрости и народной философии. Вместе с тем уже у своих истоков басня располагала необходимыми предпосылками для развития ее комизма, ставшего ее второй основной чертой и приобретшего важную роль в литературной басне. И поэтому Федр, четко формулируя в прологе к своей первой книге цель басни, характеризует ее как неразрывное сочетание двух элементов — назидательного и развлекательного.
Хотя басне присущи оба элемента, однако играют они на разных этапах ее развития неодинаковую роль. В долитературной басне превалирует, естественно, назидательность, в литературной же усиливается комический элемент. Федр, хотя и стремится к усилению комизма, свое основное внимание сосредоточивает еще на поучении; Бабрий как бы отказывается от морализирования и обращается к повествованию: «Для Федра главное в басне — мораль, а рассказ служит лишь иллюстрацией к ней... Для Бабрия главное... — рассказ, а мораль является лишь традиционным привеском к нему... Басня Федра перерождается в моралистическую диатрибу, басня Бабрия — в живописную сказку... Федр поучает читателя, откликаясь на его интересы и нужды; Бабрий развлекает читателя, который хочет отвлечься от своих интересов и нужд».
Исследование соотношения в них назидательного и развлекательного элементов расширит знания не только о специфике творчества Авиана, но и об особенностях эволюции античной басни.
Назидательность басни ярче всего проявляется в авторских суждениях, содержащих мораль и нередко окрашенных так, что они могут отражать личное отношение автора к описываемому. Такие дидактические суждения могут предварять рассказ (промифий) или же заключать его (эпимифий). У Федра промифиев и эпимифиев очень много. Все они органически связаны с рассказом, и иногда даже басня почти полностью сводится к морали. В баснях Бабрия эпимифии встречаются редко, к тому же они преимущественно неподлинны.
Весьма интересно и важно то, что почти всегда моралистические суждения Авиана не отличаются той конкретностью, которой можно бы ожидать в той или иной ситуации, всем им присуща довольно большая сдержанность и даже осторожность. Например, в басне 18 бык говорит не о том, что нужно противостоять силе льва единением и дружбой (а именно к этому подводит сюжетная ситуация), но о том, что не следует поспешно верить обманчивым словам и пренебрегать былой верностью. В басне 4 Феб поучает, что нельзя победить, начиная с угроз, хотя ситуация подводит к выводу: успеха можно добиться не силой, но ласкою. Такая трактовка моральных выводов у Авиана нередка. Вместе с тем она и не случайна, ибо не является следствием заимствования материала у Бабрия, Так, в басне Бабрия «Ветер и Солнце» (18) мораль вытекает из сюжетной ситуации и противопоставляет силу и ласку, у Авиана же она сглажена и расплывчата. В этом проявляется обусловленное творческой манерой поэта стремление к отвлеченности морали и к ослаблению назидательности басни.
В силу этого было бы напрасным пытаться найти у Авиана такие суждения, которые весьма часты у Федра и яркое представление о которых дает эпимифий его басни «Бычок, лев и охотник» (II, 1):
Пример достоин всех похвал: но все-таки
Живет в богатстве жадность, скромность — в бедности.
Эта яркая особенность творческой манеры Авиана весьма созвучна эпохе поздней античности и обусловливается тем, что в обстановке кризиса империи литература теряет свое общественное значение и уходит от жизни и ее актуальных проблем. Именно поэтому в «Письмах» Симмаха нет отголосков политической и общественной жизни его времени, а беседы в «Сатурналиях» Макробия ведутся исключительно о философии, литературе, религии, астрономии. И Симмах в своих письмах, и Макробий, и многие их современники с удивительной последовательностью избегают важных вопросов современной им жизни, даже таких, которые, несомненно, весьма их волновали. Именно поэтому ослабляет Авиан назидательность басни, снижая тем самым ее общественное значение.
Однако, если быть объективным, следует признать, что против утверждения об ослаблении Авианом назидательной стороны басни существует весомый аргумент — наличие промифиев и эпимифиев. Оно позволяет говорить, что автор не уклоняется от прямых суждений, что его голос все же звучит в баснях. Чтобы устранить это противоречие, рассмотрим вопрос подробнее.
В поздних рукописях Авиана есть морали ко многим басням, причем в разных манускриптах они могут быть разными и отсутствуют в трех самых древних (Paris. Lat. 13026, Paris. Lat. 8093, Voss. Lat. Q. 86-IX в.), в которых есть лишь 4 промифии и 11 эпимифиев. Все морали из поздних рукописей признаны учеными подложными, остальные признаются таковыми не полностью и не всеми учеными. В частности, Р. Эллис, отбрасывая некоторые из них, считает все же отдельные необходимыми. Однако уже то, что все эпимифии резко отличаются от басен по стилю и не согласуются с их общей тональностью, то, что они к тому же действительно «на редкость бессодержательны», в достаточной мере свидетельствует об их поддельности и более позднем времени создания. Кроме того, о ложности эпимифиев свидетельствует и одна яркая композиционная особенность басен Авиана. Поэт заканчивает 29 из 42 басен прямой речью. Еще в шести баснях она находится перед эпимифием (басни 1, 16, 23, 30, 36, 42). Из этих эпимифиев Р. Эллис считает подложными три. Думается, что такими можно считать все, если учесть указанную особенность композиции. Из 42 басен только шесть (2, 22, 27, 33, 35, 41) не могут заканчиваться прямой речью в силу специфики сюжетной ситуации. Если бы в каждой из них были эпимифии, то можно было бы еще колебаться, принадлежат они Авиану или же являются позднейшими добавлениями. Однако в басне 22 эпимифия нет, а эпимифии к басням 2, 35 и 41 Р. Эллис считает несомненно ложными. Поэтому ничто не мешает придти к выводу, что и в баснях 27 и 33 моралей у Авиана не было. Есть еще один аргумент в пользу ложности моралей. Это отсутствие в них реминисценций из Вергилия. А ведь Авиан обильно насыщает ими текст, причем встречаются они нередко и в заключительных стихах. У Л. Эрвье можно найти вергилианские заимствования лишь в двух эпимифиях (басни 2 и 30), однако они скорее напоминают простые совпадения, нежели прямые реминисценции из Вергилия. Например, для стиха a peccale abstinuere manus (Ab., 30, 18) подается в качестве параллели abstinuit tactu pater (Верг., Эн., VII, 618), что, конечно же, не позволяет уверенно говорить о прямом заимствовании из Вергилия. Всего этого вполне достаточно для утверждения ложности всех моралей к басням Авиана. Тем самым снимается упомянутое выше противоречие.
Отсутствие авторских суждений, сглаженность и сдержанность моральных выводов, вкладываемых в уста персонажей, тесно сопряжены у Авиана с еще одной особенностью, являющейся одной из главных отличительных черт творческой манеры поэта. Она обусловлена уже самой природой басни как абстрактно-моралистического жанра — басня многозначна по своей природе, ее можно приурочить к нескольким конкретным жизненным случаям в зависимости от того, какой мотив будет в ней выделен. Многозначность басни осознавал уже Федр; он даже успешно ее продемонстрировал, добавив к морали простой сюжетом басни «Вор и светильник» (IV, 11) еще три «полезные истины» (res utiles). Против нее выступал Лессинг, пытаясь в своих баснях добиться однозначности морали.
Басням Авиана многозначность особенно свойственна, поэт сознательно добивается и усиливает ее своей манерой изложения сюжетов — его басни вовсе не допускают однозначной интерпретации или же допускают ее лишь с большим трудом. Не прямолинейными, но гибкими и многозначными, позволяющими вывести несколько моралей в зависимости оттого, какой мотив выберет читатель и к какой конкретной ситуации приложит басню, является преимущественное большинство басен Авиана. Некоторые из них вне контекстуальной ситуации вообще не позволяют сделать заключение о возможной моралистической установке. Это, например, басни 10, 17, 23, 24 и др.
Многозначность басен Авиана, являющаяся проявлением ослабления их назидательности, отнюдь не случайна и неосознанна, но является следствием хорошо продуманной авторской установки, о которой дает представление предисловие к басням, являющееся по своему содержанию как бы своеобразным литературным манифестом Авиана. В нем поэт признает за басней функции назидания, но соотносит эту назидательность не со своими баснями, а с баснями других. Об Эзопе он говорит, что тот «первый начал забавными выдумками утверждать образцы должного»; применительно к Сократу и Горацию — что в баснях «под видом отвлеченных шуток скрывается жизненное содержание». Его же самого привлекает в басне другое — то, что «басни не чуждаются изящного вымысла, не обременяют непременным правдоподобием». Тем не менее, полностью отказаться от назидательности Авиан не может — ведь басня есть басня, он лишь представляет самому читателю извлекать из нее уроки. Именно в этом смысле следует понимать его слова: «Я наделил деревья речью, заставил диких зверей ревом разговаривать с людьми, пернатых — спорить, животных — смеяться: все для того, чтобы каждый мог получить нужный ему ответ хотя бы от бессловесных тварей». Установка на многозначность заключается и в следующих словах: «И вот перед тобой сочинение, которое может... навострить разум... и безо всякого риска раскрыть тебе вёсь порядок жизни». «Навострить разум» — то есть заставить думать, искать «нужный ответ» на волнующий читателя вопрос, избрать то, что может быть для него конкретным и полезным. Сам же Авиан сознательно уходит от морализирования. Весьма интересна вторая часть приведенного высказывания, содержащая слова «безо всякого риска» (cautius), которые, кажется, заключают в себе намек на причины, побудившие поэта именно к такой интерпретации басен. Возможно, многозначность избрана поэтом именно потому, что другая трактовка басен была бы небезопасной? Если принимать во внимание нередкие у последнего историка античности Аммиана Марцеллина («История», XIV, 1 и 7; XXIX, 2 и 3; XXX, 4) упоминания о жестокостях, репрессиях, казнях и беззакониях конца IV в., то такое объяснение вполне приемлемо.
Специфический подход Авиана к басне, направленный на ослабление ее назидательности, отклонялся от традиционных взглядов на басню как на жанр, основной целью которого является поучение, и должен был вызвать уже в ближайшие к баснописцу времена сопротивление этому, нечто вроде неудовлетворенности многозначностью его басен и желание конкретизировать их моральные установки. Именно поэтому переписчики стали присочинять к басням мораль очень рано — отсюда ее наличие в самых древних манускриптах. Со временем эта тенденция усилилась, промифиев и эпимифиев появлялось все больше, в итоге в средние века в хождении был уже целый сборник моралей, дающий даже несколько их вариантов к одним и тем же басням Авиана.
Ослабляя назидательность басен, Авиан совсем по-иному относится к их развлекательной стороне. Даже при обычном чтении интуитивно чувствуется его повышенный интерес к таким ситуациям, которые содержат в себе четко выраженный контраст, конфликт, несоответствие конечного исходному, и интерес к антитетическим словесным формулировкам. Как известно, несоответствие в басне чего-то чему-то, если они тесно взаимосвязаны, имеет своим следствием, как правило, комический эффект и является основой комизма басни. Поэтому повышенный интерес Авиана к таким закрепленным в ситуациях и словесных формулировках несоответствиям можно расценивать как повышенный интерес к комическому элементу басни, ее развлекательной стороне.
Правда, комизм басен Авиана не производит сегодня сильного впечатления при чтении — во всяком случае, смешное чувствуется в его баснях в меньшей мере, нежели в баснях Федра и Бабрия. Причины этого следует, скорее всего, усматривать в той форме, в которую у Авиана облечены басенные несоответствия, то есть в элегическом дистихе. Во-первых, этот стих ассоциируется с совсем не комическими жанрами. За последними поэтическая традиция закрепила ямб, дистих же был традиционным размером элегической и эпиграмматической лирики. Во-вторых, комизм обычно предполагает вместе с несоответствием и его яркость, легкость восприятия, которые обеспечиваются, главным образом, краткостью, лаконичностью. У Авиана же элегический дистих далек от подобной краткости; повторения и плеоназмы придают ему некоторую тяжеловесность, которая еще больше усугубляется витиеватостью и сложностью синтаксических конструкций. Естественно, что это уменьшает комическую окраску басен Авиана, и порой несознательно допущенное автором несоответствие между высокопарной речью и ее автором, то есть персонажем басни, производит более ощутимый комический эффект, чем те, к которым поэт стремится сознательно. Вполне возможно, однако, что современниками Авиана комизм его басен все же воспринимался острее, чем ныне, даже в рамках элегических дистихов.
В пользу сознательного стремления Авиана к усилению комизма басен свидетельствует и предисловие: «И вот перед тобой сочинение, которое может потешить твою душу ... разогнать тревогу». Басенный вымысел для поэта — «изящный», басни — «забавные выдумки», вид «отвлеченных шуток».
Интуитивное впечатление о повышенном интересе Авиана к комическому аспекту подтверждается анализом — примерно в 35 его баснях есть сильнее или слабее выраженное несоответствие, представленное в сюжетной ситуации. Среди басен есть и такие, которые построены на несоответствии расчета и исхода (напр., 33, 24, 1, 2, 8), и такие, в которых комизм вызывается несоответствием сущности и видимости (напр., 5, 6, 7, 15, 16, 26). Комизм ситуации некоторых басен живо ощущается и сегодня (напр., 10, 22, 25). В тех баснях, в которых комизм несоответствия отсутствует или слаб, обыгрывается остроумный выход из положения (17, 27) или играет роль напряженность ситуации (9, 11, 18, 21, 39). Напряженность ситуации свойственна и некоторым басням, где комизм несоответствия выражен слабее (13, 35, 41, 42). Интересна басня 30. В ней, наряду с комизмом ситуации, обыгрывается также остроумный выход из положения. Возможно, что эта басня возникла в результате контаминации из двух отдельных с разными аспектами комизма. Сопоставление басен Авиана с бабриевскими показывает, что римский баснописец не только не ослабляет, но нередко и усиливает комизм ситуации.
Комизм несоответствия обычно закрепляется словесной формулировкой в виде остроумных суждений-антитез (31 басня из 42), которые вкладываются в уста персонажей. Конечно, они не изобретены Авианом, но заимствованы у Бабрия. Более того, иногда, они становятся у Авиана бледными и монументально-сентенциозными по причине размера, многословия и торжественной высокопарности. Но важным кажется здесь не столько оригинальность, сколько интенсивность словесного комизма, а она у Авиана сильнее по причине отбора наиболее отличающихся словесным комизмом басен Бабрия, контаминации, общей тенденции поэта к усилению развлекательной стороны басен.
Установка на развлекательность, сопровождающая ослабление назидательности басни, у Авиана не случайна — она обусловлена конкретной исторической обстановкой, сложившейся в период кризиса империи и характеризовавшейся разрушением сознания единства общества и личности, упадком интереса к общественной жизни, ростом индивидуалистических настроений, стремлений к роскоши и развлечениям, ставших знамением общества. Страсть к зрелищам, играм, боям гладиаторов, представлениям в цирках стала в Риме главным — примерно полгода там посвящалось всевозможным играм и цирковым зрелищам. Аммиан Марцеллин в знаменитых экскурсах о пороках общества много внимания уделяет и увеселениям (Ист., XXVIII, 4, 28-33), и необычайному легкомыслию, и праздности общества (Ист., XIV, 6, 18-19). Сальвиан негодует против жителей Трира, заботившихся после троекратных разрушений и разорения города лишь о возобновлении цирковых зрелищ (О мироправл., VI, 15). О таком же легкомыслии пишет во второй инвективе против Евтропия, временщика императора Аркадия, Клавдиан: окружающие Евтропия бездельники заботятся лишь о цирке, театре, наездниках, гистрионах. Симмах, бывший квестором, претором, понтификом, префектом города, консулом, умалчивает о римских делах в своих письмах, зато много внимания уделяет заботам об устройстве в Риме игр и зрелищ, о гладиаторах, артистах, украшениях, животных (Письма, II, 26; IV, 72; V, 59; VI, 42-43; IX, 15; X, 6, 9, 47).
Авиан усиливает развлекательный аспект басен и за счет подбора нетрадиционных, непопулярных басенных сюжетов. Анализ показывает, что из всех его басен пять (22, 25, 28, 30, 38) представляют своего рода уникум — их сюжеты сохранились лишь благодаря Авиану. Конечно, они могут быть заимствованы у Бабрия через перевод Юлия Тициана (и так, скорее всего, было), но это их сущности не меняет — они никак не могут быть отнесены к популярным басенным сюжетам. Еще четыре басни Авиана (14, 21, 23, 31) не засвидетельствованы ни в одной рукописи сборников Эзопа и встречаются только у Бабрия. Пересказ одной из них (21) дает по Эннию Авл Геллий (II, 29), однако отсутствие ее в эзоповских сборниках не позволяет считать ее более популярной, чем другие. Басни Авиана 7, 11 и 32 также не являются популярными — в издание А. Хаусрата они не вошли, ибо восходят только к Бабрию. Басня 3 есть у Бабрия (109) и в сборнике Афтония, а 37 — у Федра (III, 7), Бабрия (100), в сборнике «Ромул» (65) и в одной рукописи средней редакции эзоповских басен. В очень небольшом количестве рукописей эзоповского сборника (от 2 до 4) встречаются сюжеты басен 15, 16, 18, 19, 24, 27. Из них 19 засвидетельствованы еще только у Бабрия (65, 64) — у Бабрия (36) и Афтония (36), с ней перекликается также Лукиан (Эп., 15, 5-6); 24 — в Бодлейанской парафразе (148), у Афтония (34), псевдо-Досифея (15) и в «Ромуле» (91); 18 — у Бабрия (44), Афтония (16), Синтипы (16) и Фемистия (22, 278), а 27 — у псевдо-Досифея (8), в «Ромуле» (87), у Плутарха (Soli, ап., 10 р, 967А) и Плиния Старшего (Hist. nat, X, 125). Басни 4, 10, 17, 41, 42 есть в 5—8 манускриптах эзоповского сборника. Кроме того, 17, 41, 42 встречаются лишь у Бабрия (1, 124, 132), 10 — в Бодлейанской парафразе (141), с ней перекликается также Марциал (II, 41, 10). Басня 4 есть у Бабрия (18), Синтипы (55), Фемистия (16, 208а) и Плутарха (Ргаес. coni., 12, р. 139d). Все эти басенные сюжеты можно считать довольно редкими. Вместе они составляют более половины сюжетов Авиана — 25 басен. Остальные 17 басен, хотя и встречаются в большем количестве рукописей эзоповского сборника (от 11 до 68, с учетом младшей редакции), не все можно считать популярными. Две из них (9, 12) не засвидетельствованы ни у одного автора; 1, 2, 6, 20, 26, 33, 36, 39 имеют соответствия лишь у одного-двух авторов (Бабрий, Федр, Синтипа, Афтоний). Все 10 басен встречаются в сравнительно небольшом количестве рукописей старшей и средней редакций сборника Эзопа (от 4 до 20 рукописей, № 2 — в 27) и также могут расцениваться как сюжеты не очень популярные. Из оставшихся 7 басен наибольшей популярностью пользуется басня 34 («Муравей и цикада»). Ее находим у Бабрия (140), Федра (IV, 24), псевдо-Досифея (17), Афтония (1), Синтипы (43), Феофи- лакта Симокатты (письмо 61), в «Ромуле» (93) и в 62 рукописях всех трех редакций сборника Эзопа (из них 27 манускриптов старшей редакции). Однако, кажется, это единственная в своем роде столь популярная басня Авиана, да и то она не превосходит в этом некоторые басни Бабрия, например, басню 103 («Больной лев»), которая упоминается еще у Платона (Ale,. I, 123а), встречается у Горация (Ер., I, 1, 73), Сенеки (De otio, I), Плутарха (De prof, in virt., 7, 79а), Фемистия (XIII, 174c), Луцилия (Fragm. 980, 4x), Досифея (6), Афтония (8), Синтипы (37) и в 26 рукописях эзоповского сборника, лишь 8 из которых относятся к младшей редакции.
Конечно, судить о популярности басенных сюжетов сегодня, используя в качестве ее критерия даже рукописи античных авторов, довольно сложно и рискованно. Однако такой критерий все же позволяет говорить, что Авиан при отборе сюжетов для переработки руководствовался среди прочего и их небанальностью, нетрадиционностью.
Л-ра: Іноземна філологія. – Львів, 1980. – Вип. 60. – С. 108-116.
Критика