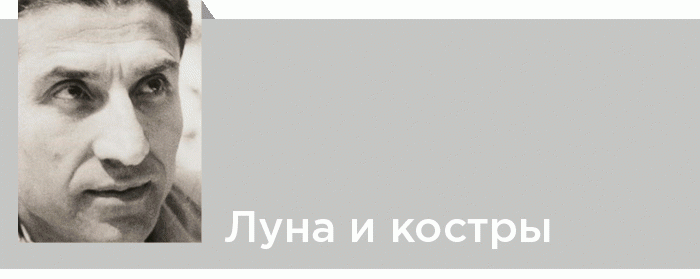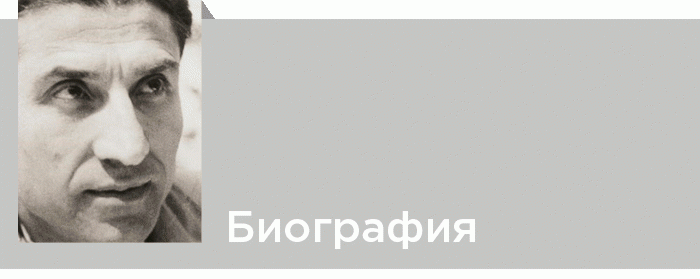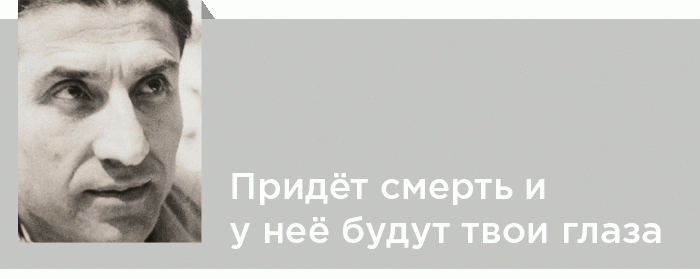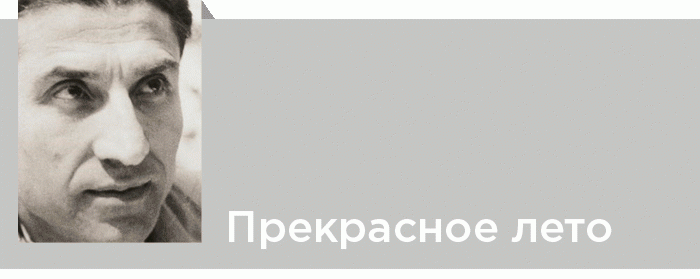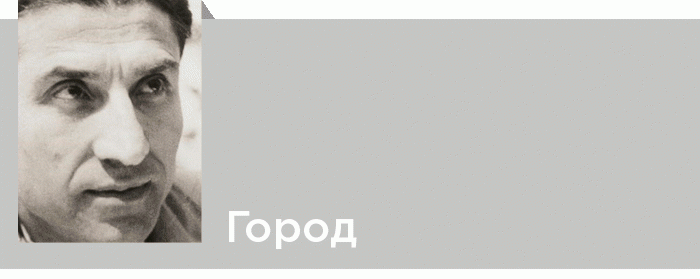Годен к перу
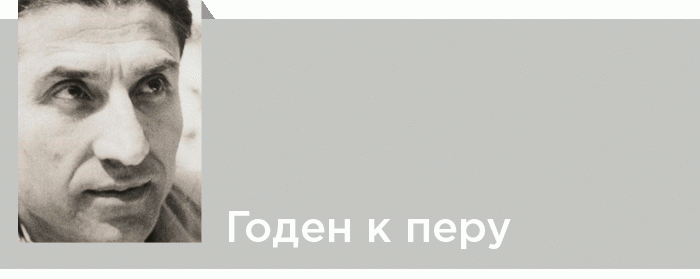
Г. Брейтбурд
«Годен к перу», — не раз писал о самом себе Чезаре Павезе в своих не предназначенных для печати и выпущенных посмертно «Дневниках». Эти слова означали не только трудное признание собственного литературного мастерства, не только жизнь, отданную литературе. Павезе вкладывал в них и другой, горький смысл — он говорил о своей «непригодности» к жизни, о том, что сам в тех же «Дневниках» называл «абсурдным пороком», о своем страхе перед одиночеством, о давнем намерении покончить с собой, которое он осуществил вскоре после выхода в свет лучшего своего романа «Лупа и костры». Впрочем, Павезе сам признавал, что после окончания каждой из книг им овладевало состояние тяжелой депрессии, он походил на «отстрелявшее ружье»...
Попробуем рассказать о недолгой жизни Павезе, одного из значительных итальянских и европейских писателей нашего века, о жизни, которую незачем, да и невозможно отделить от его книг.
О себе он говорил: «У меня нет биографии. После меня останутся только несколько книг, в которых обо мне сказано все или почти все». Думается, в этом он был прав, хотя книги его как небо от земли далеки от пресловутой «исповедальной прозы».
Чезаре Павезе родился 9 сентября 1908 года на севере Италии — в Пьемонте, в небольшом поселке Сан-Стефано Бельбо, расположенном в предгорьях Альп, неподалеку от Турина. Здесь, на склонах холмов, выращивали лучший в Италии виноград, отвозили его в Канелли, в Альбу, в Асти, в другие, прославившиеся своим виноделием города, а рядом с этим еще нетронутым, еще сохранившим свои крестьянские традиции миром, рядом с ним был Турин, уже и в те годы крупнейший промышленный город, рядом была Генуя — порт, откуда уходили корабли во все страны мира.
Отец Павезе, мелкий судебный чиновник, вместе с семьей переехал в Турин, где вскоре скончался от рака. Мать, женщина сурового нрава, всегда казалась Павезе чужой. В семье он был близок лишь с сестрой Марией и сохранил эту близость на протяжении всей своей жизни.
Детство Павезе было разделено между солнцем и тенью, между зимами в Турине и летом, когда его привозили в Сан-Стефано Бельбо, где у семьи сохранился собственный домик. И тогда он снова бродил по холмам, подолгу простаивал на мосту через Бельбо, вдыхал запахи трав и виноградников, добирался пешком до Канелли, уже в детстве казавшегося ему распахнутым в мир и в жизнь окном. Здесь, в Сан-Стефано, он часами просиживал в мастерской плотника Скальоне, сын которого, Пиноло, стал на всю жизнь другом писателя (мы узнаем его черты в образе Нуто из «Луны и костров»),
«А слушать эти речи, быть другом Нуто, знать его близко — для меня было все равно что пить вино или музыке радоваться... И, конечно, Нуто, а никто другой, объяснил мне, что на поезде можно в любое место добраться, а кончится железная дорога — будет порт, откуда уходят корабли; весь мир опутан дорогами, и повсюду порты, везде путешествуют люди, и в назначенный час уходят поезда и корабли. Но везде кто-нибудь да командует, и везде есть люди поумней и есть убогая бестолочь. Он научил меня названиям многих стран, объяснил, что стоит почитать газету, из нее чего только не узнаешь! Пришло такое время, когда, работая в поле, пропалывая под яркими лучами солнца виноградник, нависший над дорогой, я стал вслушиваться в грохот, наполнявший всю долину. Поезд шел в Канелли или обратно, я останавливался и, опершись на мотыгу, провожал взглядом вагоны и таявшие в воздухе клочья дыма, глядел на Гаминеллу, на замок Нидо, глядел в сторону Канелли и Каламандрана, в сторону Калоссо, и мне казалось, что я хлебнул вина, стал другим человеком, стал таким же взрослым, как Нуто, ничуть не хуже его, и придет день, когда и я сяду на поезд: уеду куда глаза глядят».
Так вспоминает об этой дружбе с Нуто — Скальоне сам Павезе в своем последнем романе, желая объяснить, что значила для него деревня, из которой он хотел уехать, чтобы вернуться обратно, повидав мир, чтобы увидеть все «во второй раз». Эта мысль о возврате настойчиво повторяется почти в каждой книге Павезе. В письме Николе Энрикенсу, школьному инспектору в Сан-Стефано Бельбо, Павезе говорит: «Впрочем, все мы учили в школе, что Альфьери открыл себя и Италию, бродя по миру. Вы даже не представляете себе, какую глубину обнаруживаешь в наших и греческих классиках, когда возвращаешься к ним из американского, или немецкого, или русского двадцатого века; можно сказать то же и о семье и родине. Я люблю Сан-Стефано до безумия, но потому, что вернулся очень издалека».
Глубокая, нашедшая художественное выражение в напряженной, до предела точно фокусированной символике его романов и стихов, связь с родной деревней в ее противопоставленности городу и в то же время в неразрывности с ним — таков мотив всего творчества Павезе. Ставший его биографом Давиде Лайоло, в годы Сопротивления командир партизанской дивизии «Гарибальди Монфератто», однажды рассказал ему, как читал своим партизанам стихи Альфьери и Монтале. «Они не приняли тебя за сумасшедшего? — спросил поначалу Павезе, а затем добавил: — Значит, среди партизан действительно были крестьяне». И нет сомнения, у истоков всего, что в книгах Павезе некоторые критики считают «мифом», можно обнаружить крестьянские легенды его родных мест.
Чезаре Павезе рос необщительным, замкнутым, иногда целыми днями молчавшим ребенком, учился неважно. Лишь в лицее «Массимо д’Азельо», где он закончил свое среднее образование, у Павезе появились настоящие друзья. Там он встретил учителя, оказавшего на него большое, быть может во многом решающее, влияние. То был Аугусто Монти, писатель и филолог, человек высокой культуры и непоколебимой твердости антифашистских
убеждений, друг Антонио Грамши и Пьеро Гобетти. Он воспитывал в своих учениках любовь к свободе, ненависть к фашизму, самостоятельность мышления, твердость жизненных принципов, непримиримость к поверхностности, к верхоглядству. Аугусто Монти начинал занятия чтением текстов Данте, Боккаччо, Макиавелли, Ариосто, Альфьери, Мандзони, а затем комментировал их увлеченно и своеобычно, как бы сближая великую литературу прошлого с событиями современности. Монти учил видеть границу между литературой и беллетристикой, учил гражданственности искусства. Примечательно, что большинство учеников Монти становились борцами против фашизма, среди них был и Джанкарло Пайетта — сегодня один из руководителей партии коммунистов, прямо со школьной скамьи начавший свой долгий путь по ссылкам и тюрьмам.
У Павезе Монти более всего ценил самостоятельность и своеобразие суждений. Ему Павезе посылал первые экземпляры своих новых книг, ждал его оценки, хотя нередко и спорил с ним жестоко.
В годы учебы в лицее Павезе открывал для себя Турин, ранее казавшийся ему всего лишь бессмысленным морем огней, видным с холма. Город стал раскрывать перед ним свои тайны постепенно, во время долгих ночных прогулок, во время ночных бесед с друзьями и с женщинами в маленьких кафе, за бутылкой густого и терпого «бароло», в часы катанья на лодке, которые стали для Павезе радостной привычкой.
Но Павезе открывал для себя и другой Турин — Турин рабочих, Турин коммунистов, ставший крепостью антифашизма.
В одном из ранних своих стихотворений, вошедших в книгу стихов «Работа утомляет», Павезе пишет: «Ночь пришла, погасила огни, в сон врывался лишь ветер. Завтра снова мальчишки станут бродить по холмам, и никто не припомнит стрельбу. Ночью тюрьмы полны молчаливых рабочих. Кое-кто уже мертв, и на улицах пятна их крови» Как-то в послевоенные годы Павезе посетил своего друга Лайоло в редакции «Унита». Воспользовавшись его отсутствием, взял с полки в его кабинете сборник своих стихов и мелким почерком вписал после этих строк: «18 декабря 1922 года. Помни: убийства в Турине (Брапдимарте, Баррьера ди Ницца). Убиты: Беррутти, Фанти, Кьолеро, Массаро, Тариццо, Андреоли, Беккьио, Кьотто (мальчик-коммунист) Маццола, Кинтальо... У меня тогда были двенадцать имен».
Павезе отметил, что в его стихах речь шла о карательной экспедиции «сквадристов» во главе с убийцей Брандимарте. В ту ночь фашисты подожгли здание профсоюзов, клуб железнодорожников, клуб имени Маркса, разгромили редакцию коммунистической газеты «Ордине пуово», избили Грамши, расстреляли на улицах Турина тринадцать рабочих.
Мы рассказываем об этом эпизоде не столько для того, чтоб убедить читателей в несомненном антифашизме Павезе. Важно другое — как часто, порой нарочито часто, прочитывались лишь в символическом ключе вполне реалистические строки, как часто и нарочито забывали, что сама символика Павезе — сгусток реалий.
Дружба Павезе с Монти и с его учениками — многие из них стали видными антифашистами — продолжалась. «Вы научили всех пас ставить на последнее место в жизни беллетристов», — писал еще молодой Павезе своему учителю в годы своей близости к людям, боровшимся против фашизма не только пером. Университет еще больше сблизил Павезе с ними, людьми высокой твердости и требовательности. Среди них был Леоне Гинзбург, расстрелянный гитлеровцами в 1944 году (он многое сделал для перевода и издания в Италии произведений русских писателей), Франко Ангоничелли, в годы Сопротивления ставший главой Комитета национального освобождения, Массимо Мила, Норберто Боббио, Карло Леви и другие. Эти знакомства определили резко отрицательное отношение Павезе не только к фашистской псевдокультуре, но и к герметическому искусству, в котором он видел трусливую, прикрытую подражательным лиризмом попытку укрыться от действительности. Мотивы социального протеста, столь ясно прозвучавшие в первой книге стихов Павезе «Работа утомляет», во многом определились именно в эти годы, в кругу этих людей, пробудивших в нем мечту «сблизиться с ясной жизнью домов, где живут рабочие, с одинокими девушками, живущими своим трудом, с народной элегантностью и душевной уравновешенностью...»
В 1930 году Павезе кончает университет, блестяще защитив дипломную работу «Об истолковании поэзии Уолта Уитмена». Еще в университете Павезе перевел одну из самых любимых своих книг — «Моби Дик» Мелвилла. Интерес к американской литературе сохраняется у него на долгие годы. Он переводит Синклера Лыоиса, Шервуда Андерсена, Джона Дос Пассоса, Гертруду Стейн, Джона Стейнбека, Уильяма Фолкнера; пишет эссе, статьи, предисловия к изданиям американских авторов, вышедшие позднее отдельной книгой под названием «Американская литература и другие очерки» (1951).
Интерес Павезе к американской литературе (об этом говорит и список перечисленных выше авторов) был не случаен и глубоко полемичен. В сущности, эти книги находились под запретом в фашистской Италии, их переводы выходили ничтожными тиражами, в маленьких издательствах, после долгих препирательств с цензурой. Сама работа по их изданию имела целью вывести страну из затхлой атмосферы культурной изоляции и провинциального национализма. Эти и другие американские авторы привлекали к себе Павезе и остротой социальной тематики, и своей антириторичности, и тем, что им в то время воспринималось как непосредственный, спонтанный и в то же время активно вторгавшийся в мир реализм.
Было бы, однако, неверно полагать, будто творчество Павезе было подражанием американским писателям, в чем его так настойчиво и безосновательно обвиняла и фашистская и герметическая критика.
Пожалуй, о влиянии формальном можно говорить скорее по поводу стихов Уитмена. Свободный, раскованный ритм, конкретная образность, метафоричность восприятия природы в «стихах-рассказах» сборника «Работа утомляет» порой подтверждают такое предположение. Но и в этих своих стихах Павезе прежде всего своеобразен; в споре с герметиками он стремится приглушить свое так называемое лирическое «я», хочет добиться максимальной конкретности изображения, сказать лишь самое существенное о самом насущном, быть всегда «ясным, простым, объективным». Символика «Моби Дик» Мелвилла ощущается в первом, широко известном стихотворении этой книги, названном «Южные моря». Это стихи о двоюродном брате, который отправился путешествовать, достиг Океании, но вернулся домой, в свои горы, принеся с собой ощущение больших просторов мира, не убившее в нем привязанности к родным местам, без которой жизнь бессмысленна и невозможна. Мотивы «Южных морей», усложняясь и оттачиваясь, проходят через многие книги Павезе. О своеобразии стихов этого сборника, к сожалению почти не замеченных критикой в годы их появления, говорит, например, такое произведение, как «Курильщики бумаги», и другие «стихи-рассказы».
Пожалуй, из современных писателей Америки наибольшее влияние на Павезе оказал все же Фолкнер, хотя четкая, краткая, доведенная до предельной ясности фраза Павезе имеет так мало общего со словесными водоворотами великого американского писателя. Здесь влияние совсем иного рода и никак не формализованное.
Павезе увидел в изображенном Фолкнером американском Юге, в традиционном его укладе, стремление противопоставить твердые устои жизни распаду этих устоев, воплощенному в городе, в индустрии. Павезе сближают с Фолкнером некоторые четкие ряды противопоставлений: «деревня» — «город», «детство» — «зрелость», «дикость» — «цивилизация», — хотя сам Павезе, должно быть, понимал, по крайней мере разумом понимал, обреченность своей «деревни», — будучи оторваны друг от друга, полярно противопоставлены, термины этих параллельных рядов могут обозначить закостенелость, противостоящую движению истории.
В отличие от Фолкнера, Павезе сознавал революционность рабочего класса. Но узел, сложный узел всего творчества Павезе заключен именно в этом его «абсурдном пороке», в противоречии между разумом и чувством, верностью и неверием. Однако об этом позже. Здесь приведем лишь выдержку из крайне важного для понимания поэтики Павезе, пусть резкого по тону, письма его к своему учителю Монти.
«Мне кажется, — пишет Павезе, — что обе повести, о которых вы говорите («Дьявол на холмах» и «Только среди женщин»), указывают на человечность, заключенную именно в том, кто работает, кто полезен делу; а те, кто не работает и, следовательно, не приносит пользы, охвачены гангреной, от них идет вонь. Какую же ненависть к ближнему ты мне приписываешь? — спрашивает Павезе у своего учителя. — «Дьявол на холмах» — это гимн молодости, открытию природы и общества; этим трем ребятам все кажется прекрасным, и лишь постепенно, и каждый из них по-своему, приходят они в соприкосновение с миром «бесполезных», с определенным буржуазным миром ничего не делающих и ни во что не верящих. Я не вижу, зачем мне прикрывать этот мир вуалью. То же и в повести «Только среди женщин»: здесь уже не ребята, здесь нет песни открытия, здесь жестокий опыт женщины, которая трудится, которая создала себе жизнь, которая самостоятельна. И с кем в контакте эта женщина? Со все тем же бесполезным миром ничему не верящих или верящих лишь дурацким выдумкам. Эта женщина видит, как их мир гниет и убивает себя. Но даже в этом мире стараются спасти то, что еще можно спасти; самоубийца — жертва, в сущности, невинная, самая невинная из всех; если она умирает, то именно оттого, что она единственная из них способна почувствовать, чего ей не хватает.
Я спрашиваю у себя, почему ты хочешь заставить меня обращаться помягче с названными выше господами? Попробуй указать мне в этих повестях хоть одного порядочного человека (производящего что-либо полезное, имеющее ценность), который не был бы возвышен мною. В первой повести — это землекопы, крестьяне, семья Оресто и его двоюродных братьев, горничная и садовник на вилле в Греппо...
У меня возникло подозрение: ты своими чувствами столь связан с высшей буржуазией, что тебя огорчает, когда я называю ее дерьмом, а с миром труда ты связан столь волюнтаристски, что требуешь от любой книги заурядного абстрактного оптимизма активистского типа. Если это так, то мы с тобой друг друга понять не можем».
У многих критиков, писавших о Павезе при жизни писателя и после его смерти, доминируют сопоставления между творчеством Павезе и произведениями современной американской литературы.
Сам Павезе решительно отрицал любые прямые влияния американской литературы на свое творчество и на творчество других итальянских писателей. Он писал Витторини, который, как и он сам, много переводил американских авторов: «Особенно я не согласен насчет Витторини: «технической имитации американцев» не существует, — поверьте, потому что я знаю их. Кажущееся их влияние на Витторини есть скорее нахождение вновь... Одним словом, Витторини перевел многих писателей, в которых находил самого себя, а потом вышло так, что когда он пишет, кажется, будто он им подражает. Нет, он искал их в силу избирательной близости».
Отбросив упрек в подражательности стихов и прозы Павезе, нам остается отметить, что в трудные годы фашизма и в первые годы после войны Павезе многое сделал для знакомства с демократической культурой Америки, в которой сам никогда не бывал (главы об Америке в романе «Луна и костры» — лишь крайняя антитеза его «деревне»). Последние годы жизни Павезе совпали с началом «холодной войны», о которой Павезе говорил с горечью и отвращением. В письме к американскому издателю Сэнфорду Гринбергу, запрашивавшему о возможности публикации Грамши в США, Павезе утверждает: «По поводу Грамши. Я знаю только «Письма из тюрьмы» и «Исторический материализм». Остальные рукописи хранятся у издателя, и о них ничего не известно. Но я не думаю, чтобы демократическая Америка разрешила перевод этих страниц: они были написаны в фашистской тюрьме, борцом, которому, будь он сегодня жив, например, запретили бы въезд в Америку».
Суждения Павезе о некоторых американских литераторах отличаются остротой и проницательностью, не утратившей своей актуальности.
В довоенные годы Павезе много переводил, мы уже сказали об этом. Многолетняя его работа в издательстве «Эйнауди», культурное значение которого неоспоримо сказалось именно в последние пять лет жизни Павезе, связанные с его напряженной и неутомимой издательской деятельностью, привели Павезе к общению с большим кругом переводчиков.
Не лишены интереса взгляды самого Павезе на художественный перевод, выраженные во многих его статьях и письмах. Уважение к нелегкому труду переводчика сочеталось в нем с требовательностью, доходящей порой до резкости. Павезе в переводчике прежде всего ценил (при абсолютной достоверности) «умение плавать самостоятельно», способность к собственным находкам, лаконизм, предпочтение народного языка книжному. Он был убежден в творческом характере переводческого труда, считал, что перевод может удаться, только если автор близок переводчику (сам Павезе, например, отказался от перевода Джойса, потому что, по его словам, «сильно не любил и не всегда понимал этого автора»). В самом издательстве «Эйнауди», где Павезе руководил выпуском переводной литературы, им была заведена строжайшая классификация переводчиков, с которыми издательство имело дело, — переводы поручались в зависимости не только от профессионального уменья, но и от литературных вкусов переводчика; научную литературу переводили только специалисты, все работающие для издательства переводчики делились на две группы — нуждающиеся в проверке их работ и не требующие таковой, — от этого зависел их гонорар, своевременной уплаты которого Павезе всегда и с трудом добивался у любившего «тянуть» с уплатой издателя Джулио Эйнауди.
Работа Павезе в издательстве «Эйнауди», начатая еще при фашизме, когда вокруг издательства объединялись прогрессивные деятели итальянской культуры, была прервана арестом. После нескольких месяцев заключения в тюрьме он был сослан в глухую южную деревню — Брапкалеоне Калабро.
Помимо близости к сотрудникам издательства, арестованным почта в то же время, что и Павезе, у его ареста была иная причина. Павезе в те годы любил женщину, имени которой не называет ни один из его биографов (оно опущено и в «Дневниках», и в изданных посмертно «Письмах»). В своих стихах Павезе называет ее «женщиной с хриплым голосом». Любовь к ней была самой сильной страстью Павезе, испытанной им за всю свою жизнь. Неизгладимый и трагический след оставила эта неудавшаяся любовь.
«Женщина с хриплым голосом» была связной-подпольщицей. Одно из предназначенных ей писем пришло на адрес Павезе, что и стало причиной его ареста и ссылки. Разрыв с этой женщиной вызвал у Павезе глубочайший душевный кризис, который он преодолел не скоро и, как видно, не до конца.
Второй его любовью стала известная в те годы американская киноактриса Констанс Даулинг, связь с которой принесла Павезе недолгое счастье.
Констанс Даулинг приехала в Италию в 50-е годы вместе со своей сестрой Дорис. То были времена внезапного и бурного расцвета итальянского кино, и ей хотелось сниматься в итальянских фильмах.
То были также годы наибольшего успеха Павезе, и Констанс Даулинг, должно быть, нравилось, что в Италии с ней постоянно рядом «модный» писатель, что он сочиняет для нее сценарии. Думается, не более того. Но по-иному воспринял эту встречу с «женщиной, пришедшей из-за океана», с «женщиной, которую принес мартовский ветер», сам Павезе. Он снова, после долгих лет перерыва, пишет стихи, в которых звучит радость, ощущение полноты жизни, стихи о женщине с «лицом весны», чей взгляд как «утренний свет зари над еще темными холмами».
Он изменяет привычный образ жизни, покидает свой кабинет в издательстве, где просиживал по двенадцать часов в сутки, меняет свои поношенные, давно вышедшие из моды темные костюмы на элегантную одежду, разъезжает вместе с сестрами Даулинг по Италии, останавливаясь в самых дорогих гостиницах, знакомится с режиссерами кино, которых раньше не желал знать, пишет один за другим сюжеты для сценариев.
Он предлагает Констанс пожениться. Вот одно из многих писем к ней: «Я не говорил тебе, что с детства страдал предрассудком «добрых дел». Когда предстояло нечто опасное... я старался не быть дурным, никого не обижать, не повышать голоса, не думать ни о ком скверно. Все для того, чтобы не искушать судьбу. В эти дин я снова становлюсь ребенком и стою перед лицом большой опасности, выдерживаю страшный экзамен. Я убеждаюсь в этом потому, что не смею быть злым, оскорблять других, потому, что гоню прочь дурные мысли. Все оттого, что мысль о тебе и недостойная, дурная мысль несовместимы. Я люблю тебя. Дорогая Конни — я знаю вес этих слов, за которыми ужас и чудо, и говорю их тебе почти совсем спокойно. Я так редко и так скверно произносил их на протяжении всей моей жизни, что они звучат для меня почти совсем как новые».
Но Констанс Даулинг, ответив на предложение Павезе неопределенными обещаниями, внезапно уехала в Америку.
В начале того же года выходит в свет последний роман Павезе «Луна и костры». У Павезе, как всегда после законченной работы, наступает ощущение подавленности, опустошенности, неуверенности в том, сможет ли он писать дальше. В июле этого года он, уже после разрыва с Констанс, получает премию «Стрега», самую значительную из литературных премий того времени. Но уже ничто не в состоянии изменить принятого им решения.
25 августа 1950 года Павезе отправляет свое прощальное письмо Давиде Лайоло. «Вот уже много лет, как я не думал об этом, — сообщает он другу, который прочтет эти строчки уже после его смерти. — Я писал. Теперь я больше не буду писать... Я отправлюсь в свое последнее путешествие с упрямой стоической волей жителей наших гор».
26 августа Павезе покидает квартиру своей сестры, у которой жил, снимает номер в гостинице «Рома». Оттуда он уже не выйдет живым. На следующий день кто-то из гостиничной прислуги услышал, как кошка скребется о дверь, запертую изнутри номера... Рядом с постелью лежали сборник неизданных стихов и записка: «Прощаю всех и прошу прощенья у всех. Ладно? Только не надо сплетен. Чезаре Павезе».
Стихи, часть которых была написана по-английски, посвящались Констанс Даулинг. Они вышли отдельным сборником, названным «Смерть придет, и у смерти глаза как твои» — так начиналось одно из первых стихотворений. Павезе было всего сорок два года.
О своем «абсурдном пороке» самоуничтожения Павезе не раз писал в «Дневниках», писал в своих не предназначенных для печати рассказах. Он, как сказано в одном из его последних писем, «предвидел все еще за пять лет». Ему не хватило мужества перед лицом жизни, его страшили одиночество, ложное представление, будто он все уже сказал в своих книгах. Да, Павезе предвидел свою смерть. Он, всегда неуверенный в том, читают ли его книги, должно быть, не мог предвидеть одного — многие тысячи туринцев шли за гробом писателя.
Из вошедших в однотомник повестей, или, как говорят в Италии, «кратких романов», Павезе лишь одно произведение — «Прекрасное лето» — было написано Павезе до войны, в 1940 году.
Это история любви, первой любви молодой девушки Джинии и художника Гвидо. История жестокой и неудавшейся любви, которая продлится лишь несколько месяцев.
Джиния работает в швейной мастерской, живет вместе с братом-электротехником. Гвидо — молодой, верный своему призванию художник, родился в крестьянской семье, мечтает «написать картину, которая опоясывала бы мастерскую и на которой, как сквозь трещины в стене, со всех сторон были бы видны холмы и ясное небо».
В одной с ним мастерской работает художник Родригес, пишущий «скелеты растений», лица, но без глаз, с черными пятнами штриховки, и такие рисунки, что «не поймешь, лица это или пейзажи».
К художникам Джинию приводит Амелия — натурщица, больная сифилисом, постаревшая прежде времени. Со злобной ревностью наблюдает она за увлечением Джинии.
Любовь к Гвидо становится для Джппип выходом из замкнутого круга одиночества и безнадежности. Жизнь ее и других персонажей этого краткого романа показана на фоне городских окраин Турина, скучных и грязных баров, изображена тусклыми красками повседневности. Но это лишь подчеркивает силу и жизненность овладевшего девушкой чувства. Автор достигает предельной напряженности повествования, пользуясь самым скупым набором выразительных средств. Он как бы устраняет себя целиком, как бы подчеркивает свое равнодушие к повествованию. Подобно режиссеру лучших неореалистических фильмов, он словно бы лишь регистрирует происходящее, заставляя читателя забыть о том, что каждый из кадров подобран и смонтирован рукой мастера. Но это не «объективный дневник чужих дел», не хроника, которой всегда присуща незавершенность. За каждым из чередующихся кадров — внутренняя логика событий, направленная к решению четкой художественной задачи.
Те немногие страницы книги, где Павезе изображает чувство Джинии, волнуют читателя, даже когда автор, казалось бы, менее всего хочет добиться его сочувствия.
Позволим себе процитировать один лишь отрывок:
«А сама она в семь часов опять пошла в студию и медленно, чтобы не раскраснеться, поднялась на шестой этаж. Но хотя она и медленно подымалась, а перешагивала сразу через две ступеньки. Она все думала, что если Гвидо и нет, он в этом не виноват. Но дверь была открыта. Гвидо услышал ее шаги и вышел ей навстречу в коридор. Теперь Джиния была по-настоящему счастлива.
Ей хотелось бы поговорить с ним, и было много чего сказать ему, но Гвидо запер дверь и первым делом обнял ее. В окно еще пробивался свет, и Джиния спрятала лицо у него на плече. Сквозь куртку она чувствовала тепло его кожи. Они сели на софу, и Джиния, ничего не говоря, заплакала.
Плача, она думала: «Вот если бы и Гвидо плакал», — и чувствовала жгучую боль в сердце, от которой вся млела и, казалось, теряла сознание. Но вдруг она лишилась опоры; она поняла, что Гвидо встает, и открыла глаза. Гвидо стоял и с любопытством глядел на нее. Тогда она перестала плакать, потому что ей казалось, что она плачет на людях».
Такова одна из, может, наименее «черствых» страниц этой книги о любви, столь внезапно расцветшей среди чужого ей сурового зимнего Турина фашистских лет.
Большинство итальянских критиков, писавших об этом кратком романе, подчеркивают его безысходность, предсказывают Джинии страшную судьбу Амелии. Нам думается, автор не дает оснований для таких заключений. Чувство, испытанное Джинией, обогатило ее душу, раскрыло перед ней новые, неизведанные просторы — оно поможет ее становлению, оно своей силой и напряженностью перечеркивает неизбежность одиночества.
Что ж до «сухости» автора, скажем лишь одно — бывают фильмы, в которых плачут на экране, а в зале скука. Бывает и наоборот.
Сам Павезе полагал: «Нет ничего прекрасней, чем облачить взрывчатую материю — как науки, так и поэзии — в суровые одежды, которые придают единообразие и большевизируют их».
В этой книге уже намечен, хотя лишь пунктиром, один из мотивов, который станет едва ли не ведущим в последующих произведениях Павезе. Это контраст между людьми труда и теми, кто паразитирует на чужом труде, между делающими и бездельниками, конфликт социальный, который у Павезе выражается как непримиримость здоровья и болезни, как обреченность «людей без дела», а значит, и без корней в жизни.
Особенно четко этот конфликт виден в романе «Дьявол на холмах», о котором сам Павезе говорил, что в нем ключ к верному прочтению «Прекрасного лета».
Формулируя принципы своей художественной работы, Павезе писал: «Живое равновесие произведения искусства порождается контрастом между натуралистической логикой изображенных фактов и задуманной, никогда не забываемой автором внутренней логикой, которая господствует как цель».
В «Дьяволе на холмах», произведении почти бессюжетном, в котором, однако, столь ясно ощутима связь чередующихся эпизодов, эта внутренняя цель выявляется особенно рельефно. Писатель сталкивает друг с другом людей труда, людей дела, людей, пустивших глубокие корни в землю, которая возмещает их труд, платя за него радостным ощущением жизни, и людей вне времени и места на земле, людей, чуждых труду, чуждых делу, опустошающих землю и потому обреченных.
По одну сторону — крестьяне и сыновья крестьян, которые учатся делу в Турине, по другую — морфинист Поли, отец которого «ворочает миллионами» и «заправляет» всем в Милане, любовница Поли Розальба, кончающая самоубийством, и даже не пытающаяся спасти Поли, равнодушная к нему жена Габриелла.
По одну сторону — познавшие красоту родной земли крестьяне с их естественным и радостным отношением к жизни, по другую — миланские гости Поли, люди опустошенные, алкоголики, бессмысленно мчащиеся по горным дорогам в своих роскошных машинах.
Речь идет, на наш взгляд, именно о таком непримиримом столкновении людей двух классов, двух мироощущений. Думается, неправ даже такой внимательный исследователь творчества Павезе, как Лоренцо Мондо, который утверждает, что писатель стремился лишь «показать соприкосновение двух социально различных миров, изобразить их взаимную реакцию».
Сегодняшнему читателю этой книги может показаться удивительно четким и даже чрезмерно конкретным то ощущение обреченности буржуазии, с которым он встретится на ее страницах. Позволим себе напомнить, что она вышла в свет в 1948 году, а написана была раньше, и что именно в эти годы большинство прогрессивно мыслящих итальянцев воспринимало разгром фашизма как конец буржуазного общества, породившего фашизм, и еще не видело ни возможности, ни всей опасности «реставрации буржуазности», пришедшей поздней и, главное, ни в чем не опровергшей авторского понимания исторических судеб буржуазного класса. Разве что в 60-е годы Поли, изображенный как «дьявол на холме», мог бы не только увлекаться наркотиками, он мог бы, при благосклонной поддержке своего отца, скажем, стать маоистом, как многие сынки миланских миллиардеров. Но разве это изменило бы суть дела?
Павезе и в этом своем романе предельно антириторичен, он и здесь воздерживается от прямого авторского вмешательства, от каких-либо деклараций; добивается он своей цели ритмом повествования, игрой светотеней, незаметно, по твердо подчиненных авторскому замыслу, главной своей мысли, как бы невзначай высказанной им на страницах романа: «Только те, кто обрабатывают свою землю, достойны жить на ней». Спасать таких, как Поли, нельзя, спасти их невозможно. Их удел — равнодушие, ненависть, гибель. Им чужда «густая кровь земли», их виноградники давно заброшены, они не могут по-настоящему видеть зеленых холмов, склоны которых напоминают «бока ухоженных коров», они способны лишь заражать других своим отчаяньем, своей никчемной бесполезностью. Они должны исчезнуть.
Мы уже упомянули о попытке Л. Мондо как бы перечеркнуть классовое содержание этого романа, свести его просто к контакту людей различных социальных слоев.
К сожалению, роман не был в те годы понят и некоторыми, в ту пору догматическими, а позднее сочувствующими модернизму критиками.
В письме к Рино даль Сассо, выступившим с весьма схематичной статьей в газете «Унита» от 25 февраля 1950 года, Павезе убежденно разъясняет: «Ты прав, когда пишешь, что в этих романах («Дом на холме», «Дьявол на холмах», «Только среди женщин») изображена определенная буржуазная ситуация тупика. Твои суждения о большей или меньшей четкости морального (и даже исторического) осуждения этого мира закономерны. Но большой вопрос возникает, когда видишь, что твое суждение направлено к тому, чтобы исключить из искусства любую трагическую тему... Мы либо пишем трагедии, либо не пишем их. Если пишем, то должны разрешить подлецу (или жертве, в зависимости от случая) полноту его страданий, в которой заключена их позитивность. Тут, кроме того, не нужно забывать, и этому учит «Илиада», что война — печальная штука так же и потому, что нужно убивать своих врагов. Само собой, это не должно ослаблять силы нашего удара, но, как правило, лучшими бойцами являются те, кто осознает эту грустную необходимость».
Думается, что в этом письме Павезе весьма ясно высказал свою не только эстетическую, но и политическую позицию — позицию борца, позицию гуманиста нового типа, не раз говорившего, что «гуманизм — это не удобное кресло для отдыха».
[…]
Известный итальянский исследователь литературы Карло Салинари считает «лебединой песней» Павезе, самым удавшимся из его произведений роман «Луна и костры», в котором Салинари находит связь с первым из опубликованных Павезе стихотворений «Южные моря» — тему «возвращения после долгих странствий и поисков воспоминаний детства».
С этой оценкой нельзя не согласиться, хотя она далеко не исчерпывает значения написанной совсем незадолго до смерти книги Павезе. В ней как бы сплелись воедино все важнейшие мотивы творчества писателя, его многолетние искания. Да, разумеется, эта книга о возвращении из долгих странствий, возвращений к родным холмам, лесам, виноградникам, к другу детства Нуто, к лучшим воспоминаниям молодости.
И в то же время у этой книги необычный эпиграф, взятый у Шекспира: «Зрелость — это все», и в то же время увиденная «во второй раз» деревня предстает перед читателем в новом свете, во всей остроте своих социальных конфликтов, со всеми еще не зарубцевавшимися ранами партизанской войны, со своими нынешними бедами.
Радость узнавания — один из ведущих мотивов романа.
«— Приехал я сюда отдохнуть на полмесяца, — рассказывает вернувшийся из Америки Угорь, который в детстве был взят сюда, в эту деревню, из сиротского дома, — а тут как раз храмовой праздник, августовский день богоматери... Шум, гам, песни, где-то гоняют мяч, а стемнеет — фейерверк, хлопушки. Но вот кончилось шествие, все выпили — ночь и еще три ночи кряду танцует вся площадь; гудки машин, веселые рожки, трескотня выстрелов в тире. И все как было когда-то: и гомон тот же, и то же вино, и лица все те же. И мальчишки, что снуют под ногами у взрослых, и упряжки волов, и запах духов и пота, и пестрые платки, и чулки на дочерна загорелых ногах женщин, все как было когда-то. И чья-то беда, и чье-то веселье, и обещания на берегу Бельбо. Все, как было когда-то... Новым было лишь то, что теперь я знал все, а те времена прошли».
Новым стало ощущение зрелости, ощущение ясности, раздирающей в клочья предания и мифы детства. Потребность в ясности, понимание того, что мир плохо устроен и его нужно изменить, воплощен в образе старого друга Угря, плотнике Нуто, самом цельном из персонажей, созданных Павезе. В сущности, Нуто из «Луны и костров» — это и есть коммунист Пабло из «Товарища», только прошедший сквозь многие испытания, обретший опыт зрелой цельности и человечности. Нуто, «которому во всем надо разобраться», который понимает, что «не каждый, кто захочет, может стать коммунистом». Нуто, который жаждет знаний, видит впереди долгие годы борьбы во имя счастья человека. Нуто, который «крепко вбил себе в голову, что никто не должен держаться в стороне» в этой борьбе против зла и невежества, против жадности хищников, готовых снова вешать и расстреливать, лишь бы сохранить награбленное.
Зовущей к себе деревне, хранящей красоту и радость жизни, берегущей память о детстве и прожитой жизни, голосу извечной мудрости и живого разума, тому, ради чего стоит жить, Павезе в этом романе противопоставил не Турин, а Америку, откуда вернулся его разбогатевший герой. Главы, посвященные Америке, звучат трагическим диссонансом всему, что дорого этому человеку. Здесь, в деревне, он вспоминает Америку, какой увидел и почувствовал ее за двадцать лет, прожитых в этой стране:
«Ночь была безлунная, но в небе пропасть звезд, не меньше, чем лягушек и цикад, не умолкавших ни на миг. Если бы Нора в ту ночь дала повалить себя на траву, мне и этого было бы мало. Все равно не умолкли бы лягушки, все равно доносился бы скрежет машин, переключавших скорость перед спуском, все равно не кончилась бы Америка, все равно гудели бы ее дороги, все равно сверкали бы огнями города ее побережья.
Сидя там, на траве, я вдыхал в темноте ночи запах садов и сосен, и я отдавал себе отчет в том, что эти звезды в небе мне чужды, что я боюсь их, как боюсь Нору и посетителей бара. Яичница на сале, хороший заработок, огромные, с арбуз, апельсины — все это ничего не значило, все было как те цикады и лягушки. Стоило ли сюда забираться? Куда мне податься еще? Вниз головой с мола?
Теперь я понимал, почему то и дело в машинах на автостраде, или в доме, или в глухом переулке находили задушенных девушек. Им, этим людям, тоже хотелось повалиться на траву, хотелось, чтобы их не раздражали лягушки, хотелось владеть тем клочком земли, на котором уместилась бы женщина, хотелось спать настоящим крепким сном, без тревоги и страха. Ведь страна большая и земли хватает для всех. И все у них есть — женщины, земля, деньги. Но им всего этого мало, и никто из них, как бы ни разбогател, не остановится...»
Здесь у нас та же Америка, она и к нам пришла, здесь у нас и миллионеры, и нищие, — обронил в одной из бесед Нуто, простыми, ясными словами впервые раскрыв подлинное значение символики Павезе, к которой писатель возвращается в самом конце своей стройной по композиции, необыкновенно емкой книги.
Нуто приводит своего друга на самую вершину холма, к сожженной немцами усадьбе. Здесь партизаны расстреляли дочь хозяина Моры — усадьбы, где Угорь с детства батрачил.
Красавица Сантина шпионила для немцев, для фашистов. Дым костра развеял память о прошлом, суровая реальность борьбы и потерь заставила потускнеть мифы памяти.
Известный итальянский ученый Джанфранко Контини, определяя место Павезе в литературе своего времени, сказал: «Павезе был бесспорным вождем итальянского неореализма».
Столь ли бесспорно это утверждение?
Вне сомнения, неореализм в итальянской литературе был течением прогрессивным, порожденным сопротивлением фашизму, но в то же время в чем-то и бесформенным, лишенным четкой художественной программы, если не считать программой стремление к созданию «лирических, опоэтизированных документов» — произведений, из которых устранялись разработка характеров, создание персонажей, исследование психологии человека. Мы далеки от того, чтобы перечеркнуть результаты этой литературной работы первых послевоенных лет, и вместе с тем сегодня не можем не отметить, что, в отличие от кинематографа, в котором неореалисты создали бесспорные художественные шедевры, стоящие в одном ряду с великими произведениями мирового кино, неореалистическая литература, за немногими отрадными исключениями, породила целый поток серых, как бы штампованных по единому образцу книг, не оставивших заметного следа.
Расплывчатость или, вернее, отсутствие художественной программы «литературного неореализма» позволили его быструю ликвидацию неоформалистами и в то же время давали возможность «зачислять» в сторонники этого направления писателей, весьма далеких от него. Некоторое время (после первой книги «Римских рассказов») в неореалистах ходил даже Моравиа.
К слову, Альберто Моравиа, во многом отрицавший художественное значение Павезе и объединивший его в этом своем отрицании с Хемингуэем, в 1954 году писал: «Идеи и произведения Павезе имеют сегодня в Италии многочисленных последователей и подражателей. Весьма любопытно, что все эти неореалистические эпигоны... не выстрадавшие интеллектуально и человечески драму Павезе, обнаружили ее уже решенной или внешне решенной в его книгах и пришли к повествовательным формулам, которые сам Павезе, будучи человеком хорошего вкуса и интеллектуальной строгости, несомненно, отверг бы. Они ищут непосредственности, мифа, встречи с действительностью вне рамок культуры, стремятся к «поэтическому документу», а на деле приходят к одномерному натурализму, без глубины культуры и мысли, либо просто к диалектальному и провинциальному фрагменту. Кажется, такова общая черта итальянской культуры и литературы: на одного, кто действительно выстрадал свою драму, пришел к истокам и прочел книги, приходится тысяча пользующихся его результатами, пассивно и механически применяющих его эстетические модели, его метод. Несомненно, среди подражателей Павезе есть люди, которые завтра, пройдя трудным путем изменений и пересмотра, обретут собственное лицо, пока же остается впечатление манерной литературы, совершенно однообразно доказывающей, что самой литературной литературой в мире является литература, провозглашающая свой антилитературный характер».
Как же относился к неореализму сам Павезе? Он поддерживал в нем все, что было направлено против старой герметической литературы, поддерживал книги, казавшиеся ему талантливыми (например, «Черствый хлеб» неореалиста Сильвио Микеле), и с присущей ему бескомпромиссной резкостью отвергал риторичность и художественную безответственность.
Приведем лишь один из немногих примеров — издательский отзыв Павезе на книгу Джансиро Феррата, пересланный им автору: «Стиль очеркистский, не повествовательный. Нет ни персонажей, ни предметов, есть лишь некоторые рассуждения об атмосфере — летние шумы, цветы в ноябре и так далее... Абстрактные душевные состояния не оправданы драматическим развитием событий, они лишь названы».
В произведениях многих писателей-неореалистов для Павезе было неприемлемо отсутствие психологической разработки характеров, отсутствие культурной проблематики. Он не разделял той поддержки, которую оказывал этим писателям Витторини, выпустивший многие десятки подобных книг в «поточной» серии «жетонов» издательства Эйнауди.
Об отношении Павезе к неореализму, пожалуй, ясней всего свидетельствует его письмо к писательнице Марии Кристине Пинелли от 11 февраля 1947 года: «Сегодня все пишут стихи и мемуары, прозу и памфлеты, — анализируют и исповедываются... Одна из характеристик этих лет — появление прикладного искусства — все хотят показывать и свидетельствовать. Больше не встретишь красиво написанной страницы, в которой не сказано ровно ничего, сонета, услаждавшего слух, — всего того, чем отличалась имперская аркадия времен Муссолини».
Здесь поддержка того, что в неореализме было направлено против формалистического псевдоискусства фашистских времен, и вместе с тем отрицание литературы прикладной, то есть ограниченной, лишенной подлинной глубины.
О Павезе много писали — одна лишь уже неполная сегодня библиография критических работ, вышедших в Италии, насчитывает 428 названий, а ведь писали о нем не только в Италии, но и в других странах. Писали по-разному. Для одних Павезе «лидер неореализма», другие выступали с еще более необоснованными утверждениями о декадентских началах его творчества, ссылаясь главным образом, на «Дневники». Торопливая посмертная публикация этих записей нам представляется делом, лишенным элементарной этики и подчиненным, равно как и посмертные издания его «Рассказов», скорее коммерчески-рекламным целям, вопреки воле автора, не предназначавшего ни дневников, ни большинство рассказов для печати.
Ссылаются также на книгу Павезе «Диалоги с Леуко», которой сам он придавал немалое значение. В 27 эпизодах этой книги содержится попытка современного истолкования греческой мифологии. В этой книге мы видим прежде всего стремление художника осовременить древние мифы, вернуть на землю богов, противопоставить разум и свет познания «дьяволам подсознания», «вести непримиримую борьбу между подсознанием и стремлением к ясности», — словом, нечто совсем иное, чем современный декаданс с его «мифами» «примитива», «дикаря», «ребенка», полярно противопоставленными разуму, сознанию, зрелости, ощущению истории.
Уже упоминавшийся нами ученый Салинари пишет об этом весьма ясно: «Для Павезе зрелость, город, цивилизация не представляют собой негативное начало, не являются ограничением. Более того — он ценит их как элемент позитивного, элемент прогресса и блага». В той же статье, посвященной Павезе, Салинари критикует писателя за его отказ от глубокой разработки характеров, за чрезмерное увлечение символикой.
О своем понимании «мифа» Павезе точнее всего говорит в письме, адресованном писателю Сильвио Микели 24 февраля 1947 года:
«Познакомься с моей теорией мифа... Ты увидишь, что заряд электричества заключен именно в изображении колодца, дороги, героических, людей. Это и есть один из тех мифов, по поводу которых я «теоретизирую».
«Нужна не связь с народом, нужно быть народом. В нашем ремесле нельзя идти к чему-то, нужно быть чем-то», — писал он в «Диалогах с коммунистом», которые печатались газетой «Унита».
Вхождение в коммунистическую партию, вспоминает Давиде Лайоло, «было для него одним из самых важных жизненных решений, принятых сознательно и с полным чувством ответственности».
20 мая 1945 года он принес в газету «Унита» статью, названную им «Возврат к человеку».
Словами этой статьи, словами глубокой веры в человека и в нужность искусства, мы хотели бы закончить наш рассказ о Павезе.
«Эти годы тревог и крови научили нас тому, что тревога и кровь не есть конец всего. На грани ужаса мы увидели, как человек открылся человеку.
Мы верим в это глубоко, потому что никогда человек не был менее одинок, чем в эти времена страшного одиночества... Много барьеров, много нелепых перегородок было разрушено в эти дни. И нам, уже давно покорным неосознанной мольбе о присутствии человека, поразительно хорошо чувствовать себя обладателями такого богатства. Раскрылось все, что есть живого в человеке, и теперь он ждет, чтобы мы научились понимать и говорить.
Говорить. Слова— наше ремесло, мы признаем это без стыда, без иронии. Слова — хрупкая, живая и сложная штука, но они для человека, а не человек для них... Наша задача трудна, но не менее важна. Лишь в ней заключен смысл и надежда... Нас строго и доверчиво будут слушать люди, готовые воплотить наши слова в дела. Разочаровать их — значит предать их, значит предать и наше прошлое».
Л-ра: Современная литература за рубежом. – Москва, 1975. – С. 206-232.
Критика