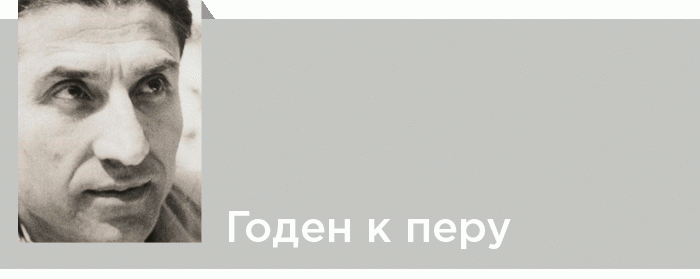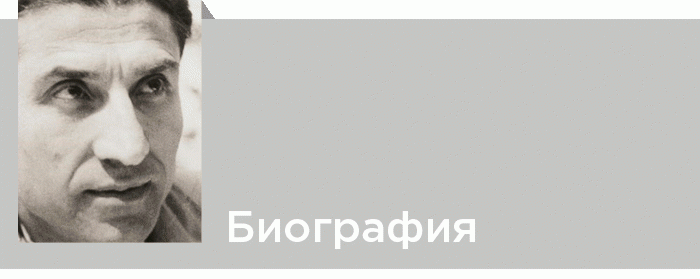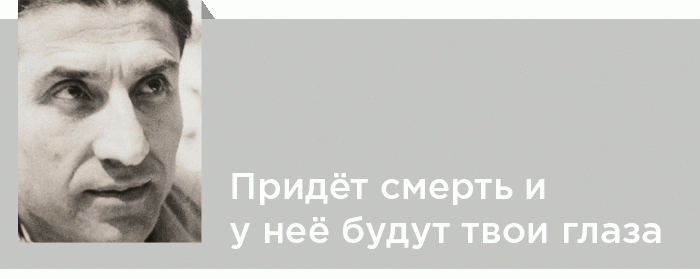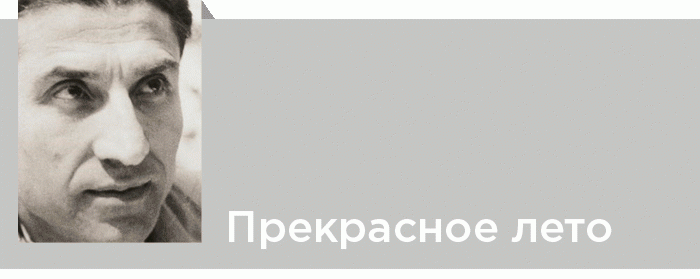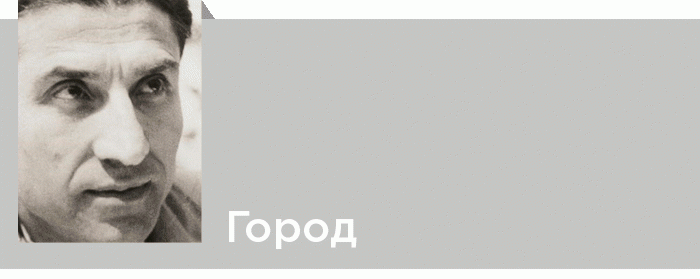Луна и костры
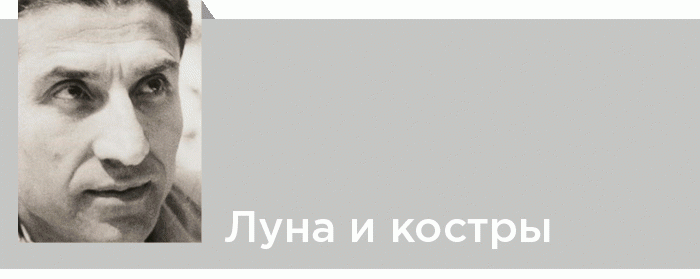
Виктор Шушаков
Нельзя «исключить из искусства любую трагическую тему», — утверждал Чезаре Павезе, итальянский писатель, жизнь которого кончилась трагически.
В своей последней повести «Луна и костры» Павезе писал, что у него есть одно-единственное желание: «еще раз увидеть мир глазами» ребенка. Но вместо этого он постоянно видел, что каждый новый день все дальше и дальше отдаляет от него то «счастливое время», и он бессилен вернуть его, и только подобно немым шагам судьбы звучит в его душе: «Расти — значит уходить, стареть, видеть, как люди умирают...»
«Стоит мне только призадуматься — и вот уж нет конца-краю воспоминаниям, череде несбывшихся желаний, ошибок прошлого»,— грустно и устало рассуждает один из героев повести «Луна и костры», герой, который еще молодым попадает на чужбину, где выбивается в люди и где постоянно ощущает внутреннюю пустоту и тоску... В иные мгновения желание увидеть свою землю овладевает им с такой раздирающей душу силой, что, казалось, он тут же лишится рассудка... «Только там, на Родине, жизнь твоя обретет смысл и память о тебе не исчезнет с приходом новой весны...» — твердит он себе и в конце концов через много лет возвращается на Родину, но... печально он бродит по своей земле, видя, что ничто не ждало его здесь и память о нем вымирала вместе с той ореховой рощей, где он когда-то мальчишкой играл и радовался солнцу, — от нее осталось всего два-три чахлых деревца, но и их должны вскоре вырубить... Вдруг он видит неподалеку от себя мальчишку в рваной рубашонке и штанишках с одной уцелевшей бретелькой, сидящего на поваленном колесе и поджавшего под себя как-то неестественно вывернутую ногу. «Калека!» — пронеслось в голове, и тут же всплыло перед ним его собственное детство и, помимо воли, сфокусировалось в образе этого искалеченного мальчика... «Что это... что это! Неужели зря прожита жизнь!» — восклицает герой Чезаре Павезе. А мальчик, опираясь руками на землю, с трудом поднимается, встал, спокойно взглянул в глаза незнакомца и, хромая, поплелся прочь от него, волоча за собой тонкую, вывернутую ногу. Герой бродит по своей земле, и она ему и близка и чужда. Он видит, как одни люди здесь звереют от нищеты, а другие, имея бешеные деньги, завертываются в толстое одеяло и простреливают себе голову; одни здесь вечные бродяги, другие же всю жизнь не разгибают спины, зарабатывая гроши. Он видит, как людей знатного рода настигает беспощадный удар судьбы, и вымирает весь род, а люди без рода и племени, подобные ему самому, где-то на чужбине выбиваются в люди... Он видит, как на этой земле каждый год жгут костры, жар которых пробуждает в ней соки жизни, а по их дыму люди судят о плодородии года. Но на одном из таких костров, как он случайно узнает, сожгли тело красавицы Сантины, которая с детства осталась в его воспоминании прелестным, беспечно хохочущим ребенком... И что-то темное и стихийное чудится ему, и, словно завороженный чем-то, глядит он на все это, как на таинственный, древний обряд, который теперь для простоты люди называют жизнью... Словно зашевелилась вечная тишина древности, и где-то в бездне уже замерцал темный смысл жертвоприношения. И на эту вечную мистерию с черного неба спокойно смотрит желтая луна, и холодно и жестоко мстит она тем, «кто отступает от священной смены времен года», тем, кто не зажигает костров, и не будит соки земли, и не чтит этой земли, в которой покоятся его предки...
Композиционный прием уже прослеживается в ранней повести Чезаре Павезе «Прекрасное лето», хотя в ней еще преобладает гибкое сюжетное повествование, которым автор довольно тонко, прозрачно и удивительно нежно описывает любовь непосредственной, во многом наивной девушки Джинии к молодому художнику Гвидо.
Но уже в следующей повести, «Дьявол на холмах», Павезе уходит от прежней легкости и начинает как бы умышленно перегружать текст описаниями и отступлениями. Сюжетное повествование начинает перемежаться короткими и порывистыми зарисовками, которые резко уводят читателя от общего течения в сторону или же настойчиво возвращают его назад, отчего утяжеленный сюжет начинает медленно кружиться, подобно воде в темном омуте, откуда она не может найти выход. (Наиболее явственно это видно в повести «Луна и костры».) Развитие действия порой останавливается совершенно; такая тенденция к «замиранию» образует довольно сложный бессюжетный фон повести. Понятно, что фабула как таковая интересует Павезе все меньше и меньше. Фабула сама начинает слабо мерцать в глубине едва движущейся бессюжетности и, постепенно, все более четко проявляясь, фиксируется в простых описаниях, скупых диалогах, редких размышлениях и, наконец, приобретает необходимую «серость», окрашивающую все те впечатления, переживания автора, какие вызывает в нем окружающая его безысходная и однообразная жизнь. Подобно неожиданно возникающей воронке, в безвыходное кружение замирающей бессюжетности врываются совершенно сторонние, совершенно, казалось бы, необъяснимые явления. В «Дьяволе на холмах» такой «воронкой» является внезапный дикий, звериный, «вначале походивший на рев быка, а заканчивающийся чем-то вроде пьяного хохота крик, который издает Орест, один из героев этой повести, заоравший, можно сказать, просто так: ему вдруг захотелось узнать, как подействует его дикий вопль на незнакомого молодого человека, спокойно развалившегося в шикарной машине. Двое других друзей Ореста, испытав в момент этого крика какое-то неизъяснимое переживание, тоже не выдерживают и начинают орать вместе с ним «протяжно, с повторами и завыванием». Уже потом Поли, как звали того молодого человека и который оказался знакомым Ореста (когда-то они вместе охотились и во время погони Орест и издавал такой крик), признался им, что дикий, безудержный вопль в темной ночи вызывал в нем странный восторг, и на мгновение он «почувствовал себя, словно бог...».
Но снова исчезает «воронка», и поверхность повествования вновь приобретает свою первоначальную, кружащуюся «серость» с равномерной загруженностью, и лишь редкие воспоминания о диком крике тревожат ее гладь, возвращая Поли и друзей Ореста к той ночи, вызывая при этом в них странное, смутное чувство...
Этим напоминанием Павезе добивается художественной обозримости повествования, отчего сам текст приобретает живой, прозрачный объем и внутреннюю динамичность.
Многое хотелось еще сказать о стиле Чезаре Павезе, но, вижу, есть вещи, ясно уловимые и одновременно почти непередаваемые, которые теряются или «выцветают» в пересказах и разборах, и это сразу же поймет читатель, прочитав хотя бы одну из повестей Чезаре Павезе, недаром изданных в серии «Мастера современной прозы».
Л-ра: Литературное обозрение. – 1975. – № 3. – С. 83-85.
Критика