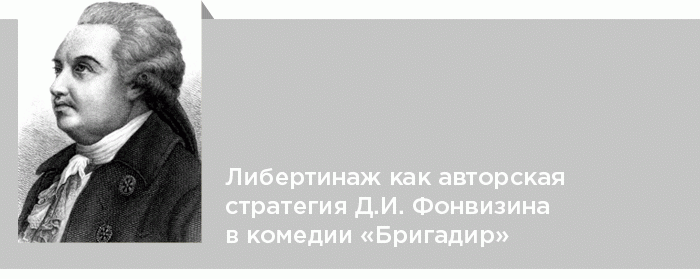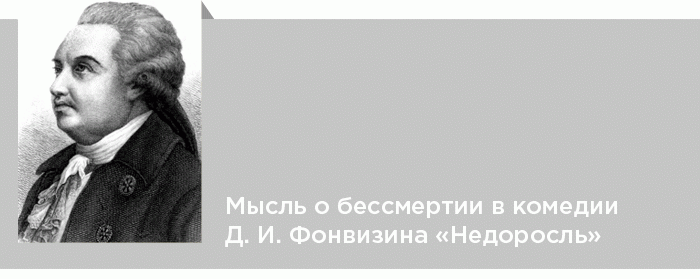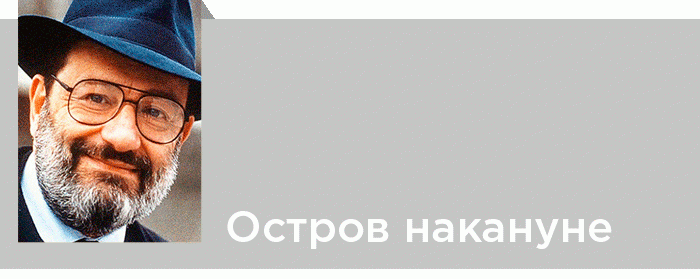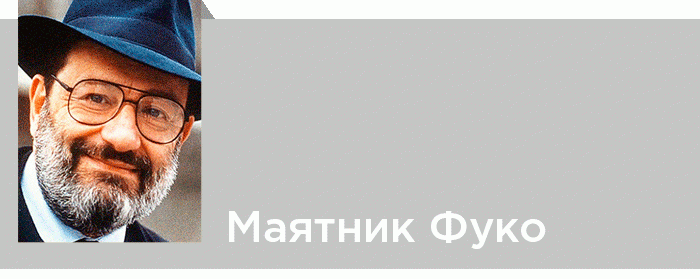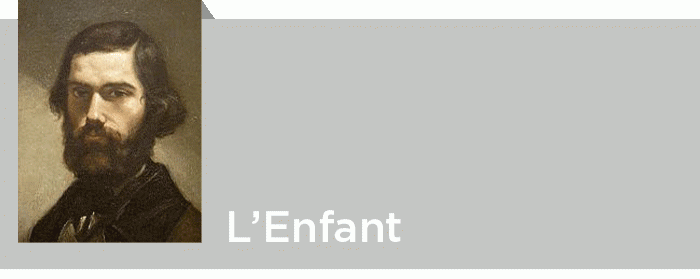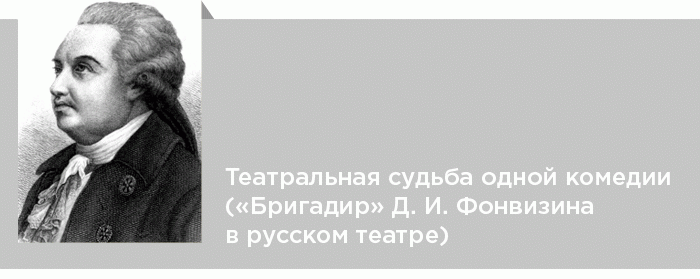Винченцо Черами. Маленький человек
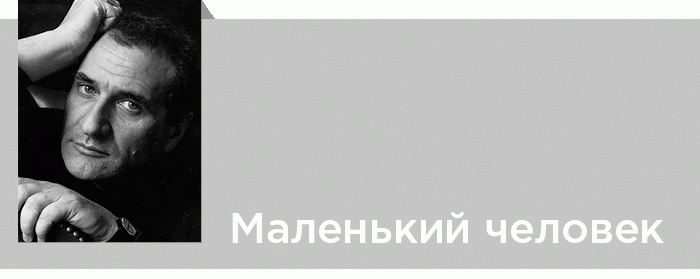
- Неужели ты ответил на все вопросы? — прервал Джованни рассказ сына.
Марио с гордостью кивнул.
- Даже не верится! — восхитился Джованни и дернул удочку, проверить, не клюнула ли рыба, — Вот бы тебе ту сумму, из условий задачи... Ты бы ее за год утроил!
Марио, растянувшись на траве, смотрел в голубое небо, и оно напоминало ему обложку школьной тетради.
- Цифры — одно, а деньги совсем другое, папа!
- Подумать только, мой сын — бухгалтер! Бухгалтер Вивальди. Разрешите представить вам моего сына. Бухгалтер Вивальди. Синьор Спациани, заведующий пенсионным отделом... Очень приятно! — Джованни разыграл сценку так непринужденно и правдопободно, что сам рассмеялся.
- Ты пробьешься, как бог свят... Начнешь с того, к чему я пришел за тридцать лет службы... А тебе только двадцать. Парень ты хоть куда, думай только о себе, о своем будущем, и пусть другие удавятся от зависти. — С этими словами Джованни стиснул руками удилище, словно схватил кого-то за глотку.
- С завтрашнего дня все будет по-другому. С первой же моей получки купим новый телевизор, сменим тебе машину... Твой «фиат» уже никуда не годится. — Это прозвучало несколько хвастливо, но так Марио выражал свою признательность отцу.
- Думай о себе, только о себе, — поучал отец с высоты своей житейской мудрости. — В нашей жизни зевать нельзя, не то получишь удар в спину. Иди без колебаний вперед по намеченному пути и не оглядывайся. Нам с матерью и так хорошо, мы своего добились: наш единственный сын стал бухгалтером. Чего же нам еще? Мы — старики, нам лишь бы умереть спокойно, с чистой совестью...
Марио сел, взглянул на отца, пытаясь сохранить твердость, как настоящий мужчина, но расчувствовался, едва сдержал слезы.
Отец посмотрел на сына, улыбнулся и похлопал его по плечу.
Рыба наконец клюнула. Красный пробковый поплавок вдруг нырнул в стоячую воду пруда. Отец и сын засуетились, вскочили на ноги.
- Есть! — сдерживая волнение, прошептал Джованни, чтобы не вспугнуть рыбу.
Марио сильно сжал руки, так, что хрустнули суставы, и нервно затоптался на месте.
Показался карликовый сом, величиной с ладонь, скользкий, тупорылый, зубастая пасть разинута. Рыба оторвалась от поверхности воды и словно взлетела в небо... Мгновение — и она глухо шлепнулась на мокрую траву. Две пары ловких рук цепко схватили ее и отбросили подальше от воды. Джованни поймал ошалевшего сома и крепко держал его.
- Камень! — крикнул он сыну,— Давай камень!
Марио поднял камень и протянул отцу. Тот положил трепыхавшуюся рыбу на прибрежную гальку и принялся лупить ее по голове. Камень потемнел от крови, но сом оказался на редкость живучим. Когда Джованни совсем уж не ожидал, тот опять забил хвостом... Пришлось еще как следует поработать острым краем камня.
Наконец сом затих.
- Готов? — спросил Марио.
- Да, — откликнулся отец.
Крючок застрял у сома в брюхе — и ни с места. Джованни тянул его, тянул, но все без толку.
- Сразу видно, сноровки у тебя маловато, — заметил Марио с улыбкой. Кожа над верней губой у него потемнела и от этого казалась покрытой легким пушком.
- Ничего, научусь, — заверил почтенный родитель и с силой дернул за леску. Крючок выскочил и вместе с ним спутанные сомовьи внутренности. — Ну вот, теперь он у нас без потрохов, сейчас голову оттяпаем, и останется только зажарить, — заключил Джованни, строго нахмурившись.
«Фиат-850» остановился перед деревянным бараком, неподалеку от пруда. Кругом до самого горизонта — серый, бескровный сельский пейзаж, сумрачное небо. Отец и сын привыкли проводить воскресенье в городе и здесь, на природе, смутно ощущали растерянность — ничто не ассоциировалось у них с выходным днем, хотя они отлично знали: сегодня воскресенье.
- Не похоже на воскресенье, — сказал Марио отцу.
- Да уж, — подтвердил тот, — пи на воскресенье, ни на будни.
- Хорошо здесь, правда?!
- Восхищаться природой предоставь мне, старику!
Отец и сын не чувствовали красоты природы; и здесь, в этой непривычной обстановке, все казалось им странным, от всего ожидали они подвоха, им хотелось как-то приспособиться к окружающему, загладить несуществующую вину; их смущало это бескрайнее небо, дуновение свежего ветра, блаженный аромат земли — весь этот беспредельный покой и умиротворенность.
Они остановили машину за бараком и, прихватив рыбу, пошли к дому. Джованни вытащил из кармана увесистую связку ключей, после нескольких попыток ему удалось открыть дверь.
Они распахнули ставни, и зеленоватый чахлый свет проник в большую комнату, заваленную поломанной мебелью, автомобильными покрышками и прочим барахлом.
Джованни сразу же отправился в импровизированный туалет — шкаф без задней стенки, завешенный грязным одеялом.
Марио растянулся па ржавой раскладушке, покрытой влажным, с пятнами плесени матрасом, посмотрел на сома, которого отец положил на стул, потом перевел взгляд на стенные часы: они шли безупречно.
Джованни застегнул брюки, подошел к часам, снял их с гвоздя, открыл и, вынув из кармана две маленькие батарейки, заменил старые.
- Когда ты выходишь на пенсию? — поинтересовался Марио.
- Совсем скоро... Дело уже у меня на столе. Все документы подобраны и приготовлены в лучшем виде.
- А когда тебе выплатят выходное пособие?
- Точно еще не знаю... Сейчас поднялась такая шумиха... Если пройдет новый закон до моего выхода на пенсию, мне кое-что прибавят...
- Будешь перестраивать барак?
- Да. Надеюсь, домишко получится что надо... Небольшой, но чистый и уютный, даже комфортабельный...
- Думаешь, мама согласится здесь жить?
- Я ее за шиворот сюда притащу! Как бог свят!
- Если хочешь, папа, бери мои деньги. На что мне зарплата? Жениться я еще молод...
- Нет уж, дом я буду строить па свои. Я всю жизнь для этого работал как вол. Словно об заклад побился — и выиграю, вот увидишь! А потом я же тебе сказал — думай о себе! Распоряжайся деньгами с умом, пусти их в оборот. Не мне тебя учить... Положи в банк, купи надежные акции, боны казначейства, квартиру в Риме... Вот во что надо вкладывать. Когда есть крыша над головой, никакая инфляция не страшна...
Они долго еще говорили о деньгах, о доме, о том, что семья требует жертв. Потом разломали на дрова ящик от старого комода, развели огонь и зажарили сома.
Джованни часок вздремнул, а Марио погулял вокруг барака.
Всякий раз, как «фиат» подбрасывало на ухабах проселочной дороги, Джованни и Марио Вивальди пугались; наконец они выехали на широкое асфальтированное шоссе.
Если не будет заторов, то в начале восьмого они успеют посмотреть дома, по телевизору, футбольный матч.
До римских ворот они доехали без задержек, за рядами деревьев сначала просматривались лишь редкие крестьянские домишки, сараи, а потом стали все чаще мелькать многоэтажные дома.
Они остановились на красный свет; за перекрестком начинался Рим, с этого момента машина осторожно, но упорно продвигалась уже по городским улицам.
Теперь они узнавали воскресенье, все его приметы: опущенные, сдобренные смазкой жалюзи магазинов, зияющие двери парадных, похожие на раскрытые рты, вереницы автомобилей вдоль тротуаров, словно большие окаменевшие собаки, пустые трамваи, напоминающие потревоженных ленивых гусениц, и здания, разросшиеся по всему городу, как щетина на бритой после тифа голове.
Включили телевизор. Матч только-только начался. Из динамика раздался вопль восьмидесяти тысяч болельщиков — сетка за спиной вратаря натянулась, приняла на себя удар и погасила скорость мяча.
Видеозапись повторила забитый по всем правилам футбольного искусства гол.
В комнату вошла синьора Амалия Вивальди; на лице ее застыло привычное пасмурное выражение, она бросила на стул газету «Кронака вера» и принялась глотать из бутылки теплую воду.
- Когда соблаговолишь вызвать мастера — починить холодильник? Только и знаешь, что сидишь у телевизора и брюхо чешешь, — проворчала синьора Амалия и едва не захлебнулась.
- Завтра, — отозвался муж, не глядя на нее. — Сделай мне бутерброд, а то я голоден как волк.
- И мне тоже, — попросил Марио.
- Сейчас будем ужинать, — сказала синьора и скрылась в кухне.
В первый рабочий день недели будильник на тумбочке Джованни затарахтел в четверть седьмого.
- Знаешь, что мне приснилось? — пробормотал Джованни, не открывая глаз. Жены рядом не оказалось, она готовила кофе.
Джованни появился в дверях крошечной кухни, подошел к жене и потянул ее руку к своим заношенным пижамным штанам.
- Чувствуешь? — прошептал он горделиво. — Есть еще порох в пороховнице!
- Сходи в уборную! — процедила скептически настроенная синьора Амалия.
Пока она лениво мыла под краном руки, Джованни пересказал ей свой сон; разумеется, главную роль в нем играл Марио.
Джованни приснилось, что они с сыном у моря, где-то между Кастельфузано и Остией, и что там идет война. Они оборачиваются: на плите походной кухни булькает подливка. Появляется полковник и говорит Марио: «Ты офицер, не к лицу тебе заниматься кухней, это дело твоего отца, а ты иди сражайся!» Джованни, исполненный гордости, помешивает деревянной ложкой соус в кастрюле, чтобы не подгорел, а издали доносятся ликующие крики: «Мы победили, победили!»
- Так тебе удастся пристроить его в министерстве? — настороженно спросила синьора Амалия.
- Как бог свят! Я тридцать лет харкал кровью в этом заведении, ко мне обязаны прислушаться...
- Но ему предстоит конкурс! — недоверчиво заметила синьора.
- Гарантирую тебе, что он выдержит. Сегодня я поговорю с доктором Спациани... Мы же с ним на «ты»!
«Свежо предание!» — подумала синьора Амалия, наливая дымящийся кофе в расписную японскую чашечку.
«Фиат-850» стоял двумя колесами на тротуаре возле универсального магазина «УПИМ».
В половине девятого Джованни полагалось быть на службе. Министерство находится недалеко от вокзала Термини, и Джованни от своей улицы Тусколана доезжал до собора Сан-Джованни; поворот на площадь Виктора Эммануила, потом вдоль вокзала от пригородных до междугородных касс, площадь Эзедра и, наконец, министерство.
Это утро для Джованни было особенным. Обычно стоило ему сесть в машину, и он всю дорогу, до самых дверей министерства, проклинал уличное движение, пешеходов, яростно сигналил, поносил всякого, кто шел на обгон; доставалось от него и муниципалитету, и дорожному ведомству, и правительству — словом, всей Италии.
Но сегодня он ехал молча, вел себя дисциплинированно: не сигналил, не кричал и строго соблюдал правила уличного движения.
Другие водители осыпали его бранью, выкрикивали с искаженными по-обезьяньи лицами оскорбительные эпитеты, весь ограниченный, но емкий запас слов, к которому прибегают в половине девятого утра. Джованни ничего не замечал, он молча, с отсутствующим видом сидел в своей железной коробке и ни на что не реагировал.
Мимо него проносились с бешеной скоростью десятки малолитражек; их водители, юнцы с физиономиями преступников, не колеблясь, въезжали на тротуар, на трамвайные рельсы и беспрестанно сигналили, словно везли пострадавших в больницу «Сан-Джованни».
В голове у Джованни все смешалось: он думал о сыне, о своих ночных сновидениях и, как ни странно, припоминал собственную юность. Впрочем, что в этом странного... Но прежде ему не случалось размышлять о столь далеком прошлом; сейчас, в деталях обдумывая будущее Марио, он невольно сравнивал сына с собой, из чего проистекали неожиданные повороты мысли, порой лишенные логики.
Джованни перебрался в город очень давно, задолго до войны. Он без гроша в кармане уехал из родного селения и завербовался в королевскую армию. Исколесил всю Италию, воевал, потом демобилизовался и поступил в министерство служащим категории «С».
Теперь он — отец двадцатилетнего сына, бухгалтера Вивальди, родившегося в городе. Уезжая из селения, Джованни, тогда еще совсем юнец, не вполне ясно представлял себе, чего ждет от жизни, шел навстречу риску, но юношеский оптимизм скрашивал тоску по оставленной земле, по отчему дому. И все-таки на душе у него постоянно щемило.
Совсем другое дело — Марио. Он родился в городе, никакая ностальгия его мучить не может, все у него под боком: и дом, и семья, и министерство, и работа...
Внезапно Джованни преисполнился гордости, хотя и не понял как следует, что было тому причиной. Может быть, он увидел и свою заслугу в том, что сын получил такие привилегии, да не только сын, а все его поколение. Пожалуй, в этом дело — время работало на них.
Джованни, полуголодный крестьянин из Абруцци, стал чиновником министерства. И сейчас, как никогда, он понял, что постарел, но прожил жизнь не зря.
Вероятно, поэтому он и не поносил сегодня ни уличное движение, ни муниципалитет, ни Республику. Это был один из тех моментов, когда человек, такой, как Джованни, осознает собственную значимость в государственном масштабе.
Подъехав к министерству, Джованни принялся искать место для стоянки; каждое утро на это уходило по крайней мере полчаса.
Он колесил вокруг здания, проехал тысячу раз мимо карабинеров у входа и, наконец, после яростной стычки с коллегой; втиснул машину в узкое свободное пространство.
Он с трудом вылез из «фиата» через правую дверцу, запер ее на ключ, взглянул на противоположную сторону улицы и обмер: часы над ювелирным магазином показывали полдевятого. Джованни вполголоса выругался и опрометью бросился к министерству.
У входа карабинеры преградили ему путь и укоризненно покачали головами. Тогда Джованни неторопливо подошел к группе припоздавших чиновников: они стояли в стороне, желтые от злости, дай им волю, подпалили бы город.
Вышел вахтер с листом бумаги и ручкой и провел их в служебное помещение при вестибюле. Он сразу же начал опрос, кто из какого отдела, затем стал обзванивать соответствующих начальников, после чего по очереди отпустил провинившихся.
Позвонил он и Спациани, но ему ответили, что тот еще не пришел. Тогда он великодушно выпустил Джованни, не занося его в черный список.
Опоздавшие сгрудились в огромном, размером почти с комнату, лифте. Лифт был без дверей, двигался не останавливаясь, к счастью достаточно медленно, чтобы можно было войти и выйти на ходу. На пятом этаже Джованни вышел и оказался в длинном коридоре, освещенном кое-где тусклыми лампочками без плафонов.
Там было безлюдно — весь персонал толпился перед дверью комнатушки вахтера, тот кротко выносил это столпотворение и кипятил кофе в своем закутке, служившем гостеприимным приютом для множества тараканьих семейств. Вахтера на этаже прозвали Тоти в честь Энрико Тоти, поскольку он, как все вахтеры, был калекой — ходил на деревянном протезе.
Джованни быстренько пристроился к группе. Никто не спешил, напротив, все располагались поудобнее, отлично зная, что ни один начальник не претендует, чтобы его подчиненные начинали работать раньше десяти. И хотя завотделами составляли особую касту, они тоже толпились здесь среди прочих служащих и вели себя более чем непринужденно.
Темы, которые коллеги обсуждали в предвкушении кофе, были хорошо известны Джованни, они не менялись на протяжении тридцати лет: спорт, политика, судебная хроника.
Последняя была особенно по сердцу коллегам из министерства. Невероятные события случались изо дня в день все тридцать лет. Ежедневно предметом оживленных бесед становились кровопролития, трагические вендетты, рухнувшие плотины, террористические акты, роковые самоубийства. Происходили темпераментные споры:
- Да ведь ясно, что убил он!
- Нет, не он!
- По-моему, убийца — брат!
- Да ничего подобного, не брат, а любовник! — И так далее.
Прежде чем разойтись по рабочим местам, все единодушно приходили к заключению, что стоит внести оздоровительный закон о смертной казни, и весь преступный мир угомонится.
Таково было министерство — и Джованни отлично знал его, знал все коридоры и помещения этого огромного здания. Здесь, внутри, все выглядело иначе, чем могло показаться снаружи. Например, во внешнем мире завотделом котировался гораздо выше любого рядового служащего. Но немногие знали, что «внутри», независимо от должности, ценились в основном две категории: «интеллектуалы» и «люди со связями» — будь то завотделом, швейцар или рядовой чиновник. Во всяком случае, тот, кто «умел говорить», был уважаемым человеком, даже если с трудом дотягивал до получки и брал взаймы у сослуживца ниже рангом, но более бережливого. Уважение, которое внушали наиболее циничные «люди со связями», было особого рода — оно граничило со страхом. О таких, естественно, судачили больше, у них было много покровителей «наверху» и недругов «внизу», их могли предать в любую минуту. Кто умел хорошо говорить, как правило, умел и складно писать, он становился правой рукой начальника; тот использовал его, когда нужно было, например, сочинить отчет на высшем уровне или послать неординарное письмо. «Отвык я от этой писанины»,— мимоходом оправдывался начальник перед подчиненным-«интеллектуалом».
Интеллектуалов легко было опознать: они расхаживали по учреждению с газетой «Темпо» или «Мессаджеро» под мышкой или в кармане пиджака. Они читали, когда пили кофе, прогуливались по коридору и даже в туалете не расставались с газетой; только прочтя всю ее вдоль и поперек, они записывали на нолях шариковой ручкой расходы, прикидывали семейный бюджет и делали другие пометки.
Джованни думал о сыне и собирался многому его научить — скажем, читать газеты, говорить, как дикторы телевидения, на литературном итальянском языке, без местного акцента, всегда носить галстук, выражать свое мнение скромно, не навязывать его, уметь снискать расположение вышестоящих не заискиванием, а серьезностью своих мыслей, воспитанием и особенно профессиональной компетентностью.
Критика