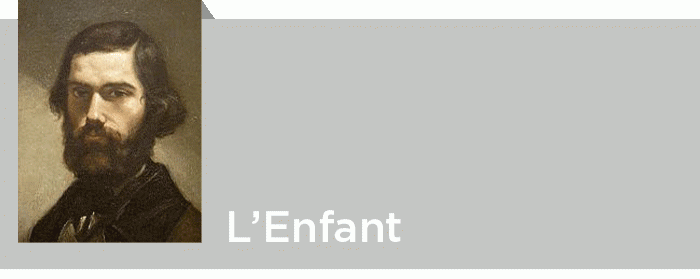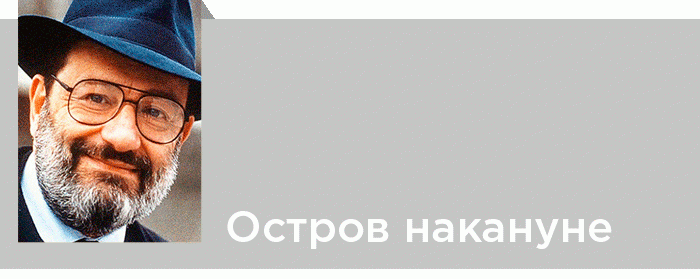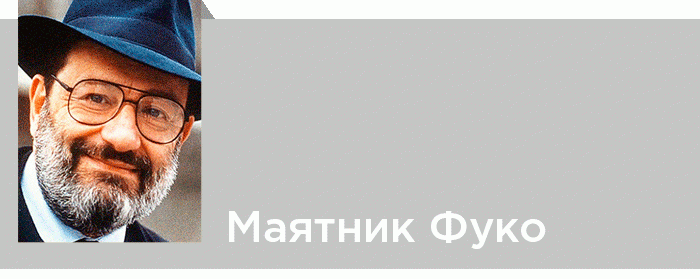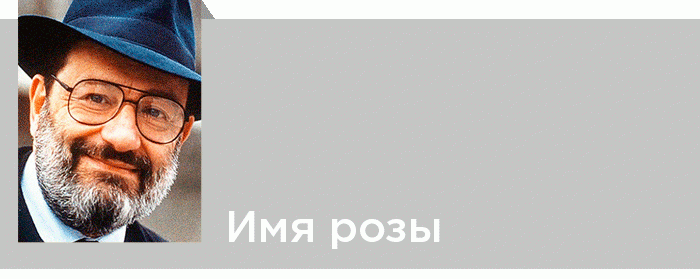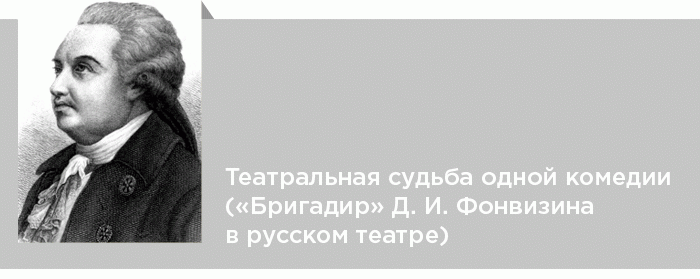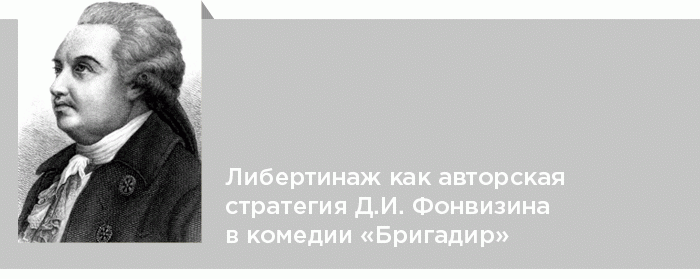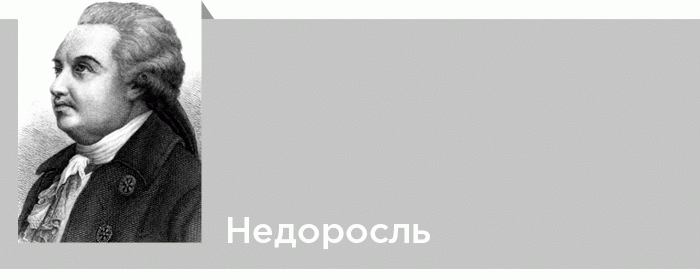Мысль о бессмертии в комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль»
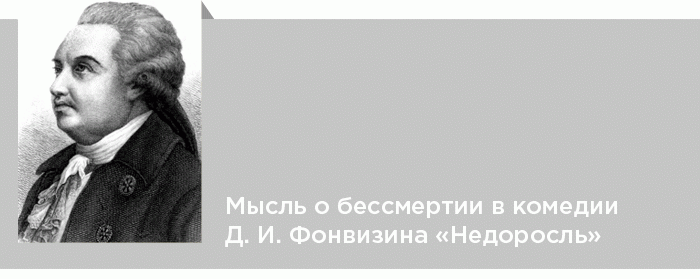
Т.В.Зверева
В «Опыте исторического объяснения» «Недоросля» Д.И. Фонвизина В.О. Ключевский констатировал, что выход второй редакции текста совпал с существенными изменениями, происходящими в русском обществе в последние годы XVIII столетия: «Случилось так, что в ту же осень, когда впервые был сыгран Недоросль, в Петербурге свершились два важных события: составлена комиссия об учреждении народных школ в России и открыт памятник Петру Великому. Знаменательное совпадение»1. Бессмертное творение Д.И. Фонвизина, во многом опередившее свое время и предвосхитившее появление «Горя от ума» А.С. Грибоедова, безусловно, связано с общественно-политической ситуацией России 1780-х гг. «Идеологический» сюжет пьесы неоднократно становился как предметом скрупулезных научных изысканий (В.О. Ключевский, П.Н. Берков2, Л.В. Пумпянский3 и др.), так и откровенных политических спекуляций. Пожалуй, самое глубокое в данном аспекте прочтение фонвизинской пьесы дано Л.В. Пумпянским: «…есть в «Недоросле» два мира, отличающихся тем, что они не в одинаковой степени принадлежат корпусу комедии»4. С точки зрения ученого, миру комедии сопричастны только низкие персонажи, в то время как высокие герои вытеснены за его пределы, являясь выражением чуждого ему трагического пафоса. Именно это обстоятельство и разрушает единство художественного замысла. Пумпянский возводит обозначенную ситуацию к общественнополитической ситуации России, также характеризующейся распадом социума на два мира. Истоки «русской трагедии» связаны с отсутствием так называемого «третьего сословия», являющегося необходимым связующим звеном любой общественной структуры: «Комическая порядочность, честность <…> – исторически связаны с третьим сословием; его отсутствие ведет к отсутствию социального центра добродетели в комедии…»5.
Сам жанр просветительской комедии, нацеленной, прежде всего, на исправление нравов, способствовал тому, чтобы быть рассмотренным в идеологическом ключе. Однако порождающий то или иное явление историко-культурный контекст всякий раз оказывается шире идеологии в узком значении этого слова, он ни в коем случае не может быть ограничен теми или иными политическими направлениями мысли. Как нам кажется, необходимо вывести фонвизинскую пьесу за пределы идеологического прочтения и обратиться к сфере универсальных смыслов.
На первый взгляд, построение пьесы всецело подчинено законам эстетики классицизма. В соответствии с принципами классицистской комедии система персонажей упорядочена, характер каждого из героев ограничен семантическими пределами имени и исключает возможность какой бы то ни было трансформации. Как и полагается, зло терпит поражение, и этот непреложный закон просветительской эпохи еще раз напоминает читателю о том, что «просвещенный мир» близок к своему «освященному состоянию». Однако авторский взгляд на мир не ограничивался узкими рамками классицистской эстетики. Творческий расцвет Фонвизина совпадает с 1770-1780 гг., временем, усомнившимся в возможностях человеческого разума. С одной стороны, эпоха пыталась удержать те представления о нетленности и вечности человеческих деяний, которые были характерны для предшествующего периода. С другой стороны, мир обнаруживал свою деструктивную природу.
Творчество Д.И.Фонвизина запечатлело характерный для человека просветительской эпохи «страх перед бытием». В основе всякого «исправления нравов», искоренения тех или иных устоявшихся форм жизни неизбежно лежит чувство недоверия к миру, боязнь законов, определенных Творцом. Одним из непреложных законов существования является закон энтропии. В одной из поздних по времени написания заметок («Политическое рассуждение о числе жителей у некоторых древних народов») Фонвизин с горечью отмечает: «Ни разум, ни искусство не подают нимало основания, откуда можно было заключить, что свет есть вечен и неразрушим»[6] 616]. Идея «неразрушимости света», верой в которую пыталась жить просветительская эпоха, поставлена здесь под сомнение. «Ни разум», «ни искусство» не в состоянии дать ответ на вопрос о конечной цели Творения. Процитированное выше «Рассуждение» Фонвизин закончит парадоксальным образом, вообще отказавшись от продолжения бесплодных и бессмысленных споров: «Сии общие физические причины должны выключены быть от сего спора» [2, 617]. Таким образом, Фонвизиным прямо обозначена некая сфера, которая не может быть предметом человеческой мысли. В данном случае для нас является очень важным авторский отказ от «помышления» или словесного оформления темы.
Задача настоящего прочтения – уйти от прямого авторского высказывания, в условиях классицизма всегда опосредованного формами предшествующей культуры, для того чтобы обозначить тот «порог молчания», за которым располагаются те смыслы, которые не могли быть выстроены автором по законам унаследованной риторики.
Исходный для человеческой культуры «страх перед бытием» чаще всего проявляет себя в «страхе перед Телом», поскольку именно Тело подвержено воздействию времени. Поэтому речь пойдет о противопоставлении «телесного» и «бестелесного» в системе художественного мира комедии.
Тема телесности – одна из определяющих для фонвизинского текста. Пожалуй, впервые в истории русской литературы автор исходит из принципиальной видимости Тела. (В классицистской драме Тело находилось за пределами чувственного восприятия, соприкасаясь с областью незримого или невыразимого. Классицизм демонстрировал уход от человека-тела к человеку-языку. Соответственно, предметом изображения в дофонвизинской драме был сам акт говорения, который и обеспечивал положение героя на сцене.) Фонвизин предлагает совершенно иную «телесную стратегию». Уже в начале комедии Тело властно заявляет о себе, сосредотачивая внимание читателя/зрителя и становясь едва ли не ее единственным подлинным героем. Знаменитый «Тришкин кафтан» «жмет до смерти», раз-облачает плоть, делает ее предельно зримой. Митрофанушкин живот не вмещает в себя съеденного, также становясь в буквальном смысле «тесным» и «узким». В первой редакции пьесы физиология обнажена еще более откровенно: «Иванушка. Ж, з, и, i, к. (Сжав брюхо.) Пусти, я ка…. Улита зажимает рот» [2, 584]). Плоть здесь «выворачивает» себя, предельно обнажая «изнанку» бытия. Само название комедии содержит в себе некоторый оттенок «физиологичности», точнее, указание на ее ущербность («недоросль» – не-доросшее тело).
Все первые сцены «Недоросля» – своеобразная манифестация телесности, комический калейдоскоп положений Тела в пространстве. (Не случайно многие исследователи отмечали, что «Недоросль» – это комедия положений, а не лиц). В то время как положительные персонажи упражняются в красноречии, низкие герои комедии продолжают демонстрировать нелепость «телесно-животного» бытия. Это беспримерное для русской культуры вы-ворачивание Тела с наивысшей силой запечатлено в первой редакции пьесы.
Впервые на данную особенность фонвизинского текста обратил внимание П.Н.Берков[7]. Действительно, первая редакция «Недоросля» изобилует грубыми и непристойными шутками. Тема телесного низа настолько превалирует в данной редакции текста, что начинает граничить с откровенной пошлостью народной площадной культуры. Многое в первом варианте «Недоросля» выходит за пределы той эстетической нормы, которой регулировались низкие жанры. Перед нами чистая раблезианская игра с материей, которая могла бы послужить классической иллюстрацией бахтинским размышлениям[8]. Ряд первых сцен «Недоросля» – это изображение:
- обильной непомерной еды: «Аз, а, а, б, в, г, д, е. Очень я есть хочу. Мама, давай же мне поесть-та» [2, 583]; «Я не хочу больше читать. Я есть хочу. Да и тут написано что? Есть» [2, 584] и т.д.;
- «телесного низа»: «Ж, з, и, i, к (Сжав брюхо.) Пусти, я ка…» [2, 584], «Смотри – его снова рвать станет» [2, 587], «Иванушка, набив рот блинами, поперкнув в самые глаза отцу и матери, кои, закрыв лицо руками, закричали: «Охти меня, ослепил!» Иванушка, захохотав, ушел. Оставшие утирают глаза» [2, 587-588] и т.д.;
- непристойных слов: «Да не дура ль ты…» [2, 586], «Ата, какая дура проклятая, согрешил грешный!» [2, 589], «…недолго буду сносить – тотчас перестанешь огрызаться, как собака» [2, 589], «Ба! Ты уже, дурачина, против меня идешь» [2, 590], «Бранит, старый черт; лишь тронь – то чертом перековеркаю» [2, 590], «Совершенная ты дура» [2, 590], «Дай ему, сударь, знать, что и ты такой же господин, что и старый-то хрен» [2, 592] и т.д.;
- недостойных жестов: «показывает шиш и уходит» [2, 594];
- всяческих драк и телесных оскорблений: «Помазал бы дубиной по спине» [2, 587], «Подымает трость на Иванушку, который, охватя рукою, так сильно дернул, что отец упал, а Ваня, бросив трость в ноги матери, ее ушиб» [2, 590], «Берет за ворот Митьку и повертывает» [2, 591], «Берут палку и тянутся» [2, 591], «Подымает трость на Иванушку, который, охватя рукою, так сильно дернул, что отец упал, а Ваня, бросив трость в ноги матери, ее ушиб» [2, 590].
Несмотря на то, что во второй редакции пьесы Фонвизин избавляется от ряда «непристойностей», мотив животного существования остается одним из ведущих мотивов. Думается, что любой читатель без труда найдет их в составе «Недоросля». Еще В.О.Ключевский метко заметил, что любовь матери к Митрофанушке носит в пьесе исключительно «зоологический характер». На телесный симбиоз матери и сына указывает и семантика имени главного героя комедии (‘Митрофан’ – ‘материю явленный’). Упоминание живота Митрофанушки в самом начале пьесы, конечно же, не случайно. Очевидно, что Фонвизин обыгрывает здесь слова «живот» и «жизнь», отождествляя их значения. Обжорство Митрофанушки, несомненно, восходит к «карнавальной традиции», однако просветительская пьеса по своему внутреннему пафосу всегда слишком серьезна, чтобы быть чистым выражением «раблезианской игры с материей». Кроме того, в комедии Фонвизина совершенно отсутствует подспудный для подобного рода текстов мотив «осмеянной смерти». Напротив, тема распадающегося тленного мира занимает здесь ведущее место.
Острый запах животного мира буквально сопровождает действие, воссоздавая удушливую атмосферу. «Свиной» запах является продолжением материи, ее знаком, это символ распадающейся материи, напоминающий в конечном счете о «смердящем теле».
Скотинин, с его безотчетной любовью к свиньям, не просто смешон, но и отвратителен («как пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться на грязи» [II Петр. II, 22]). При этом важно, что чувство отвращения связано не только с отсутствием нравственных устоев у данного персонажа. Конечно, этическая сторона вопроса очень важна для автора просветительской комедии, и большая ее часть как раз посвящена разговору о нравственности. Однако Скотинин оказывается еще и знаком мира, обреченного на небытие.
Фонвизинская комедия запечатлела ужас становящейся культуры перед стихией материального бытия. Речь, конечно же, идет скорее об инстинктивном отталкивании, нежели о сознательной установке автора. За внешним отрицанием идеологии опустившихся дворян скрывается отрицание тварного мира, неизбежно связанного с распадом и смертью. Не случайно слово «смерть» формирует особое семантическое поле в пьесе. На эту закономерность фонвизинского текста, правда, в другой связи, указала О.Б. Лебедева: «слово смерть и синонимические ему слова погиб, пропал, умер, покойник буквально не сходят с уст бытовых персонажей, которые обладают эксклюзивным правом на это трагедийное понятие и широко им пользуются»[9]. Смерть таится и ждет своего часа в тварном мире Скотинина и Простаковой. Текст призван обнажить прямую связь между сферой смерти и сферой материального бытия. «Крепколобость» скотининского рода обеспечивает ему определенную живучесть, но не избавляет от тленности. Даже Вавил Фалелеич, о крепкой «головушке» которого с гордостью рассказывает Тарас Скотинин, уже почил вечным сном.
Единственное спасение из мира, обреченно ждущего своей гибели, – уход в мир вечных бесплотных идей. Этим и обусловлена феноменологическая легкость положительных персонажей «Недоросля», их принципиальная бесплотность. (В дальнейшем эти качества сформируют тип бес-почвенного героя.) Неукорененность героев в бытии делает их совершенно нечувствительными для законов физического мира, в том числе и для всеобщего закона времени. Не обладая необходимой для жизни «тяжестью», персонажи высокого мира несут на себе отблеск бессмертия. Стародум возвращается из мира мертвых, репрезентируя идею бессмертия:
«Г-жа Простакова (испугавшись, с злобою). Как! Стародум, твой дядюшка, жив! И ты изволишь затевать, что он воскрес! Вот изрядный вымысел!
Софья. Да он никогда не умирал.
Г-жа Простакова. Не умирал! А разве ему и умереть нельзя?...
Г-жа Простакова. Как не умирал! Что ты бабушку пугаешь? Разве ты не знаешь, что уж несколько лет от меня его и в памятцах за упокой поминали?» [1, 138].
И Стародум, и Правдин, и Милон – героиидеи, «бессмертие» которых обеспечено их изначальной непринадлежностью жизни, своего рода ино-бытийностью. Сферой их истинного существования является не земной мир, а мир вечных идей – София. Эта «бесплотность» и «бескровность» идеальных героев чрезвычайно привлекательна для автора, поддавшегося иллюзии «жизни вечной». С точки зрения Фонвизина, Софьи (= Софии) достойны лишь те персонажи пьесы, духовное начало которых полностью вытеснило начало телесное. При этом триада «дух-душа-тело», характерная для предшествующего (средневекового) этапа культуры, «сворачивается» в классицизме в диаду «дух-тело». В результате подобной редукции из художественной реальности текста исчезает необходимое промежуточное звено – «душа», связующая «дольний» и «горний» миры. Оппозиция «дух-тело» обретает в русском классицизме абсолютный характер: без-духовность отрицательных персонажей в системе фонвизинского текста уравновешена бес-плотностью положительных героев. Интересно при этом отметить, что телесная «тяжесть» Простаковой и Скотинина обеспечена удивительной «легкостью» и «прозрачностью» их языка, напротив персонажи софийного мира (Милон, Правдин, Стародум) «утяжеляются» речью. Не случайно последним героям принадлежат развернутые высказывания, которые в будущем развернутся в блестящие, но бесконечные монологи Чацкого. Здесь происходит зарождение героев, чья субъектность будет обеспечена исключительно речевым планом…
Добавим, что устремленность к высшему софийному миру и отказ от земного существования – характерная черта всей русской литературы. Именно здесь проходит водораздел между искусством классическим и искусством классицистским. Античность, на которую декларативно была ориентирована русская словесность, как известно, обожествляла близкую материю, усматривая в ней ту непосредственную основу, благодаря которой только и могло осуществляться человеческое бытие. Бог существует в великой явленности вещей, составляющих суть античного Космоса. Это доверие к близлежащему миру безвозвратно утрачено русской культурой. Не случайно, что истинные ценности всегда располагаются за пределами того пространства, в котором пребывает человек. Главный герой русской литературы – лишний человек, патологически не способный различать ценность Близкого, обреченный на дальнее зрение, блуждающее в пространственных лабиринтах. Вследствие этого одним из основных жанров в литературе становится жанр путешествия, репрезентирующий идею не включенности субъекта в пространство. Путешествие не что иное, как скольжение по поверхности мира, за которым скрывается страх места как точки, где тело обретает искомую тяжесть, где воскресает память о Матери-Земле, рождающей и умертвляющей всякую плоть. И Стародум, и Милон, и Правдин – герои «путешествующие», не прикрепленные к почве. Слово «мещанин» в русском языке очень рано начинает нести в себе негативный оттенок, становясь синонимом «мертвого» человека, не способного к живой мысли. («Мещанская драма» будет создана А.Н. Островским почти век спустя. Примечательно, что Островский из пьесы в пьесу будет воспроизводить всю ту же, уже знакомую русскому читателю из пьес Д. Фонвизина, А. Грибоедова, Н.Гоголя, удушливую атмосферу оседлости, в которой невозможно рождение истинного героя.)
В первой настоящей русской комедии, таким образом, запечатлено недоверие к окружающему миру вещей, которое в дальнейшем будет характеризовать российскую словесность в целом. Оседлость надолго станет признаком недостойной кисти художника действительности, напротив, «легкость» персонажа, его способность перемещаться в пространстве окажется знаком, указующим на несомненную подлинность изображенного лица.
Этими же причинами, на наш взгляд, обусловлен и факт отсутствия истинной комедии на русской почве. Конечная цель всякой комедии – возвращение мира к его исходным параметрам. Это неизбежное возвращение комедии к своему началу на глубинных уровнях несет в себе идею осмеяния Времени, нарушающего исходный порядок вещей в мире. Комедия Фонвизину не удалась, ибо логика осмеяния смерти не «склоняется на русские нравы». Специфика фонвизинской комедии заключается в том, что ее структура разомкнута, начала и концы не связаны между собой, образуя «зазор», «щель» в иное пространство. Это и есть выход в последующую романтическую литературу.
Зверева Татьяна Вячеславовна – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории литературы и истории русской литературы Удмуртского государственного университета
[1] Ключевский В.О. Недоросль Фонвизина (Опыт исторического объяснения учебной пьесы) // Ключевский В.О. Литературные портреты. М., 1991. С. 98.
[2] Берков П.Н. История русской комедии XVIII в. Л., 1977.
[3] Пумпянский Л.В. Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы. М., 2000.
[4] Там же. С. 137.
[5] Там же. С. 138.
[6] Фонвизин Д.И. Собр. соч.: В 2 т. Л., 1959. С. 616. В дальнейшем все ссылки на Д.И. Фонвизина даны по этому изданию в тексте, с указанием тома и страницы.
[7] Берков П.Н. История русской комедии XVIII в. Л., 1977.
[8] Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965.
[9] Лебедева О.Б. История русской литературы XVIII века. М., 2003. С. 255.