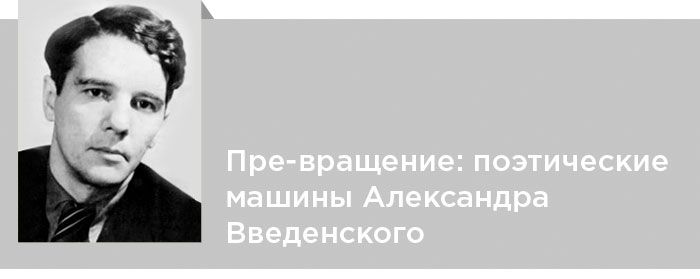Поэту Александру Введенскому сто лет

6–го декабря исполняется сто лет со дня рождения замечательного поэта–обериута Александра Введенского. Один из критиков говорил о нём так: «Введенский – рождённый, природный лирик... Чистый и удивительно лёгкий стих Введенского вводит ребёнка не только в мир родной природы, но и в мир русского классического стиха, с ритмами Тютчева, Баратынского, Пушкина». Это сказано о детских стихах Введенского, написанных в лёгкой, озорной манере, часто публиковавшихся в двадцатые–тридцатые годы и часто появляющихся сейчас в разных сборниках. «Взрослые» же стихи Александра Введенского – это стихи смелого экспериментатора, в которых мощь традиционного русского ямба и хорея впечатляюще сочетается с пародийной игрой сюрреалистов. Впрочем, делить его творчество, так сказать, по возрастному признаку – неблагодарное занятие. Судите сами, детское или взрослое такое, например, его стихотворение:
Когда я вырасту большой,
Я снаряжу челнок,
Возьму с собой бутыль с водой
И сухарей мешок.
Потом от пристани веслом
Я ловко оттолкнусь,
Плыви, челнок! Прощай, мой дом!
Не скоро я вернусь.
Сначала лес увижу я,
А там, за лесом тем,
Пойдут места, которых я
И не видал совсем.
Деревни, рощи, города,
Цветущие сады,
Взбегающие поезда
На крепкие мосты.
И люди станут мне кричать:
«Счастливый путь, моряк!»
И ночь мне будет освещать
Мигающий маяк.
Александр Иванович Введенский родился в Петербурге 6 декабря 1904–го года. В гимназии его классным наставником был историк и будущий академик Якубовский, а учителем словесности – Леонид Георг, знаток и любитель поэзии, хороший знакомый Блока. Георг вёл в гимназии литературный кружок, участником которого был и Введенский. В 1919–м году, после окончания гимназии, которая после революции стала называться Единой трудовой школой, Александр Введенский поступил в университет, где изучал сначала юриспруденцию, потом синологию... Но литература явно привлекала его больше. Творческое кредо Введенского окончательно определила встреча с Даниилом Хармсом. К их «платформе двоих» вскоре присоединились Заболоцкий, Вагинов, Николай Олейников, другие поэты... Так возникла группа ОБЭРИУ. В сталинские времена она была уничтожена, причём большинство обериутов – в буквальном смысле. Погибли Хармс, Олейников, Введенский... Николай Заболоцкий, побывавший в лагере и уцелевший лишь чудом, стал позже классиком советской литературы – но совсем с другими стихами. Что же касается яркой, самобытной, смелой, парадоксальной поэзии обериутов, то она оказывала огромное влияние на творчество молодых даже в те годы, когда она распространялась в СССР почти исключительно в самиздате.
Публичные выступления Введенского, Хармса, Олейникова в двадцатые годы привлекали огромное внимание. Художник Борис Семёнов вспоминает в книге «Время моих друзей»:
«Хармс эксцентричен с головы до пят. Он сам в оригинальном своем обличье – человек–спектакль. Введенский же ничем не выделялся: один и тот же серый костюм, кепка с пуговкой, ленивая походочка. Никаких тростей, крахмальных воротничков. Единственная любимая вещица – серебряный мундштук с кавказской чернью... Хармс не понимал смысла карточных и других азартных игр. Он просто терпеть не мог картёжников. А вот Введенский был по–гусарски азартен... Действительно, было что–то гусарское в его цыганских глазах, да и в пристрастии к рискованным спорам «на пари». Деньги не задерживались в его руках, они просто испарялись из его потертого бумажника... А как он читал стихи! У Введенского был рокочущий голос. Читал он очень торжественно, на одной ноте. Его чтение увлекало... Прекрасные женщины летали по воздуху, свистели зелёные бобы, а певчие птицы превращались в чоботы...»
Снег лежит
Земля бежит
Кувыркаются светила
Ночь пигменты посетила
Ночь лежит в ковре небес
Ночь ли это? Или бес?
Как свинцовая рука
Спит безумная река
И не думает она
Что вокруг неё луна...
Нету крова нету дна
И вселенная одна...
Завораживающие, беспокойные эти стихи с их никак не вписывавшийся в пафос строительства нового мира лексикой вызывали резкое неприятие литературных комиссаров. Особенно бушевала комсомольская печать, выражавшая, разумеется, официальную точку зрения. «Красная газета» в январе 28–го года так писала об одном из вечеров «обериутов»: «Вчера в Доме печати происходило что–то непечатное. Насколько развязны были обериуты, настолько фривольна была публика. Свист, шиканье, выкрики, вольный обмен мнениями с выступающими... Не в том суть, что у Заболоцкого есть хорошие стихи, не в том суть, что у Введенеского их нет, а жуткая заумь его отзывает белибердой и откровенным до цинизма сумбуром... Главный вопрос, который стихийно вырвался из зала: «К чему? Зачем? Кому нужен этот балаган?»
Вот что особенно раздражало (цитирую «Красную газету»): «вольный обмен мнениями» и «заумь» – то есть непонятное. Пока обериуты были оттеснены на периферию литературной жизни, их ещё как–то терпели. Но потом они ушли в детскую литературу (надо же было как–то зарабатывать деньги на жизнь!). И никакой халтуры здесь не допускали. Многие стихи Даниила Хармса и Александра Введенского стали классикой детской поэзии. Более того, замечательный драматург Евгений Шварц, который тоже был тогда в «команде» Маршака, стоявшего во главе детского отделения Ленгиза, подчёркивает в своих мемуарах: «Появление Хармса и Введенского многое изменило в детской литературе тех дней. Очистился от литературной, традиционной лексики поэтический язык. Некоторые перемены наметились и в прозе». Тут терпение властей кончилось. В апреле 1930 года в ленинградском журнале «Смена» появилась статья под названием «Реакционное жонглёрство». В ней, в частности говорилось: «В период напряжённейших усилий пролетариата на фронте социалистического строительства, в период решающих классовых боёв обериуты стоят вне общественной жизни, вне социальной действительности Советского Союза. Обериуты далеки от строительства. Они ненавидят борьбу, которую ведёт пролетариат. Их уход от жизни, их бессмысленная поэзия, их заумное жонглёрство -–это протест против диктатуры пролетариата. Поэзия их контрреволюционна. Это поэзия чуждых нам людей, поэзия классового врага». Это был публичный донос, на который власти, в конце концов, соответствующим образом и отреагировали.
В декабре 1931–го года Введенского арестовали, сняв с поезда, которым он хотел ехать в Москву. Ему предъявили обвинения в контрреволюционной деятельности, но вёл дело «литературный отдел» ГПУ (так называлось в те времена ведомство, много раз менявшее названия за годы советской власти: ВЧК, ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ). Преступление, которое инкриминировалось поэту, состояло в том, что он «отвлекал читателей своими заумными стихами от строительства социализма».
Введенский сознавался во всём: в том, что входил (цитирую протокол допроса) «в антисоветскую литературную группу, которая сочиняла и распространяла объективно контрреволюционные стихи», в том, что группа эта «искала случая – и находила эти случаи – выступать перед широкой аудиторией с пропагандой в литературной форме своих объективно контрреволюционных политических и идеалистически–мистических идей», в том, что на «сборищах» велись разговоры антисоветского характера и рассказывались антисоветские анекдоты и так далее.
То, что Введенский так часто говорил об «объективно» контрреволюционном характере стихов обериутов и их публичных выступлений, не случайно: поэт тем самым подчёркивал, что никакой сознательной, осознанной, предумышленной борьбы с советской властью не было. Заметил эту уловку и следователь. И, судя по сохранившимся документам, усилил нажим на Введенского, угрожая ему и заставляя, как тогда говорили, «окончательно разоружиться». Игра со всемогущим ведомством была для поэта с самого начала проигрышной, но только сейчас он это понял. Останавливаться на полпути было бессмысленно, и поэт добавляет на новом допросе явно под диктовку следователя: «Творчество нашей группы являлось и субъективно контрреволюционным, так как выражало контрреволюционные настроения, что я хочу подчеркнуть здесь, желая оставаться до конца правдивым и искренним». Конец цитаты.
Не знаю, как насчёт осознания своей контрреволюционности, но «разоружившись окончательно», подследственный перестал говорить обиняками и о реальных мотивах, которыми руководствовался он сам и его друзья–обериуты. «Мы работали в области детской литературы, – рассказывает он на допросе. – Эту область литературы наша группа избрала совершенно сознательно и намеренно, так как здесь царствовал полнейший аполитизм, позволивший нам развернуться, не входя в конфликт со своими ... убеждениями, развивать свою литературную деятельность в этой области ради получения средств к существованию». И дальше, уже совсем открытым текстом: «С другой стороны, надо сказать, что сколько бы я ни прятался от окружающей меня советской действительности, из этого ничего не выходило. Я помню свои жалобы Хармсу на то, что у нас воздух советский, что я отравляюсь этим воздухом. ...В начале моего прихода в детскую литературу о ней можно было сказать, что это самое аполитичное и самое оторванное от борьбы и строительства новой жизни место. Там дышалось легче, чем где бы то ни было, там было царство чистого, свободного аполитичного искусства. Но начиная, если не ошибаюсь, с 1930 года, ветер революции стал проникать и туда».
Александр Введенский не ошибался. «Великий перелом», с которого как раз в то время начиналась чёрная эпоха сталинщины, очень быстро коснулся всех сфер жизни в Советском Союзе – и уж, конечно, такой важной, как воспитание нового поколения. Детскую редакцию Ленгиза разгромили, руководивший ею Самуил Яковлевич Маршак переехал в Москву. Времена, правда, были ещё вегетарианские, поэтому в марте 32–го года Коллегия ОГПУ постановила освободить Введенского из–под стражи. Его приговорили к так называемому «минусу»: в течение трёх лет поэту было запрещено проживать в крупных городах и пограничных районах. Сначала местом ссылки определили Курск, позже Введенский поселился в Вологде. Часто приезжал в Харьков, где жила его жена. Какое–то время Введенский ещё печатался, даже выпускал книжки. Детские книжки. С детскими стихами.
По реке плывёт челнок,
На корме сидит рыбак,
На носу сидит щенок,
В речке плавает судак.
Речка медленно течёт.
С неба солнышко печёт.
Ну, а «взрослые», мрачные и в этом вполне созвучные эпохе стихи Александр Введенский писал, что называется, «в стол».
О гибели Александра Введенского существует несколько версий. О них рассказывает исследователь его жизни и творчества Евгений Биневич. По одной из версий, Введенского арестовали, когда в сентябре 41–го года немцы подошли к Харькову, где он тогда жил. Семья должна была эвакуироваться, но поезд ушёл без Введенского. Его отправили на восток другим, арестантским эшелоном. Где–то в пути или сразу после прибытия на место поэт умер от дизентерии. В 1964 году его вдова получила справку о реабилитации, где было сказано, что дело Введенского прекращено «за отсутствием состава преступления». Галина Борисовна Викторова–Введенская показала Биневичу и свидетельство о смерти, где указана такая дата – 20–е декабря 41–го года. Но в графах «причина смерти» и «место смерти» – прочерки.
Прощайте, скалы полевые,
я вас часами наблюдал.
Прощайте, бабочки живые,
Я с вами вместе голодал...
Прощайте, тёмные деревья,
Прощайте, чёрные леса,
Небесных звёзд круговращение
И птиц беспечных голоса.
01.12.2004