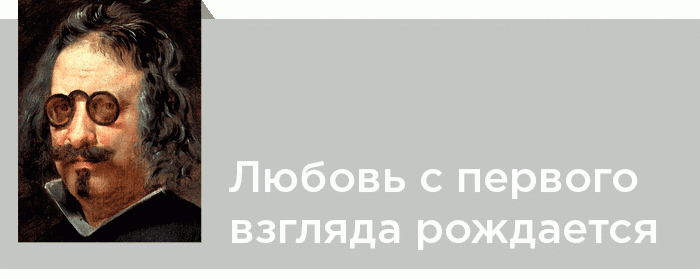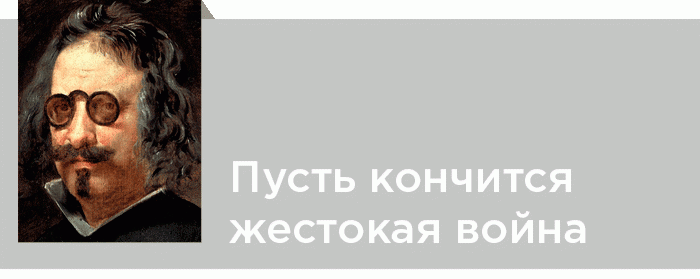Репрезентация человеческого тела в поэзии Франсиско де Кеведо

М. Б. Смирнова
На примере главным образом сатирических и бурлескных стихов испанского автора эпохи барокко Франсиско де Кеведо рассматриваются некоторые аспекты восприятия и изображения человеческого тела в барочной поэзии. В центре внимания проблема репрезентации тела, которая в поэтических текстах Кеведо обнаруживается на двух уровнях: темы (предмета) и поэтического языка. Выявляются две разнонаправленные тенденции: с одной стороны, предельная редукция тела к какой-либо его части или даже предмету одежды, а с другой - превращение его в некий свод-каталог объектов внешнего, большого мира, что связано с переосмыслением в рамках кеведовской антропологии ренессансных представлений о гармоничной соотнесенности микро- и макрокосма. На уровне концепта репрезентация приводит к своеобразному сгущению, концентрации образа. Становясь вещественно-наглядным, предметным, он одновременно является аббревиатурой либо «готовых» сюжетов, либо «готовых», канонических дискурсов, которые читатель должен восстановить во всей их полноте, чтобы приблизиться к постижению смысла / смыслов произведения.
Ключевые слова: поэзия барокко; Франсиско де Кеведо; репрезентация; человеческое тело; микрокосм; концепт; agudeza; канон; бурлеск; сатира.
Слово «репрезентация», хотя и маркировано литературоведческой модой последних десятилетий, без какой-либо анахронической натяжки применимо к эпохе барокко с ее общим тяготением ко всему внешнему, театральному, к визуализации смыслов, будь то достигший невероятной популярности жанр эмблемы или проникновение эмблематики в словесные жанры (от фигурных стихотворений в форме креста, розы, песочных часов и т. д. до эмблематичности самих поэтических образов). Насколько оно было осмыслено эстетическим сознанием самой эпохи? Если обратиться к Испании, то толковый словарь Коварубьяса (1611) фиксирует следующие значения слова «representar»;
«...явить нам (hacernos presente) что-либо посредством слов или фигур (figuras), которые фиксируются (se fijan) в нашем воображении; отсюда название лицедеи (representantes), комедианты, поскольку один представляет короля, изображая его, как если бы тот присутствовал, другой - галана, третий - даму и т.д. Репрезентация - комедия или трагедия. <.> заключать в себе другое лицо (encerrar en sí la persona de otro), как если бы это было оно само, дабы замещать его во всех его действиях и правах, как сын представляет отца (representa la persona del padre). Это весьма тонкая и щекотливая материя, находящаяся в ведении юристов, к коим я отсылаю»1.
Как видно, Коваррубьяс лишь вскользь касается собственно словесности («представить <...> что-либо посредством слов»), гораздо отчетливее для него понятия репрезентации как изображения, подражания, персонификации, непосредственно связанных с театральной практикой, и репрезентации как представительства, замещения, действия от имени другого лица, что отсылает к сфере права. Однако этот факт отнюдь не опровергает внимания барочной культуры к репрезентации, а скорее свидетельствует о неотрефлексированности понятия «representación», тем более что сам Коваррубьяс отдал более чем существенную дань столь важному для традиции репрезентативности жанру, как эмблема, выпустив в 1610 г. книгу «Моральные эмблемы». Да и его словарь «Сокровище кастильского или испанского языка» во многом мыслился не только как лингвистический свод значений слов, но и как энциклопедическое описание самого референта, обозначаемого, то есть предполагал в том числе и визуализацию понятий. Важнее, что оба «полюса толкования слова», на которые, например, указывает К. Гинзбург; «репрецентация как субституция и репрезентация как миметическое напоминание»2, у автора толкового словаря эпохи барокко присутствуют.
Далее нас будут интересовать оба смысловых полюса репрезентации (отсылка к скрытому смыслу и подмена одного другим), ибо для Кеведо актуальны одновременно и поэтика сходства, и поэтика расподобления.
В поэтических текстах Франсиско де Кеведо репрезентация обнаруживается на двух уровнях. С одной стороны, она входит в его поэзию в качестве темы, то есть становится предметом стихотворения. С другой - проявляется на уровне тропов и фигур, будучи принципом моделирования самого поэтического языка, в высшей степени наделенного «эмблематической потенциальностью»3.
В первом случае репрезентация находит опору, во-первых, в барочной гносеологии, которая, в частности, на первый план выдвигает оппозицию «apariencias - esencias», то есть «внешнее - внутреннее», «видимость - сущность», «образ - реальность», с явно манифестируемым интересом к первой составляющей каждой из этих пар, что подтверждается, в частности, расхожими афористичными формулами («О вещах судят не по их сути, а по виду; мало кто смотрит вглубь, чаще довольствуются наружностью»4; «.lo primero con que topamos no son las esencias de las cosas sino las apariencias» - «.первое, с чем мы сталкиваемся, это видимость, а не сущность»5). А во-вторых - в кеведовской антропологии, переосмысляющей ренессансные концепции о срединном положении человека в мире и соотношении микро- и макрокосма.
Приведем несколько цитат из позднего трактата Кеведо, написанного в наставление атеистам с целью доказать бессмертие души и благость Божьего промысла. Вот состояние человека до того, как в нем возгорелся «свет интеллекта»:
«Ты был зачат в чреве твоей матери от неги сна и пенного пота человеческой субстанции и замешан на избыточной жидкости, яде в кровавом облачении, который врачи и повитухи испускают из тела женщины для сохранения ее здоровья. Ты был сгустком ужаса, отравы и мерзости, этих непременных составляющих смерти <...>. Ты увидишь беспорядочный хаос, уродливый, неопрятный и взбаламученный, в котором найдешь лишь то, что может вызвать рвоту»6.
Этот пассаж можно было бы продолжить строфой известного сонета Кеведо, где описано рождение и первые дни человека:
La vida empieza en lágrimas y caca, luego viene la mu, con mama y coco, síguense las viruelas, baba y moco, y luego llega el trompo y la matraca.
«Жизнь начинается в слезах и какашках, / затем приходят “му” (“баю-бай”), титька (“мама”) и “бука”, / затем следуют оспа, слюни и сопли, / а затем - волчок и погремушка» (535)7. [Здесь и далее стихи Кеведо цитируются по указанному изданию. В скобках приводится номер стихотворения].
Итак, перед нами ничтожнейшее и отвратительнейшее творение природы, которому самим рождением уготовано низшее место в мире. Причем именно телесное начало выступает средоточием всей мерзости человеческого существа.
Все меняется, когда, «подобно искрам в нем начинает проблескивать свет рассудка», тогда человек перестает быть зверем или животным и превращается в существо, способное подчинить себе все стихии мироздания. Но могущество его длится, лишь покуда он озарен этим светом разума. Затухание интеллектуального начала неизбежно влечет человека назад - к мерзости и тлену:
«Взгляни же на него и узри гармонию этого живого здания, восхитись тем, как в сколь крохотном теле заключены высший и нижний миры, уменьшенные, но без ущерба для их достоинства, не столь, пространные, но не менее благородные <...> Но поверни вспять от своего существа и своей жизни, от этого своего положения, когда ты лишь посредством разума и души царишь над птицами, рыбами, животными, землей, водой, огнем, вернись к тому, чем ты был, пока разумная душа не облагородила тебя, и ты снова станешь постыдной массой, смесью ужаса и мерзости, приправленной ядом»8.
Таким образом, кеведовский человек всегда находится в состоянии шаткого баланса, между двумя состояниями; «masa de horror y asco y ponzoña» (сгустком ужаса, мерзости и отравы), каковой он был до рождения, и «masa vergonzosa» (постыдной массой), в которую в любой момент может превратиться, если только забудет о человеческом в себе самом (то есть о разуме и рациональной душе). И тогда он утратит и власть над миром, и право называться «маленьким миром», микрокосмом.
Собственно, эта довлеющая себе телесность, торжество материи, предметно-вещного мира над разумом и душой порождают одну из магистральных тем Кеведо; изображение человеческого существа, сведенного исключительно к материально-телесным атрибутам и ставшего в итоге лишь симулякром человека. Репрезентация как подмена живого мертвым, целого - частью делается предметом изображения, а целью, смысловой установкой поэтического текста становится разоблачение этой репрезентации как ложной, нарушающей все законы малого и большого мира.
Второй отмеченный нами аспект-репрезентативность как свойство самого поэтического языка - связан с выдвижением в центр барочной поэтики и, как следствие, поэтологической рефлексии категории остроумия (agudeza), или изобретательности (ingenio), основной сферой реализации которой становится концепт (по Б. Грасиану, «изящное сочетание», «гармоническое сопоставление двух или трех далеких понятий, связанных единым актом разума»9). При этом обязательная для барочного образа интеллектуально-логическая связь между означаемым и означающим максимально «спрятана», явлен только второй план, а задачу расшифровки имплицитного сравнения автор оставляет нам. Именно эта «замещающая» природа концепта и представляет наибольший интерес с точки зрения обозначенной нами темы.
Далее мы исследуем ряд случаев, где репрезентация выступает в обоих указанных качествах; как предмет-тема и как конструктивный принцип построения поэтического тропа.
На первом примере можно увидеть, как человеческое тело утрачивает гармоническое единство целого и подменяется одной его частью - носом;
Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un peje espada muy barbado;
era un reloj de sol mal encarado, érase una alquitara pensativa, érase un elefante boca arriba, era Ovidio Nasón más narizado.
Érase un espolón de una galera, érase una pirámide de Egito, las doce tribus de narices era;
érase un naricísimo infinito, muchísimo nariz, nariz tan fiera que en la cara de Anás fuera delito.
«Это был человек, приклеенный к своему носу, / это был нос в превосходной степени, / палач (монах в длинной одежде, возглавляющий процессию на Страстной неделе), писарь (книжник в иудейской традиции), / это была рыба-меч с огромным рылом; // это были солнечные часы, показывающие неверное время (уродливые), / это был задумавшийся перегонный куб, / это был слон мордой вверх, / это был самый носатый Овидий Назон. // Это был ростр (таран) галеры, / это была египетская пирамида, / двенадцать колен носов; / это был бесконечный наиносище, / слишком много носа, нос такой безобразный (чудовищный, огромный), / что даже на лице [первосвященника] Анны, он был бы преступлением» (513).
Конечно, в выборе топоса Кеведо не оригинален. Как истинно барочный автор он аккумулирует известные литературные традиции (греческая эпиграмматика, латинская сатира, итальянский ренессансный бурлеск10), в которых находит «модель для сборки» и этого, и множества других комических портретов, будь то по профессиональному (юристы всех мастей; писцы, нотариусы, альгвасилы, судьи, адвокаты; врачи, аптекари, рогоносцы, социальные маргиналы; плуты, воры, нищие, пьяницы, дуэньи, приживалки, проститутки и др.) или по физическому признаку (лысые, носатые, толстые, старухи и т.д.). Первый издатель Кеведо Гонсалес де Салас, заботясь о своего рода теоретическом «оправдании» кеведовского бурлеска и о том, чтобы вписать имя своего подопечного в почтенную и, главное, древнюю традицию, указывает на греческую эпиграмму как на исток темы больших носов11. Вопрос в том, зачем Кеведо добавляет к множеству гротескных портретов еще одно стихотворение, которое, казалось бы, посвящено исключительно изображению носа и упражнению в изощренном остроумии (agudeza), с которым поэт нанизывает одну за другой метафоры-концепты, призванные визуализировать этот единственный образ.
Действительно, сонет являет собой чистое перечисление в виде анафорической последовательности назывных предложений (исключение, да и то частичное, составляют два завершающих терцета), указывающих на одушевленные и неодушевленные объекты, преобладающая (или, по крайней мере, наиболее очевидная) функция которых обозначить своей формой сходство с гипертрофированным носом. Таковы палач или монах в особой длинной одежде, возглавляющий шествие на Страстной неделе, слон, солнечные часы, перегонный куб, рыба-меч, египетская пирамида, носовая часть галеры. В тех же случаях, когда Кеведо использует не материальную метафору, а, например, грамматические или фонетические ресурсы языка (авторские неологизмы, возводящие нос в превосходную степень; «un naricísimo infinito», «muchísimo nariz», фонетическая аллюзия - носатый Овидий Назон) или образ, требующий абстрагирования (двенадцать колен носов), легко считывается идея чрезмерности, физической объемности.
Однако за всем этим буйством зримости, вещности, нарочитой репрезентативности стоит некая идея, к которой каждый концепт в конечном счете отсылает. Такой идеей всякий раз является нарушение закона, правильного миропорядка. В самом деле, палач отсылает нас к мысли о преступлении, шествие на Страстную неделю - к страданиям Христа и неправедному суду над ним, перегонный куб - к подозрительной науке алхимии, двенадцать племен носов - к коленам израилевым, пирамида - к исходу из Египта, слон не случайно перевернут вверх ногами, солнечные часы указывают неверное время, даже неологизмы символизируют насилие над языком, нарушение лингвистической нормы. Наконец, в последней строфе, самим своим синтаксисом нарушающей порядок, согласно которому строился весь сонет, появляется образ первосвященника Анны, который устроил первый допрос Спасителю, а затем предал его в руки синедриона, и звучит слово «преступление».
Между тем, наличие этой объединяющей идеи еще не означает возможности единственного прочтения сонета, то есть выявления его конкретного смысла и реального адресата. Такие попытки, и весьма убедительные, делались. Например, один из исследователей рассматривает этот сонет как пример исключительно «антисемитского космовидения»12, другие видят сатиру на Гонгору, что не исключает антиеврейского прочтения, но добавляет к нему эстетические обертоны (нападки на своего поэтического врага - культиста Гонгору, который совершает насилие над языком и поэзией, Кеведо всегда сопровождает инвективами личного свойства, включая намеки на религиозную и национальную неблагонадежность; «новый» христианин с «нечистой» кровью).
Обе интерпретации возможны. Главное не в том, какую выбрать, а в принципиальной открытости данного текста навстречу сразу многим интерпретациям. Структура и всего стихотворения, и почти каждого его образа в отдельности заведомо предполагает различные толкования и ассоциации. Так, слово «sayón» можно толковать как «saya grande» (большая юбка или римская тога), а можно как «палач Христа», что существенно влияет на концепцию репрезентируемого. В выражении «peje espada muy barbado» такой же многозначностью наделены слова «espada» (часть ихтиологического термина или «шпага») и «barbado» (и хрящевые наросты у рыб, и «бородатый»)13. В упоминании Овидия Назона можно увидеть только фонетическую игру слов, а можно вспомнить, что именно Овидий был для Гонгоры образцом «темного стиля». Внешняя, репрезентативная сторона образа с одной стороны, безошибочно указывает на референт, предмет стихотворения (это во всех случаях нос), но не указывает на его смысл, идею, а лишь предлагает включиться в процесс расшифровки.
В другом бурлескном сонете человеческая фигура не просто деформируется или замещается одним органом, но и вовсе подменяется деталью одежды - нижней юбкой с огромным каркасом, которая целиком вытесняет женское тело. Репрезентация достигает полноты, от органицизма человека-носа не остается и следа14;
Si eres campana, ¿dónde está el badajo?; si pirámide andante, vete a Egito; si peonza al revés, trae sobrescrito;
Si chapitel, ¿qué haces acá abajo?
Si de diciplinante mal contrito eres el cucurucho y el delito, llámente los cipreses arrendajo.
Si eres punzón, ¿por qué el estuche dejas?
Si cubilete, saca el testimonio; si eres coroza, encájate en las viejas.
Si büida visión de San Antonio, llámate doña Embudo con guedejas; si mujer, da esas faldas al demonio.
«Если ты колокол, где твой язык? / Если ходячая пирамида, отправляйся в Египет; / если перевернутый волчок, прицепи надпись; / если сахарная голова, я запру тебя в Мотриле. // Если капитель, что ты делаешь внизу? / Если нераскаявшегося грешника / ты колпак и преступление, / пусть кипарисы назовут тебя сойкой. // Если ты рожок, почему покинула футляр? / Если стакан [для игральных костей], предъяви доказательство; / если колпак, надень себя на старуху. // Если остроконечно видение Св. Антония, / назови себя донья Ловушка с космами [волос]; / если женщина, отдай эти юбки дьяволу» (516).
Все объекты внешнего, «большого» мира нарочито неантропологичны и, по большей части, относятся к сфере неодушевленной материи. Предметы, с которыми сравнивается «треугольная» женщина, подбираются, как и в предыдущем стихотворении, по внешнему сходству; они все (пирамида, сахарная голова, детский волчок, рожок, стаканчик для игральных костей, капитель колонны, колпак, кипарис) имеют более или менее треугольную форму. Однако в каждом случае видимое сходство разоблачается неуместностью, в том числе и в буквальном смысле слова, данных сравнений. Сойдясь в фигуре женщины, все вещи покинули предназначенные им правильным мироустройством места; пирамида - Египет, сахарная голова - Мотриль (город в провинции Гранада, где производили сахар), опрокинутая капитель - верхнюю часть колонны, рожок - свой футляр, колпак - голову старухи и т. д.
По сути, мы имеем дело с тем же мотивом, что и в первом сонете; нарушение порядка, нормы, закона. По мере разворачивания концептуального ряда, эта мысль становится все более явной. Начиная с последнего стиха первого терцета, предметно-неодушевленный характер сравнений нарушается. Появляется фигура старухи, на голову которой надет колпак (очевидная отсылка к инквизиционным процессам над ведьмами), и святого Антония, искушаемого дьяволом в облике женщины, что закономерно венчается последней строкой, где автор оставляет технику уподоблений-расподоблений и дает прямой совет отдать юбки дьяволу. Дьявольская сущность женщины одновременно и прикрыта одеждой и явлена через нее.
Таким образом, традиционная, знакомая с давних времен мизогиническая тема реализуется исключительно через портрет, достигая предельной визуализации. Отсюда уже один шаг до эмблемы, вернее до целой галереи эмблем; каждый из возникающих образов легко представить себе в виде рисунка с надписью «Женщина - исчадие ада и орудие дьявола». Каждое сравнение предельно вещественно, наглядно, конкретно и одновременно взывает к толкованию, выявлению общего смысла.
Умножая примеры, можно обнаружить новые акценты и в трактовке репрезентации как темы, и в использовании репрезентации как приема.
Так, в одном из своих бурлескных стихотворений («Si no duerme su cara con Filena.» - «Если лицо Филены с ней не спит», 522) Кеведо настолько утрирует саму идею подмены, что за одеждой и косметикой обнаруживает не женщину и даже не дьявола, а само ничто. Обращаясь к мужу, автор недоумевает, почему тот так пугается, обнаружив себя неженатым (точнее, «разженатым» - descasado), ведь «если ты считаешь женщиной то, что ее составляет, / ты кладешь рядом с собой / не женщину, а тюк [тряпок], которые она носит». В другом случае мы обнаруживаем репрезентацию самой что ни на есть настоящей репрезентации; предметом стихотворения становится огромное чучело, которое проносят по улицам во время праздника Корпус Кристи. Для Кеведо это аллегория vanitas, и человек, в котором внешнее возобладало над внутренним, уподоблен кукле;
¿Miras este gigante corpulento que con soberbia y gravedad camina?
Pues por de dentro es trapos y fajina, y un ganapán le sirve de cimiento.
Con su alma vive y tiene movimiento, y adonde quiere su grandeza inclina, mas quien su aspecto rígido examina, desprecia su figura y ornamento.
Tales son las grandezas aparentes de la vana ilusión de los tiranos, fantásticas escorias eminentes.
¿Veslos arder en púrpura, y sus manos en diamantes y piedras diferentes?
Pues asco dentro son, tierra y gusanos (118).
Ты смотришь, как проходит горделиво Сей великан над праздничной толпою?
Так знай-внутри он весь набит трухою,
Простой носильщик тащит это диво.
И кукле карнавальной терпеливо
Дарит он жизнь и дух своей рукою.
Но тем, кто знает, что она такое,
Смешон ее убор и вид спесивый.
Таков величья образ преходящий,
Которым суетно тиран гордится, -
Роскошный мусор, пестрый и блестящий.
Ты видишь, как венец его искрится,
Как, ослепляя, рдеет багряница.
Так знай, внутри он-только прах смердящий. (Пер. А. Косс).
Если же вернуться к более общему пониманию репрезентации, то окажется, что возможно не только тематическое ее варьирование и углубление, но и усложнение отношений «слово - вещь» за счет того, что слово начинает отсылать не только к объекту описания, но и другому слову. Вот один из многих портретов молодящейся старухи;
Rostro de blanca nieve, fondo en grajo; la tizne копоть сажа presumida de ser ceja; la piel que está en un tris de ser pelleja; la plata que se trueca ya en cascajo;
habla casi fregona de estropajo; el aliño imitado a la corneja; tez que con pringue y arrebol semeja clavel almidonado gargajo.
«Лик из белого снега, под ним грач; / сажа пытается быть бровями; / кожа - почти шкура; / серебро, которое почти превратилось в черепки; // заговорит - почти прачка; / обликом - что ворона; / кожа от жира и румян / подобна гвоздике, что накрахмалили в мокроте» (551).
Перед нами снова изображение человека, стремящегося быть не тем, чем он является на самом деле; старуха, которая с помощью косметики выдает себя за молодую красавицу. Визуальные образы (грач с черным оперением, сажа вместо бровей, черепки вместо серебра, застывший в мокроте цветок), которые относятся к отдельным деталям лица, в конце сонета будут обобщены в самой расхожей для обозначения молодости и одновременно быстротечности женской красоты ренессансно-барочной метафоре; это роза, но теперь роза, ставшая чертополохом («a la que rosa fue vuelven abrojo»).
Однако на сей раз концептистская игра сложнее, поскольку референтным фоном для построения всей системы уподоблений служит не только некая, пусть и опосредованная сатирической традицией, «реальность» (уродливая старуха), но принципиально иной поэтический канон, к которому нас отсылает автор. Это канон петраркисткой поэзии, которому и сам Кеведо отдает серьезную дань в любовной лирике. [Вот пример сонета, где дается «не вульгарный» (как сказано в названии) портрет героини ке- ведовского «канцоньере» - Лиси;
Crespas hebras sin ley desenlazadas, que un tiempo tuvo entre las manos Midas; en nieve estrellas negras encendidas, y cortésmente en paz de ella guardadas.
Rosas a abril y mayo anticipadas, de la injuria de el tiempo defendidas; auroras en la risa amanecidas, con avaricia жадность de el clavel guardadas.
«Вьющиеся, вольно распущенные нити, / которые некогда держал в руках Мидас; / на снегу черные глаза, что горят / и одновременно с достоинством им охраняются. // Розы, расцветшие до апреля и мая, // и неподвластные губительному времени; / зори, взошедшие в улыбке, // которые оберегает жадная гвоздика» (443).]
Слова-метки из петраркистского вокабулярия (снег, серебро, розы, гвоздика, заря), отсылка к голосу как второму по значению (после глаз) истоку неоплатонического чувства образуют «высокую» параллель бытовой и даже низкой лексике. Чисто визуальные ассоциации, к которым апеллирует «низкий», «вульгарный», в тогдашнем смысле слова, образный ряд, должны дополниться ассоциациями поэтическими, сквозь «склеенную» из осколков грубой материи старуху должна проступить прекрасная «культистская» дама петраркистского сонета.
И опять каждый образ стремится к эмблематичной наглядности, а иконографический ряд имеет, как и положено эмблеме, надпись-лемму, вынесенную в название сонета «Здесь была Троя красоты», причем двойная референция прослеживается и в самом этом названии; Троя позволяет визуализировать руины (это как бы главные, первые в истории культуры руины) и одновременно воскрешает образ Елены как неоспоримый и универсальный образец женской красоты.
Приведенные примеры обнаруживают две разнонаправленные тенденции в изображении человека у Кеведо; с одной стороны, это предельная редукция тела к какой-либо его части или даже предмету одежды, а с другой - превращение его в некий свод-каталог объектов внешнего, большого мира. На содержательном уровне такой подход обусловлен представлением о несовершенстве человеческого мира, который не может явить себя во всей полноте и обречен стихии множащихся форм, подобий, осколков. На уровне концепта происходит нарочитое сгущение, концентрация образа. Указывая на вполне конкретный объект, который наше воображение должно воскресить во всех его физических подробностях, этот образ одновременно является аббревиатурой либо какого-то сюжета, который необходимо развернуть посредством его припоминания, либо какого-то «готового», канонического дискурса, который следует восстановить во всей его полноте - в противном случае невозможно приблизиться к постижению смысла / смыслов произведения.
Мы обратились главным образом к смеховому регистру кеведовской поэзии (сатира, бурлеск). Между тем, поэтический корпус Кеведо при всей его разнородности и внешней противоречивости представляет собой некую нераздельную парадигму с участием нескольких авторских масок, с особой риторической интертекстуальностью, наконец, с единой вертикалью смыслов. Расширение исследуемого контекста, в частности, привлечение любовной и метафизической лирики, позволило бы достроить картину человеческого тела, каким его видит барочный поэт, однако это тема для отдельного, обстоятельного анализа.
Примечания:
lCovarribias Orozco S. de. Tesoro de la lengua castellana o española. URL; http;// www.cervantesvirtual.com/obra-visor/del-origen-y-principio-de-la-lengua-castellana-o-romance-que-oy-se-vsa-en-espana-compuesto-por-el-0/html/00918410-82b2-11df-acc7-002185ce6064_1062.htm(accessed; 01.10.2013).
2Гинзбург К. Репрезентация; слово, идея, вещь // Новое литературное обозрение. 1998. № 33. С. 7.
Ginzburg K. Reprezentatsiya; slovo, ideya, veshch’ // Novoye literaturnoye obozreniye. 1998. № 33. P. 7.
3Михайлов А.В. Поэтика барокко; завершение риторической эпохи // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994. С. 367; 357-384.
Mikhaylov A.V Poetika barokko; zaversheniye ritoricheskoy epokhi // Istoricheskaya poetika. Literaturniye epokhi i tipy khudozhestvennogo soznaniya. Moscow, 1994. P. 367; 357-384.
4Грасиан Б. Карманный оракул, или Наука благоразумия // Грасиан Б. Карманный оракул. Критикон. М., 1982. С. 24.
Grasian B. Karmanniy orakul, ili Nauka blagorazumiya // Grasian B. Karmanniy ora-kul. Kritikon. Moscow, 1982. P. 24.
5Gracián B. El discreto. URL; http;//www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el- discreto--0/html/fee40c0a-82b1-11df-acc7-002185ce6064_4.html#I_26_ (accessed; 12.03.2014).
6Quevedo F. de. Providencia de Dios. Zaragoza, 1700. P. 13.
7Quevedo F. de. Poesía original completa / Ed. J.M. Blecua. Barcelona, 1981.
8Quevedo F. de. Providencia de Dios. P. 14-16.
9Грасиан Б. Остроумие, или Искусство изощренного ума // Испанская эстетика. Ренессанс. Барокко. Просвещение. М., 1977. С. 175.
Grasian B. Ostroumiye, ili Iskusstvo izoshchrennogo uma // Ispanskaya estetika. Renessans. Barokko. Prosveshcheniye. Moscow, 1977. P. 175.
10Fasquel S. La enunciación paradójica y las estrategias del discurso burlesco // Criticón. 2007. № 100. P. 41-57.
11Quevedo F. de. Poesía original completa. Р. 546.
12Molho M. Una cosmovisión antisemita; Érase un hombre a una nariz pegado // Quevedo in Perspective / Еd. J. Iffland. Newark, 1982. Р. 57-79.
13Arellano Ayuso I. A un nariz [comentario del texto]. URL; http;//www.biblioteca. org.ar/libros/152758.pdf (accessed; 01.10.2013).
14Roig Miranda M. La realidad de la mujer piramidal! (estudio del soneto 516 de Quevedo) // La Perinola. 1993. № 3. Р. 383-394.
Л-ра: Новый филологический вестник. 2014. № 2 (29). С. 76-87.
Произведения
- Безмолвная любовь
- Любовь с первого взгляда рождается, живёт, растёт и становится вечной
- Пусть кончится жестокая война, которую ведёт со мной любовь
Критика