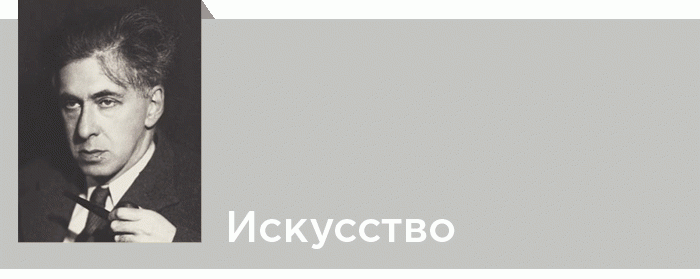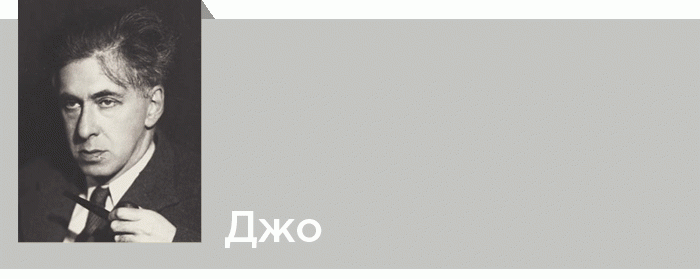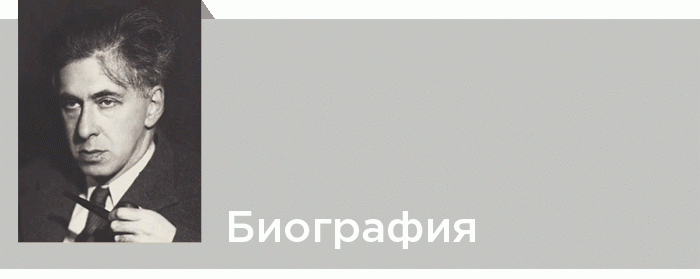Илья Эренбург (К 70-летию со дня рождения)
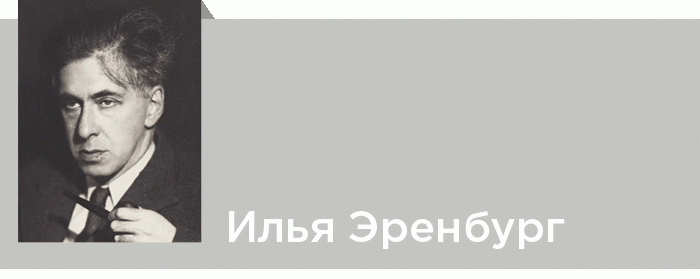
Г. Белая
Казалось, несовместимы руссоистский сборник «Я живу» (1911) и исступленные «Стихи о канунах» (1916), ожидание и предчувствие революции («...все томится, никнет и бредит одним концом») и непонимание ее, увлечение кубизмом и горькое сожаление о том, что «человека, связанного с козами, с дилижансом, с уютом керосиновой лампы, больше нет» («Белый уголь или слезы Вертера», 1928). Может быть, эта кажущаяся парадоксальность, острота книг Эренбурга сделали его «баловнем» критики: его заметили быстро; о нем много писали, хотя скупо хвалили; его внутренний рост и сила были несомненны. И если в 1916 году В. Брюсов писал: «Вы можете достичь, хотя еще ничего не достигли», то в 1935 году Ромен Роллан восхищался «мощным и уверенным искусством Эренбурга», а в 1942-м немцы в Новочеркасске расстреляли старого учителя только за то, что нашли у него «Падение Парижа»...
Но всеобщее признание не смогло снять другого парадокса, который звучит уже не столько в творчестве Эренбурга, сколько в оценке его критиками и читателями.
Это противопоставление публициста художнику, так же, как и упреки в непоследовательности, невольно оживляет в памяти полемику Пикассо с традиционными представлениями о процессе творческого изменения. «Когда я слышу, что говорят люди о развитии художника, мне всегда представляется, — говорил Пикассо, — будто они видят его стоящим между двумя противоположно расположенными зеркалами, повторяющими его образ бесчисленное количество раз, причем изображения в одном зеркале выступают как его прошлое, в другом — как его будущее, в то время как сам художник — явление чисто современное. Люди не думают о том, что все это один и тот же образ, но только отраженный в разных плоскостях». Как продолжение этой мысли мы воспринимаем и признание Эренбурга в том, что написанные им книги «различны не только по жанру — я менялся (менялось и время). Все же я нахожу нечто общее между Хулио Хуренито и моими последними книгами, — продолжал писатель. — С давних пор я пытался найти слияние справедливости и поэзии, не отделял себя от эпохи, старался отстоять право каждого человека на толику тепла». Не случайно, это «нечто общее» Эренбург не связывает ни с жанрами, ни с темами своих книг. Уже очень давно, еще тогда, когда критики решали вопрос, кто Эренбург, «клеветник или скептик-упадочник», когда главную силу Эренбурга видели в остроте сатиры и отрицания, когда читателя угнетала мрачность и безысходность романов о гибели Европы («Трест Д. Е.») и отчаяние «Лета 1925 года», — современники ощущали в книгах Эренбурга «нежность и душевную боль», смягчавшую колорит самых мрачных его произведений. Каким бы рассудочным ни казался Эренбург в своем редком интеллектуализме, какие бы логические схемы ни вырастали на страницах его произведений, — его искусство сильно было своим голосом. Это чувствовали не только читатели 20-х годов, но и советские солдаты в годы второй мировой войны, которым не мешала в статьях Эренбурга ни книжная эрудиция, ни пестрота незнакомых имен, ни частые экскурсы в историю и культуру других стран и народов. Кто мог сравниться с Эренбургом по силе воздействия на бойцов, по глубине отклика, который рождали публицистические статьи писателя в сердцах людей? Их короткие названия — «Мы выстоим», «Человечество с нами», «Свобода или смерть», «Вперед» — звучали как призыв, а душевная теплота, ощутимая в словах Эренбурга, сокращала расстояние между сердцем писателя и его читателями. Не случайно до сих пор со многими из бойцов, по признанию Эренбурга, он связан «крепкой, солдатской дружбой».
То, что оставалось в памяти после чтения книг Эренбурга, закреплялось глубинной эмоциональностью его произведений, скрытой теплотой интонации, лиризмом, насыщающим каждую клеточку книги. Останавливали внимание, казалось, мелочи. Герои Эренбурга, думая о конце войны, мечтают о «ситцевом счастье» («Буря»), «о самом простом: жить, дышать, не бояться шагов, не слушать сирен, нянчить детей, любить» («Падение Парижа»). Думая о стихах Поля Элюара, о «загадочном сплетении» слов, которое делает их высокой поэзией, Эренбург припоминая строчки, посвященные Габриэлю Пери: «Есть слова, которые помогают жить, и это простые слова: слово «тепло» и слово «доверие», слово «правда» и слово «свобода», слово «ребенок» и слово «милый» и некоторые названия цветов и деревьев, слово «мужество» и слово «открыто», слово «брат» и слово «товарищ»...
Все это заставляло прислушаться к обычным словам Эренбурга: деревья, дети, книги, счастье, жизнь, мир. Они просты и повседневны, но в произношении Эренбурга наполнены особым смыслом, «высветлены» особым пониманием:
Ты тронул ветку, ветка зашумела.
Зеленый сон, как молодость, наивен. Утешить человека может мелочь:
Шум листьев или летом светлый ливень. Когда омыт, оплакан и закапан,
Мир ясен весь в одной повисшей капле, Когда доносится горячий запах Цветов, что прёжде никогда не пахли...
Случайна ли эта апелляция к человеческим чувствам, к деталям мира и жизни — простым и обыденным? Не странно ли, что «публицист» Эренбург, выступая против войны, ссылается не только на «пути истории», но требует мира «во имя книг и деревьев, во имя камней Акрополя и во имя детей любого города, любой страны»?
Устойчивая привязанность к выявлению в Эренбурге «публицистического начала» вряд ли случайна. В ней сказалось смутное, но верное ощущение несовпадения манеры писателя с канонами «традиционного» реализма. Если следовать его собственному делению художников на тех, кто видит мир, и тех, кто его слышит, то Эренбургу скорее ближе лирическое мировосприятие Элюара или, например, Блока, который писал о «музыке революции», чем «живописное» восприятие Гюго, который «революцию видел». Так же, как Элюар, Эренбург «не поучает, не рассказывает, не описывает, он признается».
Метод Эренбурга и в прозе и в его статьях остается методом лирического поэта. Недаром он начал со стихов; недаром и сегодня, не умея, по его словам, выразить в прозе то, что его заполняет, возвращается Эренбург к стихам («...есть такие прозрения, такие ощущения гармонии или разлада, которые не выразишь ни в новелле, ни в статье...»). Центром группировки материала становится либо поэтическое ощущение (стремление передать музыку нового мира в «Дне втором»), либо философское размышление о веке (как в книге «Люди, годы, жизнь»). Можно ли себе представить «Бурю» без пронизывающей ее трагической тональности — столкновения страстного жизнелюбия людей и невозможности жить? Можно ли забыть ее лейтмотив?
Мы жить с тобой бы рады.
Но наш удел таков.
Что умереть Должны мы
До первых петухов.
Другие встретят солнце,
И будут есть, и пить,
И, может быть, не вспомнят.
Как нам хотелось жить...
Эту песенку поют макизары в лесу, пахнувшем смертью, ее вспоминают партизаны, рассказывая о героях, она вспыхивает в памяти Мадо, получившей весть о смерти Сергея. «Почему-то казалось, что горы Югославии похожи на Лимузэн, так же поросли буком, ольхой. А по склону идет Сергей с ружьем. И Мики поет: «Мы жить с тобой бы рады, но наш удел таков...» И она говорит Сергею: это правда. Мы жить с тобой бы рады, но ты понимаешь — таков удел». Обвинительный акт фашизму, который представляет собой «Буря», немыслим без этого острого упоения жизнью «у бездны смертной на краю», без гибели Сергея среди роз и пионов, без юноши Поля, в голове которого во время пыток и допросов бились строчки стихов: «и розы вдоль всего пути опровергали ветер смерти», — без Миле, который отказался от повязки, смотрел на небо. «Мы жить с тобой бы рады...» — слышит художник Самба на улицах победившего Парижа, и это зовет его рассказать, как хотели бы жить люди, которые погибли за жизнь. И если вспомнить слова Эренбурга о том, как тяжело ему было писать «Бурю», — не этот ли мотив стучал в его сердце как призыв?
Пророчески прав оказался В. Брюсов, сурово оценивший ранние стихи Эренбурга, но написавший в 1916 году: «Я люблю в Вас поэта», хотя это «не значит, что я люблю Ваши стихи». «Поэтичность» Эренбурга оказалась шире и глубже — и его стихов, и его иронии, и хлесткости его сатиры. Не она ли определила его свободное отношение к натуре, к живой природе?
Эта свобода в прозе сродни его дерзости в поэзии, где чувство писателя сводит воедино и оправдывает, казалось бы, прихотливую игру красок, причудливое сплетение ассоциаций и образов.
Эренбург как будто не хочет надолго остановиться возле отдельного эпизода, колоритного характера, живописного факта. Люди в его книгах лишены множества бытовых подробностей; в романах есть внимание к характерам, но неощутимо желание проследить их становление и формирование. Как бы ни была близка автору Мадо, он от нее идет к десяткам других героев «Бури». Иных это обижало, и они упрекали писателя в мелькании героев, калейдоскопичности композиции. Другим нравилось, потому что интересен был путь, которым вел своих героев Эренбург, и финал, к которому подводил он читателя. Постепенно угадывалось, что в книгах Эренбурга главное — не в факте, не в эпизоде и даже не в отдельном характере, а в том давно возникшем качестве, о котором он сам писал когда-то: «Я не склонен к поэзии настроений и оттенков, меня более влечет общее, «монументальное», мне всегда хочется вскрыть вещь, показать, что в ней главного». В центре «Хулио Хуренито», например, — жизнь человечества в дни мира, войны и революции, в Париже, в Мексике, в Риме и Сенегале, в «Дне втором» — стихия строительства, революционное общество, сдвинувшее все с мёртвой точки стабильности; в «Буре» — катастрофа человечества, столкновение миров, разделенных разным отношением к войне и жизни. О размахе Эренбурга еще в 1928 году не без иронии писали: «Место действия романов Эренбурга — мир: на меньшее он не мирится. Время действия — бесконечность протекших и грядущих тысячелетий...»
Это внимание к судьбам человечества долгое время казалось трудносовместимым с художественным проникновением в душевный мир человека.
Но, говоря словами Сент-Экзюпери, маленькому рассказу которого «Человеческая улыбка» Эренбург предпослал недавно взволнованное предисловие, Эренбург с давних пор «полон миром». Со страниц его первых стихотворений встает представление о жизни, какой она, должна быть, — богатая заложенными природой в человеке чувствами любви, добра, красоты, жизнь в ее повседневных маленьких радостях — улыбка ребенка, растворенность в природе, где отдыхает, восхищаясь звуками, деревьями, цветами, душа человека:
...Как хорошо, как непонятно жить!
Я больше ни о чем на свете не тоскую.
Мне хочется в полях лишь до ночи бродить
И землю целовать, изрытую, большую...
Жизнь, неизменная и вечная, противопоставлялась писателем цивилизации, которая внесла в существование человека фальшь общественных условностей, бременем легла на цельность и естественность чувств человека.
За долгие сорок лет изменилось мировосприятие Эренбурга: дисгармонию между человеком и обществом писатель уже не пытается примирить апелляцией к «человечности» природы, да и сами вопросы гармонии природы и человека отошли куда-то вглубь, вытесненные более острыми общественными проблемами — революция, строительство социализма, война с фашизмом. Но и сегодня писатель защищает в простом человеке его высокое умение жить, не оскорбляя ни земли, ни человека, противопоставляя культуру чувств внешней шелухе цивилизации. Внимание к «маленьким радостям теплого летнего дня» оказалось исходным пунктом, откуда Эренбург ушел далеко в мир. И — в то же время — разве не оно в какой-то мере определило и отношение писателя к крупным общественным явлениям, внесло проникновенно-лирическую ноту в его проповедь мира?
Это соотнесение общественных явлений с мироощущением человека может служить незамысловатым, но, вероятно, точным объяснением и той своеобразной позиции защиты человека, которую занимает Эренбург, и тех заблуждений, истоки которых зачастую искали в непостоянной и переменчивой натуре писателя.
Внимание к живому и умение видеть мир в подробностях объясняют нам и «природу» обобщений Эренбурга. Они делают его картины одновременно очень широкими в своей масштабности и очень близкими в своей человечности, обобщенными до условности и конкретными в той верности душевных деталей, где Эренбург достигает предельного правдоподобия.
В сырую ночь ветра точили скалы. Испания, доспехи волоча,
На север шла. И до утра кричала Труба помешанного трубача.
Бойцы из боя выводили пушки. Крестьяне гнали одуревший скот.
А детвора несла свои игрушки, И был у куклы перекошен рот...
Достоверность и глубокий реализм произведений Эренбурга достигаются и тем, что эпический размах в изображении событий сочетается в его произведениях с подлинно художественным умением чувствовать краски жизни, ее запахи, смысл ее «мелочей».
Отталкивание от «детских» представлений, от элементарно простых вещей, зримых и теплых, известных каждому, делает человечески близкими общие вопросы эпохи, те острые проблемы, которые волнуют мир.
Дождь в Нагасаки бродит, разбужен, рассержен.
Куклу слепую девочка в ужасе держит.
Дождь этот лишний, деревья ему не рады,
Вишня в цвету, цветы уже начали падать.
Дождь этот с пеплом, в нем тихой смерти заправка.
Кукла ослепла ослепнет девочка завтра,
Будет отравой доска для детского гроба.
Будет приправой тоска и долгая злоба...
Метод писателя обнаруживается в клеточке отдельной фразы, в строении эпизода, в раме романа. В книге «Годы, люди, жизнь», которая напоминает лучшие статьи писателя, а читается как роман, Эренбург размышляет о войнах, о фашизме, о человечестве. Вспоминая о вторичном посещении в 1916 году французского городка в Шони, где немецкие солдаты перед отступлением подпилили фруктовые деревья, Эренбург рассказывает о своих впечатлениях 1944 года: «Осенью 1944 года в Глухове, накануне освобожденном нашей армией, я увидел фруктовый сад, а в нем аккуратно подпиленные яблони: листья еще зеленели, на ветках были плоды. И наши солдаты ругались, как французы в Шони».
Эренбург умеет видеть, как у «куклы перекошен рот», но органически не может остановиться на частной точке зрения; и тогда его героем становится Испания, которая «на север шла», или Париж, который «имеет свой характер», или Война, которая стоит над героями «Бури». Поэтому так естествен для Эренбурга вопрос: «Не требует ли именно реальность другого, более обобщенного подхода, где раскрыт не отдельный эпизод, а суть трагедии?»
Еще в 1916 году, рассматривая военные рисунки Леже, Эренбург отмечал, что нет в них «ничего личного, отдельного, как нет на войне Жана, Карла, немцев или французов, но все мы только человечество и человек».
То ли повлияло на писателя это потрясшее его в годы первой мировой войны и до сих пор с изумлением воспринимаемое ощущение общности человечества, то ли все сильнее убеждает его жизнь, что в наше время «история одного человека неизбежно становится историей многих людей, историей общества», — но то давно возникшее качество, о котором писал он когда-то — влечение к общему, — не случайно менее всего направлено на создание характеров-типов.
«Общим», «монументальным» оказалась жизнь общества как единого и целостного организма. Это большое целое Эренбург раскрывает через рассказ о множестве человеческих судеб, жизнь которых — различная, неповторимая — испытывает воздействие одних и тех же общественных потрясений, сдвигов, конфликтов.
Не потому ли и в искусстве Эренбургу близки те поэты и художники, которые особенно ярко выражают свою эпоху, ее смятение и страсти, ее беды и горечи, ее радости и печали?
И Боттичелли, и Модильяни, и Стендаль, и Чехов свободно входят в ряд героев Эренбурга; ему близка их человечность, их умение выйти за рамки своей эпохи.
Но если Модильяни создавал портреты людей, чьи «печаль и оцепенение», «затравленная нежность и обреченность» потрясают посетителей музеев до сих пор, то обобщения Эренбурга развертываются как будто в другой плоскости: его собственные произведения раскрывают не столько природу человека, сколько «природу века». Страсти и чувства в романах Эренбурга с известным правом тоже можно назвать «высокими», но их концентрация, их «преувеличенные» формы, их общечеловечность объясняются тем, что от чувства одного отдельного героя Эренбург поднимается до рассказа о мироощущении народа и человечества в критические, переломные моменты нашей эпохи. Не случайно писатель так любит говорить о характере народа; он восхищается мужеством и душевной щедростью русского народа, у него философствуют жители Индии, одарены «природным эстетическим восприятием» японцы, и Париж умеет грустно улыбаться. В этом умении французского народа «быть радостным в печали, печальным в радости», умении, которое «порой его окрыляет, порой подрезает ему крылья», писатель увидел один из источников поражения Франции в 1940 году.
В «Падении Парижа» — романе, как писал Фадеев, «о поражении Франции в войне с германским фашизмом, о причинах этого поражения» — внешний рисунок книги действительно составляют политические катаклизмы, министерские заговоры. Казалось бы, теперь Эренбург особенно озабочен политической расстановкой сил: ведь в романе так много говорят о политике, раскрыто так много, тайных политических пружин. Но, к счастью, Эренбург вправе сказать о себе то, что он адресовал Стендалю: «В людях, увлеченных политической борьбой, Стендаль находил человеческие страсти и тем спасал их от быстрой смерти». Именно поэтому в книгах Эренбурга о войне, в том числе и в «Падении Парижа», писателя волнует не столько ход событий — поражение Франции, — сколько психологический подтекст этого поражения. Как могло случиться, что мужественная и свободолюбивая Франция была так быстро и так бесславно покорена? Тревожные ноты звучат с первых же страниц романа. Не сомневаясь в доверии французов к Народному фронту, политические деятели — Тесса, Виар и другие — провоцируют, взрывают это доверие изнутри. В дни, когда бастуют рабочие, которым жизнь становится невмоготу, когда на стенах парижских улиц появляются фотографии изувеченных испанских детей, а в газетах пишут о неведомых французам Судетах, Поль Тесса «забавляет» добрый французский народ. «Довольно поднятых кулаков, красных флагов, бездушной политики! Да здравствуют веселье и торговля!» И по улицам Парижа карнавальные колесницы везут полураздетых девушек, замерзающих на холодном ветру. Спешите, туристы! «Франция — «оазис мира», — рекламируют они слова премьер-министра Тесса. И Эренбург показывает, как, попадая на почву благодушия и успокоенности, политика «мира любой ценой» давала свои плоды, и трупный яд предательства, стыдливо прикрытый разговорами о благоденствии Франции, отравлял кровь среднего француза. Психологическую подоплеку поражения писатель увидел в том, что «предательство, как ржавчина, разъело душу народа» и тем разоружило его.
Умение совместить большое и малое, позволяющее в напряженной форме «вскрыть вещь», придя в прозу Эренбурга из его поэзии, не кажется там случайным гостем. В «Падении Парижа» каждая человеческая судьба драматична по-своему. Оглушена неведением Жаннет, опустошен безверием и скепсисом Люсьен, сломлен предательством своей страны Пьер, кончает самоубийством, обманут сам собой промышленник Дессер, на всю жизнь сохранивший любовь к иллюзорной старой Франции... Их всех объединяет включенность в общее, они жертвы той политики, которая под маской умиротворения привела Францию к войне. Эренбург пытается уловить преломление большого социального и общечеловеческого конфликта в частных судьбах: но, «приземлившись» к ним, писатель опять «взмывает» к обобщениям, далеко превосходящим частные судьбы и вбирающим их в себя.
Непрестанное беспокойство заставляет писателя задумываться над смыслом жизни, над судьбой человека, общества, эпохи. Не в этом ли беспокойстве, не в этих ли «взлетах» к общему и «приземлениях» к подробностям скрыт тот привлекающий читателей чудесный сплав, который позволяет Эренбургу быть «писателем-мыслителем», стоящим всегда на передовой линии огня, и художников, чувствующим глубокий смысл простых слов — деревья, дети, счастье?
Между первым сборников стихов Эренбурга и книгой «Годы, люди, жизнь», которую мы сейчас читаем, пролегла долгая жизнь, заполненная работой над романами, рассказами, путевыми очерками и литературными портретами, публицистическими статьями и стихами, пролегла жизнь, которая все никак не вмещалась в русло спокойного, обычного существования, где работа над книгой прерывалась поездкой в Кузнецк, в сражающуюся Испанию или в леса под Ржевом или просто откладывалась в сторону, потому что Стокгольмское воззвание или конгресс мира во Вроцлаве казались важнее ненаписанной книги. И когда Эренбург уезжал в Польшу или Словакию, в Индию или Японию, он вновь убеждался, как многообразен мир, и изумленно открывал для себя и своих читателей ту огромную тягу к жизни мирной и простой, которая скрыта за внешней непохожестью, за маской разноликости.
Порой кажется непостижимым, как хватает сил и мужества этому немолодому уже писателю оставаться на передовой и сегодня, спустя 15 лет после того, как отгремели пушки. Но разве без этой общественной взволнованности Эренбург был бы так близок своему читателю? Вот уже десятки лет подряд над его книгами спорят люди: они не оставляют равнодушными. И отрадно, что в семьдесят лет Эренбург пишет все так же умно и страстно, так же проникновенно чувствует эпоху и своего читателя.
Л-ра: Октябрь. – 1961. – № 1. – С. 182-186.
Произведения
Критика