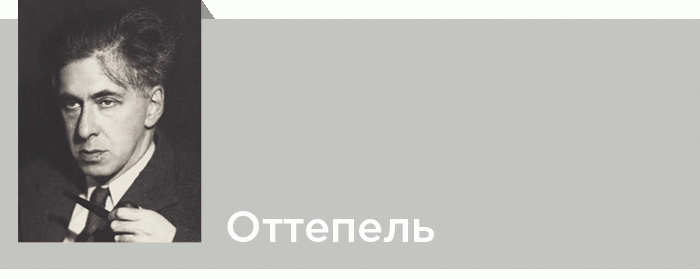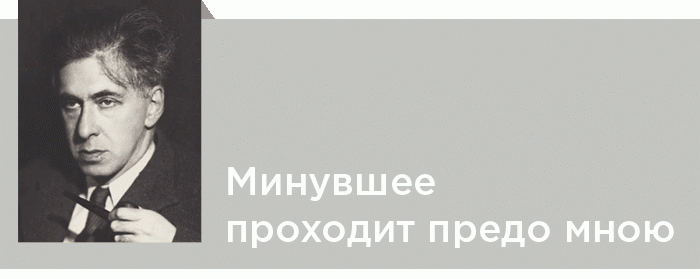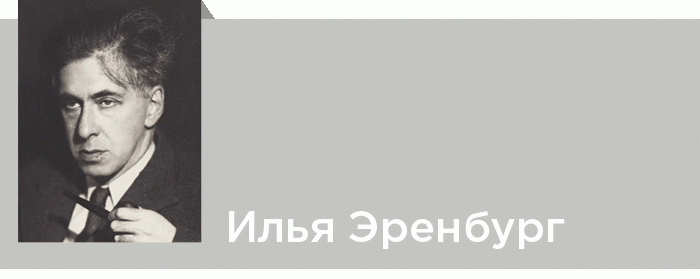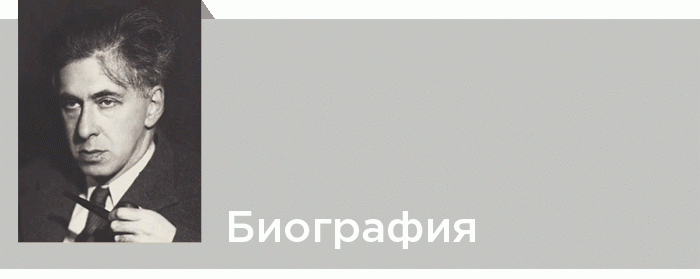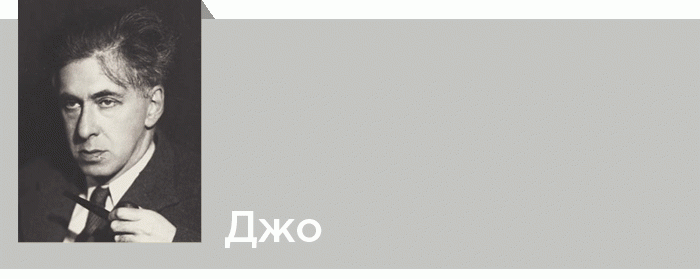Илья Эренбург. Искусство
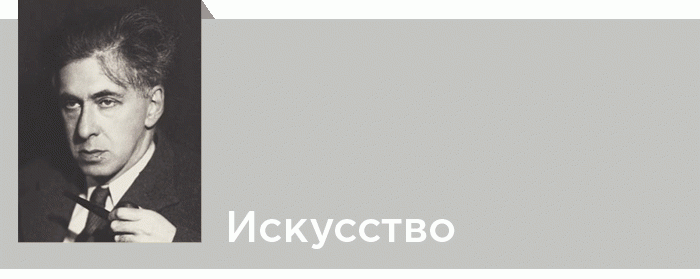
Что такое Франция? Может быть, это петухи на сельских колокольнях, или ярмарка, где кружатся голубые кони карусели, или деревянный кувшин, опоясанный медными кольцами, а в нем густое терпкое вино? А может быть, Франция это звонкие имена деревень — Ольнэ, Соланж, Монморильон и хохотушка Марго, которая в деревянных башмаках прошла по всей Лоррени?
Для Пьера Франция была длинным залом театра, где в тумане мерцали сотни глаз. Каждый вечер он пел:
Я хотел бы сказать про ласку,
Но нет в моем сердце слов,
Как зимой не найти ни красных,
Ни синих, ни белых цветов.
Зрители смеялись или плакали, аплодировали, свистели, целовались, ели апельсины, грызли китайские орешки и, упоенные, кричали: «Ах, шельма!»
Что приключилось в тот страшный год? Стоят, как вкопанные, кони карусели. Пустой кувшин растрескался, и говорят, что бедняжка Марго увяла в далеком Гамбурге. А театр открыт, только публика не та — немцы не плачут и не смеются, они сидят неподвижно, как понятые. Тучная брюнетка Жаклин по-прежнему поет о коварстве матроса, хотя нет больше ни матросов, ни тех девушек, которые, слушая песенку, простодушно сморкались. По-прежнему Фиже показывает тещу и подвыпившего сенатора. Только Пьера нет; его заменил марселей, Жюль; он поет про рыбака, который влюбился в сирену, а поймал осьминога. Немцы равнодушно слушают, потом громко встают и уходят.
Пьер иногда стоит возле театра, он глядит на синюю лампочку, на тень офицера. Пьер знает, что в зале сидят немцы. Он знает, что музы, нарисованные на занавесе, плачут. Он мог бы о многом рассказать, но с тех пор как пришли немцы, никто от него не слышал ни слова. Он глядит на окружающих кротко и отрешенно: их речи больше не доходят до него. «Беда», — говорит жена Пьера, тихая Мари; «Беда», — повторяют сердобольные соседки. А Пьер молчит.
Господин Корно возмущен поведением некоторых сограждан. Почему краснодеревцы с мебельной фабрики прикидываются чернорабочими? Почему учитель словесности стал могильщиком? Почему Леруа, вместо того чтобы сидеть на электростанции, торгует зажигалками? Слепцы, они хотят остановить колесницу истории! Кто срывает со стен приказы комендатуры? Кто поджег на запасном пути два вагона? Кто изувечил немецкого вестового? Да, может быть, тот же Леруа. Ведь неспроста он отказался от высокого оклада…
Как ни подозрителен господин Корно, ему не в чем упрекнуть Пьера: бедняга после пережитого оглох и лишился дара речи. Доктора говорят: «Поражение нервных центров». Послушать их — выходит, что от всех событий можно даже ослепнуть. А вот господин Корно не ослеп и не оглох; он поставляет немцам овощные консервы и купил дом на улице Гамбетта. Он говорит: «Нужно шагать в ногу с веком», — ему хочется прослыть философом; но какие-то озорники ночью пишут на его двери: «Шлюха».
Пьер копал картошку, мыл окна, мастерил из брошенных жестянок игрушки и сам продавал их на базаре: ничего не поделаешь — у него жена и сынишка. Давно проданы и буфет, и фрак Пьера, и бирюзовый браслет Мари.
Она не была злой, эта бледная, болезненная женщина, похожая на отражение весеннего дня в мутном зеркале, и она любила Пьера. Но порой у нее опускались руки. Нужно раздобыть Жако башмачки. Нужно достать картошки или брюквы. Нужно вставить стекла. Господи, до чего много нужно человеку! А жизнь цепляется, заедает и скрипит, невыносимо скрипит. И, не выдержав, Мари ночью шептала Пьеру: «Это глупо. Я понимаю, когда упираются генералы или Леруа. Но кто ты? Куплетист. Ты должен подумать обо мне. Я больше не могу».
Пьер гладил ее мягкие волосы и чувствовал, что даже эти волосы несчастны. Он задыхался в своем молчании. «Я хотел бы сказать про ласку, но нет в моем сердце слов». Только теперь он понял, о чем пел в дни счастья.
Событие, потрясшее город, произошло в ночь на воскресенье. Аптекарь и все жители квартала Сен-Флор проснулись от выстрелов. Утром на базаре только и говорили, что о покушении: убит шофер, а коменданта отвезли в госпиталь.
Около десяти часов утра полицейские начали обыскивать прохожих, проверяли документы. Пьера потащили в комендатуру. Его заперли с другими арестованными; были здесь и крестьяне из соседних сел, и ротозеи, и священник церкви Сен-Флор.
Смеркалось, когда Пьера повели на допрос. Он увидел немецкого офицера, рыжего и безбрового, с отвисшим затылком. Немец жевал окурок погасшей сигары. У окна сидел господин Корно. Взглянув на Пьера, он улыбнулся: «Перестарались! Вот вам, господин майор, забавный казус: этот человек был певцом, а после бомбежек оглох и лишился дара речи. Теперь он не может даже мычать». Немец захохотал; его затылок трясся, как малиновое желе. «Глухой — это еще ничего, и Бетховен был глуховат, но певец на положении рыбы — это действительно забавно». Он гаркнул: «Рихтер!» А господин Корно, продолжая беседу, сказал: «Я начал бы список с Леруа. Что касается Гижеля…» Вошел Рихтер, и Пьера выпроводили.
Следовало поспешить домой, успокоить Мари. Но Пьер побежал на окраину, где жил Леруа. Увидев инженера, он крикнул: «Бегите!» Леруа было некогда думать, почему глухонемой заговорил. Да и Гижель не стал расспрашивать Пьера, кто его вылечил.
Пьер вбежал в кафе «Кадран», где по вечерам собирались рабочие мебельной фабрики. Не глядя ни на кого, он крикнул: «Кто не поладил с этими господами, уходите!» Наступила тишина. Одиноко прозвучал голос хозяйки: «Господи, да ведь это глухонемой!..»
А Пьер уже спешил к Мари. Теперь он ей скажет все.
Он ничего не сказал: его задержали, когда, волнуясь, как перед первым свиданьем, он поднимался по винтовой лестнице. В комендатуре его долго, угрюмо били. Он молчал. Когда его привели к рыжему немцу, он не походил на себя. Его чистое светлое лицо, к которому так шла фрачная манишка, превратилось в сгусток крови. Немец сказал: «Вы плохой актер, вы не сумели доиграть до конца. Может быть, вы расскажете о покушении на улице Сен-Флор? Или вы еще намерены прикидываться глухонемым?»
Пьер улыбнулся. Так он улыбался, когда пел песенку о цветущей вишне. Нестерпимой была эта улыбка на изуродованном лице. Немец отвернулся. А Пьер сказал: «Нет, теперь я могу говорить. Я только не знаю, о чем вы меня спрашиваете? Я не был на улице Сен-Флор. Вы меня принимаете за героя, а я не герой, я маленький актер, я исполнял куплеты. Конечно, в Париже поют лучше, но, когда я пел, люди смеялись и плакали. Это были обыкновенные люди, и в те времена они были счастливы. Они работали, ревновали, ссорились, но все-таки они были счастливы. Они приходили вечером в театр, и вот я, маленький актер, я им пел о вишне, о любви, о счастье. Я только чувствовал, что у меня срывался голос. Сударь, это и есть искусство. Как я мог петь перед вами? На улице Сен-Флор были другие — лучше меня. Хорошо, что вы их не поймали. А меня вы можете убить, я ведь только актер…»
Его били всю ночь. Теперь он не молчал; но все, что он говорил, выводило из себя палачей: они думали, что он прикидывается. Он вспоминал то высокий вяз, то прядь волос на лбу Мари, то музу, которая выплакала свои мраморные глаза.
Когда его повели на казнь, он зажмурился и громко запел:
Я хотел бы сказать про ласку…
А кругом цвели цветы Франции — маки, ромашки, васильки.
Произведения
Критика