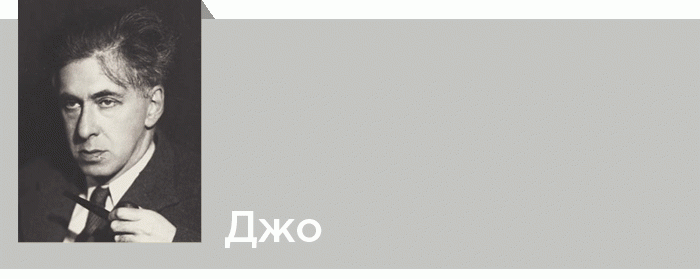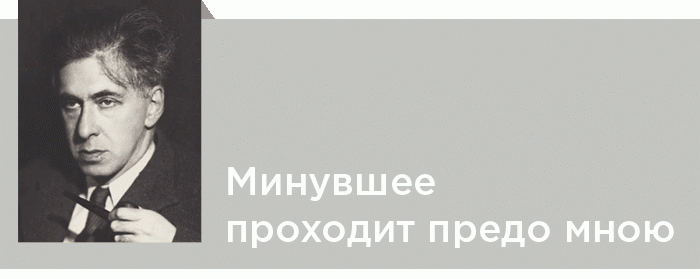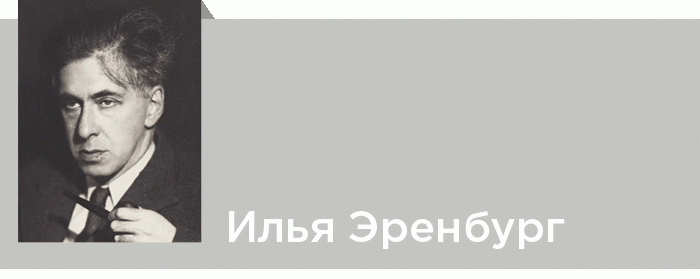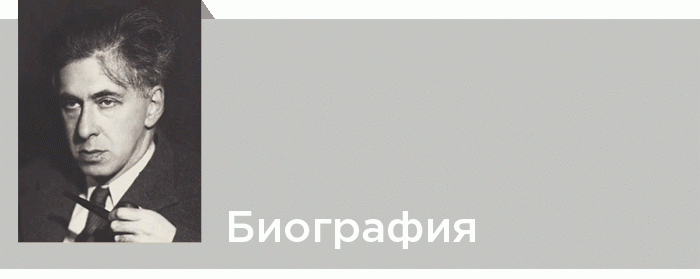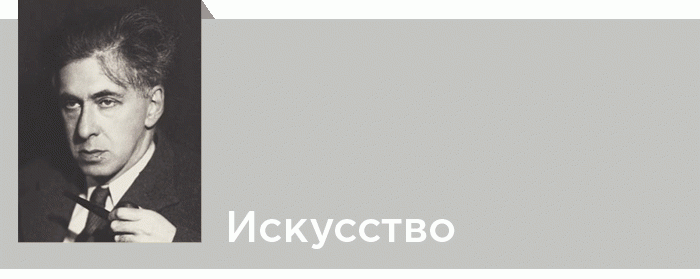Оттепель (К истории создания одноименной повести И. Эренбурга)
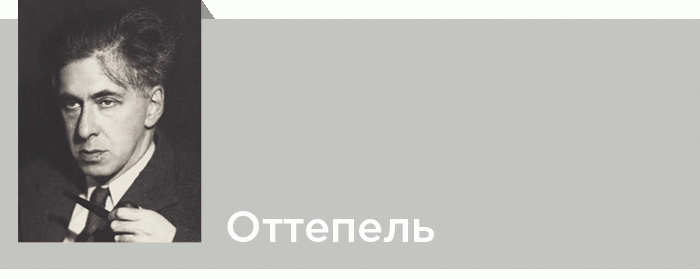
Рубашкин А.
Бывают в истории литературы произведения, оставившие след в общественном сознании прежде всего благодаря своевременности их выхода в свет. После них могут выйти книги художественно более значимые, но они так не запомнятся. «Оттепель» Эренбурга определила поворот нашей жизни, само понятие «послесталинской оттепели» пошло от этой повести. Название стало нарицательным.
В повести ничего не сказано о мартовских днях 1963-го, когда мы скорбели, прощаясь с прошлым. Имя Сталина вообще не упомянуто — все это уже после него, в другую эпоху. В «Оттепели» атмосфера осени 1953 — зимы 1954 года, рассказ о том, что испытывал автор и его герои в переломную пору нашего существования... Еще прочно стояли памятники Сталину, еще отмечалось в печати его семидесятипятилетие, но что-то уже уходило. И повесть воспринималась антикультовской еще до официального осуждения того, что названо было потом «культом личности».
В чем же эта антикультовость? В подходе к человеку. Годами утверждалось, что человек — винтик в огромном государственном механизме. А тут устами своего героя, старого большевика Андрея Ивановича Пухова автор провозглашал: «Общество состоит из живых людей, арифметикой ты ничего не решишь. Мало выработать разумные меры, нужно уметь их выполнить, а за это отвечает каждый человек. Нельзя все сводить к протоколу „слушали — постановили"».
Непросто идут к своему счастью герои — им трудно разобраться в чувствах. Лена тянется к Коротееву и терзается: как уйти от Журавлева, все-таки у них дочь, да и сама выбирала. Доктор Шерер в свои годы не хочет поверить в возможность счастья с Соколовским. Соня Пухова мучается сама и мучает своего избранника, сделала равными с другими, когда «в знойный август он шагал но степи с отступающей дивизией». На войне он потерял свою любовь, до войны была подорвана вера. Можно ли подсчитать, чего больше — плохого или хорошего было в жизни Коротеева?
В повести Эренбурга нет широкого полотна жизни, но его герои знали то, что знал он. У каждого были проблемы не только личного порядка. Неуживчивый Соколовский в то же время молчун, он кажется людям странным, но многое проясняется из тех деталей его биографии, которые даны в повести. Старый большевик, участник гражданской войны, талантливый инженер, он охвачен страхом, что ему напомнят о взрослой дочери, живущей за границей. «Неужели самое важное — это анкета?» — думает он. Соколовский уже пострадал из-за анкеты, его прогнали с уральского завода, в газете появился фельетон о нем. И вот снова та же угроза, теперь Журавлев готов напомнить ему о бельгийском родстве. Узнав об этом, Соколовский тяжело заболевает...
Может быть, Эренбург «нагнетает» горькие судьбы? Но ему-то известно, что поколение Соколовского хлебнуло куда больше, чем этот герой. Его сверстники не только фельетоны о себе читали, но и расставались с жизнями в сталинских казематах, как друг писателя большевик Семен Членов, как товарищ по Испании большевик Михаил Кольцов.
Писатель знал, что драматизм минувших лет был большим, чем он мог об этом сказать, знал, что и Симонов не оставался в неведении. Уже были написаны (тогда потаенные) стихи Ольги Берггольц — «Нет, не из книжек наших скудных...» Эренбург читал их. И об ахматовском «Реквиеме» ему было известно от самого автора. Так что Эренбург был искренен, когда писал: «Я не стал бы оспаривать суждения К. Симонова, если бы они ограничивались оценкой художественных достоинств или недостатков моей повести». Речь шла о другом. О характеристике времени, о том, какими красками нарисована наша жизнь.
Тут самая пора обратиться к 1954 году. Уже задули теплые ветры, но сколько было еще наледей, теневых сторон. При активном участии того же Симонова еще раз «проработали» Зощенко. Резкой критике подверглись статьи Михаила Лившица, Владимира Померанцева, Федора Абрамова, опубликованные в «Новом мире». Все они попали в «очернители». В результате этой критики был первый раз снят со своего поста редактор журнала Александр Твардовский. Вместо него назначили... Симонова. Так что в своих переживаниях Эренбург был не одинок. Год спустя. критика обрушилась на Павла Нилина — он написал повесть «Жестокость», говорил о том, как время испытывало человека на разрыв, утверждал, что нельзя добиться высоких целей безнравственными методами...
Что же до Эренбурга, то его «Оттепель» еще долго была на «черной доске». Не нравились герои, не нравилось, как говорит писатель об искусстве. Симонов уделил этому в своей статье большую ее половину, утверждая, что автор дает «неверную оценку нашего искусства и пропагандирует неверные взгляды на пути его развития».
Между тем, в своей небольшой повести Эренбург и не думал представить «картину состояния искусства». В ней наряду с другими персонажами действуют два художника-антагониста — Пухов и Сабуров, есть отдельные высказывания о книгах, спектаклях. Видно, что на многое автор смотрит критически. И дело не только в искусстве. «Она (Таня. — А. Р.) играла в советской пьесе лаборантку, которая разоблачает профессора, повинного в низкопоклонстве». Вряд ли может быть хороша пьеса с таким конфликтом, потому важнее сама ситуация, при которой такие конфликты возможны. И самому Эренбургу приходилось слышать эти упреки в «низкопоклонстве».
Пожалуй, более всего говорится в повести о живописи. О ней размышляет циничный и уже предавший искусство художник Пухов. За эти размышления больше всего критиковали автора: он, дескать, не обличает Пухова, делает его чуть ли не жертвой обстоятельств. Попутно же критики, и прежде всего Симонов, утверждали, что Эренбург должен был показать широкую палитру искусства, его достижения. «Автор повести почел за благо зажмуриться и увидеть сквозь щелку только Пуховых, Сабуровых Танечек».
В архиве Эренбурга есть письмо к нему режиссера Григория Лозинцева: «Даже самые лихие критики не упрекали Островского в том, что в „Лесе“ он исказил все состояние русского театрального искусства, в котором были тогда и Щепкин, и Мартынов; и Садовский... И самое бойкое казенное перо не рискнуло бы задать вопрос Островскому — к кому он себя причисляет, к Несчастливцеву или к Аркашке, а ведь других деятелей театра в пьесе не было».
Пухов и Сабуров — разные полюса искусства. Первый чужд Эренбургу, видящему в нем приспособленца, халтурщика, второму автор глубоко сочувствует. Разумеется, существуют и деятели искусства другого плана, но писатель говорит о том, что его волнует, фокусирует внимание на этих явлениях. Симонов «угадал» в повести некоторых влиятельных и высокопоставленных приспособленцев, куда более заметных и потому вредных, таких как художник Александр Герасимов. Что же касается другого полюса, то на нем можно было тогда изредка увидеть прежде всего Фалька, замечательного пейзажиста, которого не признавали и «били рублем», обвиняя, конечно же, в формализме.
Желание тогдашней критики, чтобы Эренбург хотя бы «намекнул», что этими полюсами все не ограничивается, весьма странно, писатель говорит о реальных явлениях художественной жизни, не претендуя на их обзор. Иначе он мог бы на многое «намекнуть»: а то, например, как обходились в сороковые годы с его любимыми композиторами — Прокофьевым и Шостаковичем (одна из симфоний последнего упоминается в «Оттепели»), как закрыли театр и тем укоротили жизнь замечательного режиссера. Он мог бы напомнить и о судьбе Ахматовой и Зощенко.
Не обеляя Пуховых, Эренбург подчеркивает, что в обществе есть условия для их возникновения, что в нашем искусстве много ненужных регламентаций и сложившихся стереотипов. Тот же Симонов «согласен» — пусть в повести появится Пухов, но автор должен определеннее его разоблачать. Как будто мало саморазоблачается герой. «Конечно, я халтурщик, но в общем все более или менее халтурят, только некоторые этого не хотят понять». Действительно ли так думает Володя Пухов? Скорее успокаивает себя. Это «все» снимает ответственность, так легче жить. «Ведь все лавируют, хитрят, врут, одни умнее, другие глупее», — повторяет про себя Пухов. Снова эти «все». Но все ли художники пишут картины под одиозным названием «Пир в колхозе»? Все ли согласны нарисовать портрет Журавлева, сознавая, что у него «лицо как грязная вата между двумя рамами»? Все ли пишут такие романы и такую музыку? Из повести видно — не все. Есть Сабуров, который не станет ссылаться на эпоху («Теперь все кричат об искусстве и никто его не любит», — оправдывается перед собой Пухов), есть писатели, о которых героям повести хочется спорить. Коротеев прямо повторяет эренбурговскую оценку романа Василия Гроссмана «За правое дело»: «Войну он показал честно, так действительно было...»
Не все лавируют, не все и молчат, видя безобразия. Не молчит старший Пухов, набрасывается — и на директора завода, и на газетчиков — Соколовский («описали завод, как будто это райские кущи»). У Володи Пухова остается утешение, рожденное уже уходящим временем: «Я ни на кого не капал, никого не топил». То, что он предал себя, искусство, — вроде бы не в счет.
Критикам показался неожиданным и неоправданно приподнятым образ Сабурова. Не видели, насколько автор полемичен в изображении именно такого художника, чьи картины не покупают и не выставляют. Время вроде бы не оставило ему места в искусстве. Существовало упрощенное, прагматическое представление о задачах живописи, поддерживалось монументальное, масштабное. Все прочее шло по рубрике «формализма». И уже грезилось, что Эренбург зовет все наше искусство «встать на путь Сабурова, на путь замкнутости, отрыва от жизни». Конечно, писатель иронизировал, рассказывая об очередной халтуре Пухова — панно для сельхозвыставки с изображением коров и кур. Тут никто не усмотрел бы «отрыв от жизни», а вот портрет жены художника Сабурова, его пейзажи — это что-то не «магистральное», устаревшее, как и рассуждения о Рафаэле, о чувстве цвета, о композиции.
Эренбург утверждал в своих возражениях критикам, что повесть его не посвящена искусству. Но он надеялся на обновление общества, всей атмосферы жизни. То, что в наши дни стало закономерностью жизни, в 1954-м было откровением. Герои говорят о том, с чем они не хотят мириться. Сабуров — о фотографиях, подменяющих картины, инженер Савченко — о двоедушия, поселившемся в людях. «Вы наверное давно не бывали на таких обсуждениях, а многое изменилось... Книга задела больное место — люди слишком часто говорят одно, а в личной жизни поступают иначе». Соколовский не может найти слова, чтобы объясниться с Верой Григорьевной, он не робкий мальчик и свое состояние выражает, ощущая всю тяжесть пережитого: «Кажется, что наши сердца промерзли насквозь».
В «Оттепели» много горечи, это трудная повесть, и потому у нее оказалась трудная судьба. Эренбург спешил встретиться с читателем, и следы этой спешки видны. Но он хотел помочь своим современникам сделать необратимыми начавшиеся — и в жизни и в искусстве — процессы. Потому и не мог принять рецепт своего отнюдь не любимого героя Журавлева: «поменьше смотреть на теневые стороны, тогда и сторон будет поменьше».
Многое с тех пор изменилось. Мы прямо говорим и об эпохе оттепели и о поре застоя. И многие художники пришли к нам из запасников, произведения, которых «не было», — теперь есть. То, что Эренбург поддерживал в искусстве, — заняло в нем достойное место: и Фальк, и Кандинский, и Малевич, и Леже. И заметьте, это я называю словом, означавшим наступление лучшего времени. И слово ставлю без кавычек — Оттепель.
Л-ра: Аврора. – 1991. – № 1. – С. 120-126.
Произведения
Критика