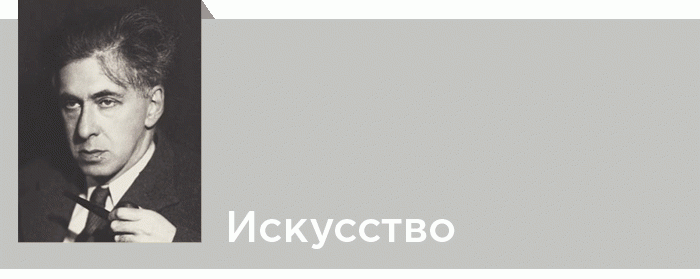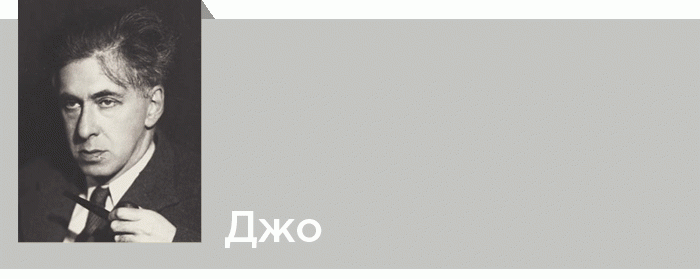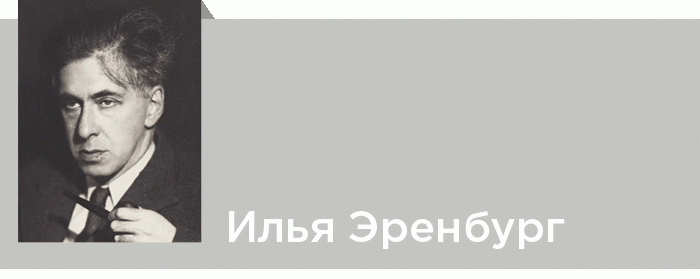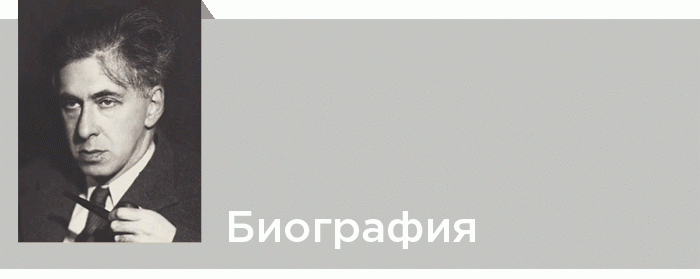«Минувшее проходит предо мною...»
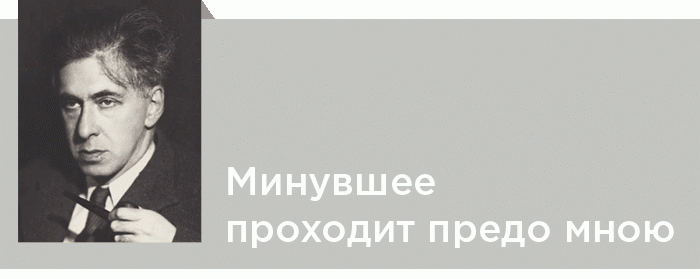
А. Рубашкин
«Эту книгу Вы не могли не написать, и если бы не написали, то поступили бы плохо. Вот что главное и решающее».
А. Твардовский
В 1959 году Эренбург начал работу над книгой, которая оказалась последней. Первоначально он называл ее «Годы, люди, жизнь», затем «люди» вышли на первый план — и в повествовании, и в заглавии. Появление этих писательских воспоминаний предопределено и возрастом автора — на пороге семидесятилетия он говорил, что дальше откладывать нельзя, и общественной атмосферой тех лет.
Почти одновременно появились мемуарные, автобиографические произведения многих видных писателей: «Дневные звезды» О. Берггольц, «Повесть о жизни К. Паустовского и т. п. Толчком были те же причины, но, понятно, книги получились непохожие. Вряд ли есть смысл сталкивать, противопоставлять произведения, написанные в разном ключе, с разной авторской задачей. Книгу Эренбурга называли «мемуарной эпопеей». Эту эпопею создал писатель-публицист, который в течение десятилетий был в центре важных политических событий, видел страны ближние и дальние, дружил или встречался со многими выдающимися людьми нашего века. Трудно даже представить себе, сколь щедра была судьба на знакомства Эренбурга с замечательными современниками. Политические деятели и писатели, профессиональные военные и профессиональные революционеры, художники, дипломаты, режиссеры... Европейцы и американцы, индусы и японцы, те, кто был знаменит в первой четверти века и во второй его половине. Ленин и Эйнштейн, Ибаррури и де Голль, Маяковский и Пикассо, Хемингуэй и Мейерхольд, Луначарский и Диего Ривера...
Уже в самом названии читатели увидели, что для автора было главным. Литератор Е.Г. Лундберг, знавший писателя еще в берлинские годы (1922—1923), в частности, заметил, что «от «исповеди» мы ожидаем большей целеустремленности, покаянности, чем от «записок», «признаний» или «опытов» монтеньевского стиля. Да и в первых... строках своей книги Вы еще раз подтверждаете первоочередность «людей и лет», которые оттесняют на второй план исповедь...»
Воспоминания — жанр достаточно сложный. От него требуют объективности, историзма, забывая, что автор может встать над событиями, что он один из героев (роль его бывает различной) происходящих событий. Согласимся с М. Шагинян, она знала, о чем пишет: «Нет в ми и абсолютно быть не может таких «воспоминаний» которые писались бы «исторически». Дело в том, что в них стержнем (или осью) сидит живое человеческое «я».
Когда Эренбург писал, что в год его рождения Гитлеру было два года, иные из его критиков недоумевали: «При чем тут Гитлер?» Им будто невдомек, как столкнется в будущем автор этих мемуаров с Гитлером, фашизмом, как он станет одним из злейших врагов третьего рейха.
Автор не пишет историю поэзии, он говорит о многих поэтах, которые вошли в его жизнь. Он не дает трактата об искусстве, но тех художников, которых знал, любил, представляет читателю. Это не очерк живописи нескольких десятилетий, но важная часть его. То же можно сказать о литературе, об искусстве в целом. Тут нет полноты, как нет и случайных имен.
Неравнодушным взглядом окидывая огромный период времени, Эренбург создает подробные портреты и беглые зарисовки, он не проводит своих героев через всю культуру, но они не уходят вовсе — мы помним их творчество и живые черты.
Эренбург волнуется, переживает, спорит, отстаивает то, что дорого ему в жизни и в искусстве. Конечно, в его повествование входят порой и факты известные, но они всюду личностно окрашены.
В издательской аннотации первых двух книг «Люди, годы, жизнь» определялись не только как мемуары, и как «сегодняшняя, современная книга». Издательство подчеркивало, что автор «смотрит на прошлое глазами нашего современника», что «внутренний стержень повествования — это стремление через прошлое понять настоящее».
Так поддерживался пафос мемуарной книги. Два года спустя в издательском предисловии к третьей и четвертой книгам, да и в критике появились иные оценки.
И главным упреком Эренбургу стал «субъективизм» его воспоминаний. К этой особенности всяких воспоминаний мы еще вернемся. Пока же остановимся на том, как показаны в этой книге писателя люди, как переданы в портретах-воспоминаниях их неповторимые черты. Заметим сразу: помимо пристрастия, личного отношения к тому или иному герою здесь почти всегда видно полемическое начало. Порой автор спорит с привычным мнением, порой учитывает сложность судьбы. Одно дело писать об Алексее Толстом, Рафаэле Альберти, Всеволоде Вишневском, чьи жизни были у всех на виду, а репутации весьма устойчивыми, другое — о Вс. Мейерхольде, Марине Цветаевой и даже Пабло Пикассо. Это сейчас, после Эренбурга, во многом благодаря ему отдано должное этим (и многим другим) большим художникам нашего века. Важны и побудительные мотивы писателя-мемуариста, то, как он пишет о близких ему людях. Разумеется, я приведу лишь некоторые примеры.
Сохранились фотографии Марины Цветаевой, есть и воспоминания о ней. Но вряд ли биографы и исследователи её творчества пройдут мимо портрета, просто портрета, созданного Эренбургом. Вот она, двадцатипятилетняя, какой встретил её впервые Эренбург: «В ней поражало сочетание надменности и растерянности. Осанка была горделивой — голова, откинутая назад, с очень высоким лбом, а растерянность выдавали глаза: большие, беспомощные, как будто невидящие — Марина страдала близорукостью. Волосы были коротко пострижены в скобку. Она казалась не то барышней-недотрогой, не то деревенским пареньком». Свидетельство очевидца, свидетельство художника о художнике — таков этот портрет. И нет в книге двух портретов похожих. Иногда напрасно искать внешнюю характеристику, порой появляются диалоги, какие-то штрихи, зарисовка. За многими портретами — годы знакомства, дружбы, отталкиваний. Эренбург встречался с Цветаевой в Москве и за границей, писал о её поэзии еще в двадцатые годы, говорил о ней в дни войны, наконец, боролся за ее возвращение нашему читателю. И все это проявилось в воспоминаниях.
Одним героям посвящены отдельные главки, иные упомянуты в абзаце или фразе. Некоторые, например В. Вишневский, появляются на разных страницах. Эренбург хорошо знал Вишневского. Редактор «Знамени» публиковал в своем журнале почти все произведения Эренбурга тридцатых - начала сороковых годов: и повести, и стихи, и романы. В предвоенных записных книжках Эренбурга неоднократно упоминается имя Вишневского, указан номер его телефона. Их не однажды видели гуляющими возле дома в Лаврушинском переулке, где они жили до войны. Писатели переписывались, и одно такое письмо-рецензия на испанские стихи, посланное Вишневским в Париж, удивило и обрадовало Эренбурга. Он вспоминает о своей встрече с Вишневским в Мадриде: вместе с ним и В. Ставским ездили на передний край. Как видно по дневникам одного писателя и записной книжке другого, они оба чувствовали дыхание приближающейся войны... Многое связывало. И все же отдельной главки о Вишневском в мемуарах нет. Можно лишь догадываться об отсутствии внутренней близости между двумя писателями, скажем, по сетованиям Вишневского на «замкнутость» Эренбурга. Но ни один из друзей писателя не заметил в нем этой черты.
Эренбург передал импульсивность, эмоциональность Вишневского («рассердившись на меня, он выхватил револьвер»), написал о смелости, проявленной им в Испании и при публикации в начале сорок первого первых частей «Падения Парижа». Но о многом Эренбург не сказал. Сказали другие. И эти свидетельства вместе с воспоминаниями Эренбурга воссоздают портрет Вишневского, который, по мнению мемуариста, «говорил лучше, чем писал». Тут можно увидеть восхищение блестящим оратором (им Вишневский действительно был), а можно — не слишком лестную оценку его литературной работы. С этим, наверное, не каждый согласится. Но таково мнение Эренбурга.
Над моим письменным столом цветная открытка — портрет Эренбурга работы Сарьяна. Рядом рисунок пером — легко узнаваемая рука Пикассо. Тоже Эренбург. У Сарьяна он постарше, но и в том и в другом случае писателю далеко за пятьдесят. Оба художника рисовали с натуры, оба давно знали Эренбурга. Но их портреты не только различны по манере исполнения (что понятно), на них два непохожих человека. И тот и другой художник передали внутренний мир писателя, свое отношение к нему.
Сарьян и Пикассо не вспоминали натуру, они видели её. Портреты, которые писал Эренбург, сделаны по памяти. И эта память (вот что сближает манеру работы разных художников) стремилась не столько передать какие-то бытовые подробности, частности, сколько раскрыть существенные черты близкого человека. Сеанс Пикассо длился недолго, но он знал Эренбурга десятилетия. И Эренбург, вспоминая Пикассо, видел перед собой не одну встречу, а всю жизнь великого художника и борьбу за него. В итоге появилось неожиданное, афористически-точное сопоставление, какого никто, кроме Эренбурга, не смог бы дать: «Я давно его прозвал шутя чертом... Если он черт, то особенный — поспоривший с богом насчет мироздания, восставший и не уступивший. Черт обычно не только лукав, но злобен, а Пикассо — добрый черт».
Конечно, такое «вспомнить» трудно, нужно так почувствовать крупный характер (спор с богом!) близкого тебе человека. Выразительность Эренбурга сопоставима здесь с горьковской в его портрете Л.Н. Толстого, чьи отношения с богом напоминали Горькому отношения «двух медведей в одной берлоге». Прав был Л. Борисов, так увидевший задачу Эренбурга-портретиста: «Тогда факт был только для Эренбурга. Сегодня он для читателя его, а своего читателя писатель намерен впечатлить так же, как некий факт впечатлил и его, Эренбурга». («Вопросы литературы», 1962, № 4). Разумеется, это относится не только к созданию портретов, к самому принципу писательской работы над воспоминаниями. Я не говорю тут о невольных ошибках памяти. Память могла изменить Эренбургу в какой-то детали, но не в главном.
Характер портретов зависит от степени близости с тем или иным из героев. С Эйнштейном Эренбург виделся и разговаривал однажды, проведя у него в гостях несколько часов. А. Толстого знал почти 35 лет — дружил, вместе написал пьесу, «часто встречался с ним в трудное время, когда мало было одного сознания, требовались любовь и вера». Он не мог написать о каждой из встреч, отделить в своем сознании А. Толстого разных лет, он передал главные свои ощущения. Перед читателем как бы одновременно предстает мечтательная натура молодого поэта — с мягким, задумчивым лицом, волнистыми нежными волосами, рассеянными движениями, и — много лет спустя — он же, пополневший, полысевший, и, наконец, научившийся «одни свои черты скрывать, а другие нарочито подчеркивать».
Конечно, Толстой менялся — и внешне и внутренне, это была натура сложная. Эренбургу мало показать жизнелюбие друга-писателя, широту натуры, размах — как он смеется, ест, говорит. Эренбург сказал об особенностях дарования Алексея Николаевича, и тем как-то огорчил его друзей, которые напрасно обиделись за Толстого. «Есть писатели-мыслители; Алексей Николаевич был писателем-художником. Очень часто человеку мучительно хочется сделать именно то, что ему не свойственно. Я помню, как Алексей Николаевич в молодости сидел над книгой — хотел, даря ее, надписать афоризм; ничего у него не выходило. Он необычайно точно передавал то, что хотел в образах, в повествовании, в картинах, а думать отвлеченно не мог: попытки вставить в рассказ или повесть нечто общее, декларативное заканчивались неудачей».
Вряд ли Эренбург такой оценкой своеобразия таланта Толстого как-то принизил его. Автор мемуаров лишь подчеркивал основное в художественном таланте автора «Детства Никиты» и «Петра Первого». Именно эти книги выделял Эренбург среди других. Таково его читательское пристрастие и право. Таков Толстой, которого он знал и с которым дружил.
Критика почти единодушно признавала художественный характер эренбурговских мемуаров, отмечая живость изложения, своеобразие стиля, меткость портретных характеристик. При этом уходила иногда важнейшая особенность воспоминаний подобного рода, сам принцип подхода к материалу. Охотно повторяли слова Эренбурга о «крайнем субъективизме» его работы, даже не пытаясь понять, что за этим стоит. И если поначалу мемуары писателя являлись предметом спора, то чуть позже (в 1963 году), когда в нашей общественной жизни возобладали волюнтаристские тенденции, критика стала походить на осуждение. Один из критиков, П. Выходцев, прямо утверждал, что «действительность была иной, чем ее рисует И. Эренбург», иными были и люди, которых знал и любил писатель.
Больше всего не понравилось критику отношение Эренбурга к творчеству Бабеля. П. Выходцев возвращает читателя к давнему, конца двадцатых годов, спору вокруг «Конармии»: «Одни (в том числе и М. Горький), покоренные наблюдательностью И. Бабеля, его ярким талантом бытописателя, умением находить точные яркие детали, более снисходительны к существенным недостаткам его творчества. Другие предъявляют к автору суровые требования. В замечании Буденного о том, что Бабель в своей «Конармии» исказил образы бойцов Первой Конной, следует видеть не уязвленное самолюбие командующего, а законный упрек в нарушении писателем большой жизненной правды».
Критик пишет, что мемуарист должен стремиться «к возможно более полному и правдивому освещению явлений». А сам критик? Читая его, можно понять, что М. Горький всего лишь «снисходителен к существенным недостаткам Бабеля». М. Буденный упрекал писателя «в нарушении большой жизненной правды». Наконец, И. Эренбург ошибся, называя Бабеля «реалистом в полном и глубоком смысле этого слова».
П. Выходцев в своем неприятии творчества Бабеля спорит не столько с Эренбургом, сколько с Горьким. Спор всегда возможен, важно, как он ведется. Посмотрим, насколько точен критик, излагая отношение к Бабелю Горького и Буденного. В таком изложении изменена последовательность двух высказываний, не видно, что Горький отвечал Буденному, взял Бабеля под защиту: «Товарищ Буденный охаял «Конармию» Бабеля, — мне кажется, что это сделано напрасно: сам товарищ Буденный любит извне украшать не только своих бойцов, но и лошадей. Бабель украсил бойцов его изнутри и, на мой взгляд, лучше, правдивее, чем Гоголь запорожцев». Можно ли представлять подобную оценку как «снисходительность к существенным недостаткам»? А ведь Горький еще сказал, что Буденный судит книгу Бабеля с высоты коня. Сам же судил с высоты иной — подлинного искусства. И в этом смысле, не повторяя Горького, по-своему, но в чем-то близко к нему оценил «Конармию» Эренбург, сказав, что «в ней, несмотря на ужасы войны, на свирепый климат тех лет, — вера в революцию и вера в человека».
Может быть, в учебники по истории советской литературы, которые пишут профессор П. Выходцев и его коллеги, стоит в главу о Бабеле (если такая глава будет) ввести и горьковские слова, и сделанные с оглядкой на них высказывания Эренбурга: «Бабель, однако, не «украсил» героев «Конармии», он раскрыл их внутренний мир. Он оставил в стороне не только будни армии, но и многие поступки, доводившие его в свое время до отчаяния; он как бы осветил прожектором один час, одну минуту, когда человек раскрывается. Именно поэтому я всегда считал Исаака Эммануиловича поэтом».
Эренбург не узнал, что за минувшие десятилетия в статьях, исследованиях, монографиях не однажды приводились ссылки не только на «воспоминательные страницы», но и отточенные формулировки, характеризующие творчество героев его книги — Цветаевой, Кольцова, Шагала. В работе «Мировое значение творчества Достоевского» Г. Фридлендер приводит слова Эренбурга об австрийском писателе И. Роте, о том, что его «Марш Радецкого» — «один из лучших романов, написанных между двумя войнами». Исследователь И. Рота мог бы привести эренбурговское сравнение этого романа с полотнами импрессионистов: «в романе Рота много света и воздуха». Нет возможности длить примеры. Важно другое: эренбурговские портреты живут в нашей памяти, благодаря им читатели, зрители вновь обращаются к романам, стихам, поэмам, картинам художников, которых ценил Эренбург. Это была одна из его задач.
Читателям мемуаров, да и критикам стоит вспомнить, что такой подход к своим героям был присущ Эренбургу давно. Так создавались наброски портретов в его давнем очерке «Среди кустов» (1918), так же писал он очерки, составившие книгу «Портреты русских поэтов» (1922). В тогдашнем отзыве на книгу угадано многое в самом принципе изображения: «С иным можно не соглашаться, об ином можно спорить, как можно спорить о «героях» литературных произведений... но с гораздо большим приходится соглашаться, и многие образы встают как живые после прочтения этих характеристик» (О., «Новая русская книга», 1922, № 4, с. 14).
Слова «портрет века» не однажды возникали в статьях, посвященных книге «Люди, годы, жизнь». Наиболее проницательные критики спешили не столько оспорить те или иные представления Эренбурга о своих героях и самом времени, сколько понять своеобразие писательской работы. Всем ясно, что время отражается в произведениях писателя, что «Хулио Хуренито», «Рвач», «День второй», «Падение Парижа», «Буря» и другие книги Эренбурга — каждая в отдельности и все вместе — дали картину важных событий как в нашей стране, так и в мире. И вот — воспоминания. Что это — писательский комментарий к прежде написанному, оправдание своего пути, наконец, добавление к тому, что не успел сказать прежде? Главное не это, хотя можно тут найти и комментарий, и материал для биографии Эренбурга. И все же перед нами не биография и не комментарий. Это почувствовали авторы первых же откликов на еще далеко не законченную книгу. Молодой в ту пору прозаик Г. Горышин в статье «Путешествие в жизнь» заметил: «...ни разу не приходит в голову мысль, что это мемуары, воспоминания. Эту книгу было бы справедливо назвать повестью об искусстве. Только такое определение неполно. Это — повесть о жизни. Искусство и жизнь неразделимы для Эренбурга. Конечно, кое о каких взглядах и оценках автора можно спорить, но читателя покоряет любовь писателя к искусству».
В отличие от профессиональных критиков прозаик, уже по первым частям, увидел в книге «больше, чем воспоминания». Он понял: память художника особая. Отсюда это слово — «повесть», вовсе не случайное, как не случайно спустя три года в статье критика М. Кузнецова появится другое — «роман». «И все же это не только и даже не столько мемуары. Это весьма своеобразное художественное произведение, основной стержень которого — размышление о прошлом и настоящем, раздумья над историей для понимания сущности человека завтрашнего дня. Это мемуарный роман нового, современного типа».
О событиях современной истории написаны тома и тома. Ни один автор не возьмется заменить их, не думал об этом и Эренбург. Критики сразу поняли, что в «Людях, годах, жизни» запечатлен портрет века, увиденный художником, что это вей прожитый, пропущенный через себя. Судить о веке лишь на основании этого свидетельства нельзя. Но и без него суждение будет неполным. Эренбурга пытались поправить, дополнить, говорили, что картина искажена. Но это его картина. Он не мог написать иную. «Все знают, насколько разноречивы рассказы очевидцев о том или ином событии. В конечном счете, как бы ни были достоверны свидетели, в большинстве случаев судьи должны положиться на собственную прозорливость».
Эти слова написаны на первых же страницах повествования Эренбурга, в них не столько защита от возможной критики, сколько понимание своей писательской задачи: рассказать — как увидел, запомнил, понял. «Я не беспристрастный летописец, и это будут только попытки портретов», — повторял автор. Конечно, можно писать по источникам, документам — и такие произведения пишут, — но это другие произведения. Вряд ли Эренбург был против исторической науки, вряд ли не знал, что существуют ученые труды, скажем, о революции 1848 года во Франции. Но ему интересны живые свидетельства художников «Политическая буря, разразившаяся в Париже 15 мая 1848 года, описана Гюго, Герценом и Тургеневым; когда я читаю их записки, мне кажется, что речь идет о различных событиях».
Будь иначе — разные свидетельства были бы неинтересны, к ним перестали бы обращаться не только читатели, но и историки. Между тем, воспоминания сами становятся документом, требующим и критического анализа, и осмысления. Как «защита», так и апология воспоминаний — дело бесполезное. Они живут, характеризуя одновременно и события, и самого очевидца.
При чтении мемуаров Эренбурга возникает вопрос об оценке автором тех или иных периодов нашей истории. Прежде чем сказать об этом, заметим, что и общественная оценка различных ее этапов, как и деятельность крупных политических фигур, не остается одинаковой. Трудно говорить об «окончательных» оценках. И все же несомненно — те события, в которых Эренбург сам активно участвовал, действующим лицом которых был, оказались запечатленными наиболее сильно. Не случайно эти главы с самого начала вызвали одобрительную реакцию даже тех критиков, которые в целом эти мемуары не приняли.
Таковы разделы книги, связанные с романом «День второй», все написанное о войне, подавляющее большинство «портретных глав». Что же касается сложнейших вопросов внутренней жизни страны, то здесь между автором и критикой выявились расхождения. Эренбург опирался на личный опыт, иногда ограниченный тогдашними знаниями, а от него ждали большего. Но если Испанскую войну и войну Отечественную он всю прошел, если в данном случае его воспоминания и тогдашние статьи — важные документы для историков, то об иных событиях он знал меньше, из вторых рук, порой судил по косвенным свидетельствам (о коллективизации, например). Можно сказать, что эпоха была сложнее, чем она представлена в мемуарах. Можно корить автора задним числом. Важнее увидеть другое. Эренбург принадлежал к поколению, которое выросло на старой культуре и пришло к пониманию идей нового мира. Это поколение, как показано в мемуарах, осталось верным тем высоким идеалам, за которые поднялся народ в октябре 1917. Именно этот мотив остается главным и в книге «Люди, годы, жизнь», и во всем творчестве писателя. Хотелось бы, чтобы об этом всегда помнила критика. Она требовала того, что позднее хорошо оспорила М. Шагинян: чтобы мемуары писались исторически. Но в том их отличие, что эта субъективность предопределена жанром, особенно когда мемуарист — художник.
Писатель, как мы знаем, не был участником Октябрьской революции. Он оказался среди той части русской интеллигенции, которая ее не сразу приняла. Разве не важно такое свидетельство одного из тех, кто, отвергая старый строй, «не узнал» нового?
Эренбург в своих романах показал «оскал нэпа». Он отразил тогдашние сомнения и сегодняшний взгляд на давние события. Он не сверял свои «показания» с другими, писал «от себя». Нужно ли, чтобы Эренбург в своих определениях «совпал» с теми, что даны в книгах по истории, или интересно, как он видит и понимает то время?
Сложнейшим этапом нашей жизни, да и жизни самого Эренбурга, стали тридцатые годы. Большую их часть писатель провел за границей. Драгоценны его впечатления от предвоенной Европы, Испании, Парижа. В иных случаях перед нами свидетельства почти единственные. Пишет Эренбург и о том, что он переживал в те годы, как терзался, теряя близких, погибавших не только на войне. Можно заблуждаться со всеми, и можно иногда видеть то, что другие не видят. Если в каких-то оценках того периода Эренбург ошибался, разве не интересны его точка зрения и аргументация?
Говорили — и справедливо, что в большой мере книга посвящена искусству, занимавшему огромное место в жизни писателя. Многие споры велись именно в связи с высказываниями Эренбурга об искусстве — будь то общие проблемы или отдельные характеристики, портреты. При этом забывалась антифашистская, антивоенная, антирасистская направленность всего произведения. Между тем автор книг «Люди, годы, жизнь» свидетель и участник крупнейших событий и явлений своего века (революция, война, создание атомного оружия) — понимал, что будущее культуры зависит от того, сумеет ли человечество отстоять себя.
И Эренбург, и Пикассо, и Жолио-Кюри и другие писатели, художники, ученые отдавали свои силы движению за мир, потому что знали: без мира не будет самого искусства, самой культуры, а не только споров о них. Дело не в количестве страниц, посвященных в этой повести жизни той или иной проблеме. Конечно, Эренбург был предан искусству, может быть, в другую эпоху он бы остался человеком искусства. Но в эпоху потрясений, катаклизмов, когда гибель угрожала целым народам, когда фашизм бросил вызов человечеству, а затем появилось оружие массового уничтожения, способное погубить цивилизацию, Эренбург не жалел своих сил для публицистической работы. К народам, правительствам, к каждому читателю обращался он. Об угрозе, нависшей над миром, писал и в своих статьях, и в мемуарах.
В отличие от Паустовского, который определил свою автобиографическую книгу как «Повесть о жизни» и шел путем беллетризации материала, Эренбург следовал принципу, что «книга воспоминаний — это исповедь без попытки прикрыть себя тенями вымышленных героев». «Люди, годы, жизнь» написаны художником, который проявил в жанре мемуаров и присущее ему мастерство публициста. Рядом с глубокими психологическими и внешне выразительными портретами возникают афористические определения, неожиданные, как бы родившиеся у нас на глазах. Таково определение целого периода как «полевые годы» (по аналогии с полевыми биноклями, полевой почтой, полевыми госпиталями), такова «глубокая война» (1943 год!) — подобная глубокой ночи или глубокой осени. От лежащего на поверхности упоминания о том, что 22 июня самый длинный день в году, шел Эренбург к характеристике всей войны, как одного дня, длившегося четыре года.
Знание эпохи, наблюдательность, умение видеть контрастные явления, сатирически заострить картину — все это было в кратких оценках политической ситуации в разных странах. Вот Германия 1921 года. «Маршруты трамваев были неизменными (бытовая деталь — А. Р.), но никто не знал маршрута истории. Катастрофа прикидывалась благополучием». И еще. «Проходя по улицам столицы, проигранная война забывала о камуфляже». Пройдет 15 лет. Характеризуя обстановку в Европе середины тридцатых годов, время, когда еще не было мобилизаций и даже учебных тревог, Эренбург возвращается к тому же образу. «А война уже была. Теперь я знаю, что война всегда приходит задолго до начала представления, приходит она со служебного входа и терпеливо ждет в темной передней». Дорогой ценой досталось это знание автору «Падения Парижа». Он чувствовал смертельное дыхание войны еще до того, как она вышла на сцену.
Легче всего «разнести» книгу по цитатам. Но и уйти от примеров нельзя. Нужно видеть характер воспоминаний писателя. Так, говоря о середине двадцатых годов, Эренбург дает и тогдашние ощущения и взгляд из будущего: «Снег белой сострадательной пеленой покрывает все. Когда приходит первая оттепель, земля обнажается. В годы нэпа нас потрясала, порой доводила до отчаяния живучесть мещанства; ведь мы тогда были наивными и не знали, что перестроить человека труднее, чем систему правления государством».
Рассказывая о годах, которые прожил, об эпохе, Эренбург проявил черты своего многообразного дарования — поэта, эссеиста, прозаика, публициста, художественного критика. Эренбург говорил, что в своих «насыщенных публицистикой» романах он искал новую форму.
Свободный жанр эренбурговского повествования предполагал не только легкость перехода от одного десятилетия к другому, сопряжение далеких, казалось бы, друг от друга событий, но и естественное обращение к собственным стихам, которые звучат не как самоцитаты, а как продолжение раздумий, только в иной форме. Сами стихи не выделялись особо, шли в подбор. Но была и проза, звучавшая как стихи, — так возникали краски Испании или краски Парижа. «Парижей много: мы знаем омытый светлыми дождями, сияющий Париж импрессионистов; легкий и нежный Париж Марке; идиллический и захолустный Париж Утрилло. А Париж Фалька — тяжелый, сумеречный, серый, фиолетовый, это Париж трагических канунов, обреченный и взбудораженный, отпетый и живой». Конечно, во всем этом блистательная характеристика художников, но такое не напишешь, не зная натуры города, которому автор посвятил и свои стихи, и свою прозу, города многих лет жизни.
Эренбург не обещал написать историю своего времени, говорил, что это будет рассказ «о некоторых людях», о некоторых событиях». Но он многое видел, был человеком широко известным в мире, авторитетным. Поэтому с таким вниманием, требовательностью и пристрастием читались его мемуары... Когда со сцены уходят участники событий, об эпохе судят по документам, книгам, произведениям искусства. Будущий историк, изучая первые шесть десятилетий двадцатого века, среди других свидетельств обратится и к писательским мемуарам. Сопоставляя разные оценки и мнения, он составит картину большой части века. Книга Эренбурга поможет понять время.
В связи с мемуарами Эренбурга не однажды вспоминались герценовские «Былое и думы». Если иметь в виду охват событий, мастерство портретных характеристик, публицистическую страстность, такое сопоставление закономерно. Но есть и существенное отличие. Герцен гораздо шире, исповедальней говорил о подробностях личной жизни, и это помогало понять время. «Кружение сердца» оказалось связанным с бурями века. Герцен не щадил себя, меньше боялся предстать перед читателем в невыгодном свете. Есть в «Былом и думах» эпизоды, о которых Герцен писал с болью, даже со стыдом, но он не умолчал о них. По разным причинам, иногда и не зависившим от автора, такие умолчания в книге Эренбурга есть, об иных из своих современников он считал разговор преждевременным. В то же время мир эренбурговских мемуаров широк, они дают пищу уму, несут огромную информацию, заставляют спорить, сочувствовать, переживать. Многое, тем не менее, узнаем мы и о самом Эренбурге. «Одним покажется, что я слишком о многом умалчиваю, другие скажут, что я про слишком многое говорю», — эти иронические слова можно отнести к любому критику мемуаров. Но они не снимают вопросов, которые возникали при чтении и на которые автор не мог или не захотел ответить.
Все это не упреки, тем более запоздалые, но стремление понять и объяснить полемичность, пристрастность, избирательность этого рассказа о крупных фигурах своего времени (люди), об эпохе (годы), и, наконец, о собственном внутреннем мире, терзаниях, радостях, бедах (жизнь).
О друзьях и собственном творчестве, о событиях, потрясших мир, и важных лишь для немногих, о старости и молодости, ошибках и победах, о жанре своей книги и об искусстве пишет одновременно художник и публицист. Когда Эренбург замечает, что жизнь не корректура, что нельзя исправить пережитое, он полемизирует с критикой. В другом случае отточенной формулировкой автор выражает сложность, многоцветность, противоречивость жизни. «Жизнь не писатель, она не заботится о единстве стиля: одну главу она пишет с улыбкой, в другой выворачивает душу героя». По размышлении можно сказать, что так написаны эти мемуары.
Уже в процессе работы Эренбургу пришлось пуститься в объяснения и разъяснения. Он подчеркивал, что не претендует дать историю эпохи, что книга его — «не летопись, а скорее исповедь», «рассказ об исканиях, заблуждениях и находках одного человека». В исповедальном же повествовании Эренбурга наиболее открытым, искренним оказалось отношение писателя к искусству, которое было в его жизни «самой большой страстью».
Иногда забывалась или отрицалась полемическая направленность эренбурговской «повести жизни». Называли имена деятелей культуры, литературы, не названные автором. Но утверждать, что Эренбург дает одностороннее, обедненное представление о состоянии и развитии нашей литературы и искусства неправомерно. Он и задачи такой — писать «о состоянии и развитии» — перед собой не ставил. Можно упрекать мемуариста в том, что он дружил и встречался с этими, а не с другими деятелями культуры, можно отметить: с кем-то он не был близок. Но он говорил о том, что знал и что любил. Помог вернуть в литературу незаслуженно «вычеркнутых» художников. Рассказал молодому поколению о напрасно забытых деятелях искусства двадцатых-тридцатых годов. Следовало ли из этого, что Эренбург менял установившуюся «иерархию ценностей»? Нет, конечно. Такие изменения производит время. Но и люди тоже. Эренбург писал о своей жизни, своих пристрастиях. Но теперь уже вряд ли кому нужно доказывать значимость в искусстве таких фигур, как Пикассо и Леже, Мейерхольд и Таиров, Цветаева и Белый... Кажется, они были всегда частью нашего духовного мира.
Понять мемуары Эренбурга помогает его переписка, его суждения по вопросам искусства, высказанные на страницах многих статей. А. Сурков в одном из писем. Эренбургу заметил, что высказывания последнего по вопросам искусства далеко не бесспорны. Ответ Эренбурга: «Я считаю все высказывания об искусстве спорными».
Вступая в споры по значительным проблемам жизни и искусства, Эренбург, естественно, встретился с иными оценками, возражениями, высказанными порой в форме отнюдь не деликатной. Теперь видны многие «перехлесты» давней полемики, но нельзя считать, что «Люди, годы, жизнь» воспринимаются сегодня лишь как спокойное повествование о днях минувших. Это живая, современная книга. И поэтому она до сих пор встречает и поддержку, и несогласие.
Есть в воспоминаниях эпизод со стеклянной клеткой, в которой молодой Сименон якобы писал на глазах у публики роман. Действительно, замысел такой у издателя был, но до его исполнения дело не дошло: газета разорилась. Об этом пишет и сам Сименон, и его исследователи: «Даже Эренбург упоминает в своих воспоминаниях об этой злополучной клетке как о реальном факте». То, что было «у всех на слуху», о чем все тогда говорили — стало через десятилетия «воспоминанием». Такова трансформация памяти. Ясно, что невольная это ошибка. Такие грехи есть, и сказать о них следует.
За десятилетия, прошедшие после выхода мемуаров в свет, появилась возможность лучше понять их, да и место самого Эренбурга в литературной, общественной и всей нашей духовной жизни сейчас видней. В 1961 году Эренбург писал, что стали выходить книги стихов, которые не издали бы десять лет назад. В 1977 году при активном участии К. Симонова в Москве была организована выставка Татлина. Еще спустя десять лет в стране широко отмечалось столетие Хлебникова. После издания романа «Петербург» почти одновременно вышли две книги исследований о Белом. В уважительном тоне теперь пишут о живописи Малевича и Шагала. Более широким становится наше отношение к искусству (не за счет других его завоеваний), и этому повороту помогли мемуары Эренбурга, значение которых, может быть, раньше других понял А. Твардовский. Публикуя их на страницах «Нового мира», редактор порой спорил с автором по частностям, но общая оценка книги оставалась неизменно высокой. После прочтения глав третьей книги Твардовский, как бы предвидя дальнейшие упреки и возражения автору, отмечал: «При всех возможных, мыслимых и реальных изъянах Вашей повести прожитых лет Вам удалось сделать то, чего и попробовать не посмели другие».
Твардовскому чужда нормативная критика, не желавшая понять характер данного произведения. Как редактор он не собирался просить Эренбурга «вспомнить о том, чего Вы не помните, и опускать то, чего Вы забыть не можете». Некоторые возражения критики Твардовский даже предугадал: «Могут сказать, что угол зрения повествователя не всегда совпадает с иными, может быть, более точными углами... что сектор обзора у автора обужен особым пристрастием к судьбам искусства и людей искусства, — мало ли что могут сказать...»
Поддержка А. Твардовского, его представление о том, что «книга очевиднейшим образом вырастает в своем идейном и художественном значении», помогли Эренбургу продолжить свой труд.
Интересны высказывания о мемуарах тех литераторов, которые раньше других смогли оценить их. Но есть еще собственное авторское видение своего труда. Оно стало известно уже из воспоминаний. Вот что сказал Эренбург одному из собеседников (переводчику И. Вайнбергу) о цели, которую он ставил в своих мемуарах: «Во-первых, рассказать молодому поколению о прошлом, ввести его в этот мир и показать ему мир этот. Во-вторых, напомнить более старшему поколению все пережитое им, заставить его снова это пережить. В-третьих, исходя из прошлого и дав ему свою оценку, занять боевую позицию в духовной жизни современности. Ибо только то в прошлом интересно и заслуживает внимания, что волнует общество и сегодня». К последнему близки слова Эренбурга (из письма к Е. Полонской) о том, что его мемуары — все та же борьба.
Завершу заметки еще одной ссылкой на Твардовского, который видел в этой мемуарной книге итог всей работы и жизни Эренбурга. От предыдущих высказываний эти строки отделены чертой, за которой путь Эренбурга окончился. Прощаясь со старшим товарищем, Твардовский утверждал, что со временем значение его книги будет возрастать. «И несмотря на все неизбежные издержки «субъективного жанра» мемуаров, — романист, публицист, эссеист и поэт Илья Эренбург именно в этом жанре... в результате слияния всех сторон своего литературного таланта и жизненного опыта достигает, на мой взгляд, огромной творческой победы».
Л-ра: Литературное обозрение. – 1987. – № 5. – С. 22-27.
Произведения
Критика