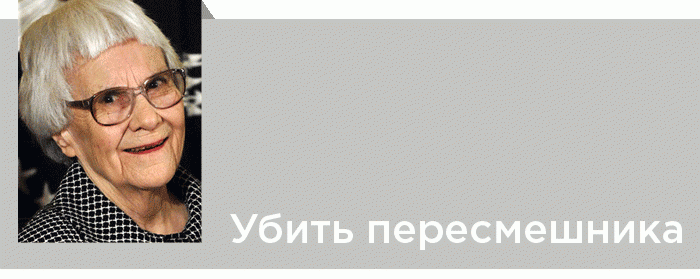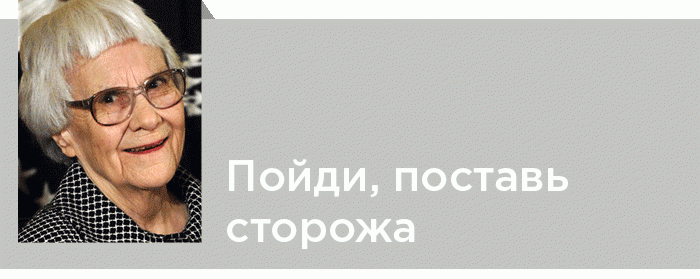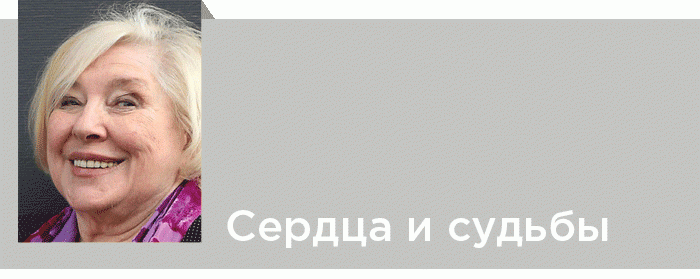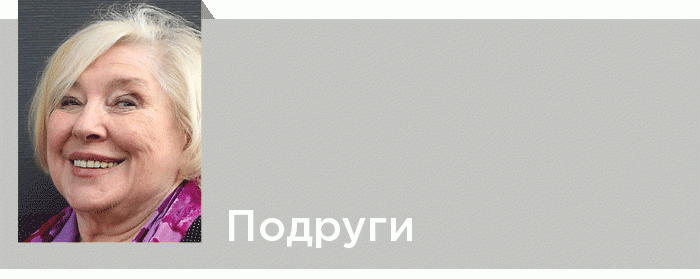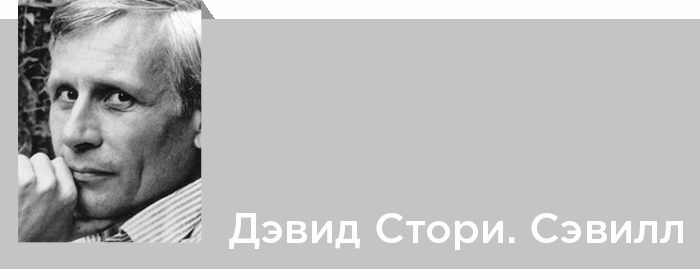Дэвид Стори. Сэвилл

(Отрывок)
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
На исходе третьего десятилетия нынешнего века по улицам маленького шахтерского поселка Сэкстон, приютившегося среди невысоких холмов южного Йоркшира, медленно ехала подвода, запряженная грязно-серой ломовой лошадью. Рядом с возчиком сидела темноволосая кареглазая женщина с равнодушным лицом. Рыжеватое пальто достигало ей почти до щиколоток, а круглая шапочка прилегала к голове, точно скорлупа, и видна была только одна зачесанная кверху прядь. На коленях у женщины сидел завернутый в серое одеяльце голубоглазый светловолосый ребенок. Ему было немногим больше года. Когда подвода миновала центр поселка и через несколько сот ярдов свернула в боковую улицу, где дома уже уступали место полям, ребенок вдруг отвлекся от созерцания покачивающейся лошадиной спины и со слепым недоумением посмотрел вокруг.
На подводе громоздилась разнообразная мебель. Впрочем, разнообразие это было относительным — просто подвода предназначалась для более однородных грузов, а сейчас на ней увязаны были деревянный стол с четырьмя деревянными стульями, два облезлых кресла, двуспальная кровать с панцирной сеткой и деревянным изголовьем, всякие кастрюли, тазы и ящики, буфет, комод и высокий, выкрашенный морилкой гардероб с зеркалом в дверце.
Сверху кое-как примостился голубоглазый светловолосый мужчина невысокого роста в широком расстегнутом пиджаке и рубашке без ворота. В отличие от женщины он с удовольствием озирался по сторонам. У последнего ряда блокированных домиков, за которым улица упиралась в поле, он окликнул возчика, и тот, прищелкнув языком, по его указанию повернул лошадь к среднему из пяти каменных домишек — в каждом дверь и окно на первом этаже, два окошка на втором под скатом из больших неровных плиток кровельного сланца.
Светловолосый мужчина соскочил с подводы, отворил узенькую калитку палисадника глубиной шага в три, достал ключ из кармана пиджака, отпер буро-коричневую дверь и скрылся за ней. Минуту спустя он вышел, махнул женщине, и она после некоторого колебания спустила ребенка на землю. Едва встав на ножки, малыш неуверенно заковылял — но не к открытой калитке, а назад по улице, туда, откуда они приехали.
— Ни-ни, Эндрю! — крикнул мужчина, помог женщине слезть с козел, догнал малыша и со смехом подхватил его на руки. — Куда это ты собрался? Назад домой? — спросил он, радуясь самостоятельности малыша, и повернул его лицом к двери. — Вот он, твой дом. — И добавил. — Ты теперь тут живешь. — Потом сказал женщине, которая нерешительно остановилась у калитки: — Возьми-ка его, Элин, и иди с ним туда.
Он и возчик сгрузили мебель и внесли ее в дом. Разобранную кровать втащили в крохотную комнатку второго этажа с окном на улицу, рядом поставили кроватку ребенка — просто матрац в деревянном ящике, — а все остальное свободное место занял гардероб. Комод втиснули в одну из задних комнатушек. Их было две: одна — немногим шире стенного шкафа, а вторая — квадратная с узким окошком, за которым был виден общий задний двор и полоски пяти огородов, замкнутых забором вдоль пустыря и домами по сторонам.
Остальную мебель составили в кухне и в нижней комнате.
— А теперь можно и отпраздновать, — сказал светловолосый мужчина, когда они кончили.
Он заглянул в один ящик, в другой и достал три чашки, а из хозяйственной сумки извлек бутылку. Пошарил взглядом, ища, чем бы ее открыть, и сорвал крышку о край квадратной мойки с единственным краном в углу кухни. Остальную часть стены занимали плита с полками над ней и два встроенных шкафчика.
— Мне не надо, — сказала женщина, все еще держа ребенка на руках и оглядывая кухню. — Не люблю пива.
— В самый раз после такой работки! — Светловолосый мужчина со смаком осушил свою чашку.
— Ну, с новосельем, мистер Сэвилл, — сказал возчик. — Счастья вам и удачи в новом доме! — Он кивнул над чашкой темноволосой женщине, которая так и не сняла ни пальто, ни шапочки, и добавил: — И пусть все ваши заботы будут ма-аленькими!
Женщина отвела глаза, а ее муж рассмеялся.
— И за это выпьем! — сказал он, быстро налил свою чашку и протянул возчику бутылку с оставшимся пивом.
В конце концов подвода уехала, и Сэвилл с женой, заперев входную дверь, принялись расставлять мебель в крохотной комнате первого этажа. Потом затопили плиту, вскипятили чай и сели, оглядывая пустую кухню, во множестве хранившую пятна и запахи, оставленные прежним жильцом. Нижняя филенка задней двери, которая выходила прямо во двор, зияла сквозными царапинами, а в щелях между половицами виднелись обрывки газетной бумаги и разный мусор. Сэвилл встал на четвереньки и с недоумением заглянул в щель.
— Нет, ты только подумай! Он туда выкидывал спитой чай!
Наверху послышались шажки ребенка.
— Надо за ним присматривать, — сказала мать. — Он ведь к лестницам не привык. (Прежде они снимали комнату, это было их первое собственное жилье.)
— Сделаю загородку с дверцей, — ответил отец, подошел к лестнице и с гордостью оглядел ее. — Отличный домик. А порядок мы тут наведем, — добавил он, увидев в дверь кухни, с каким унынием жена смотрит по сторонам. Быстро вернувшись к ней, он со смехом обнял ее за плечи.
— Не надо, — сказала она, ухватившись за стул и хмуро глядя на огонь. — Горячей воды нет — сами должны греть, уборная во дворе.
— Могло быть и хуже. Если б, скажем, мы тут не одни жили.
— Да, конечно, — ответила она без всякой убежденности в голосе и добавила, вставая: — Пора браться за дело.
— Ну, день-то можно и подождать, — сказал он.
— Нет уж! В такой грязи я не то что готовить и есть, а и спать не могу.
И весь первый день Сэвиллы наводили чистоту в своем новом жилище. Они возились до глубокой ночи, и газовые рожки в их комнатах отбрасывали полосы света на задний двор еще долго после того, как окна в соседних домах погасли. Малыш давно спал наверху в самодельной кроватке, а они все мыли, скребли и терли. Перед рассветом Сэвилл лег вздремнуть, а с зарей встал, собираясь на работу.
— Ну, до вечера, — сказал он, стоя в дверях. — Вернусь на велосипеде и привезу оставшиеся вещи.
Он поглядел на еще горящий огонь, повернулся и пошел по двору. Жена поцеловала его в щеку на прощание, а теперь стояла и смотрела ему вслед. Над полем и домами напротив брезжил белесоватый свет, и ее вдруг охватило острое ощущение одиночества. Она окликнула мужа. Он обернулся в дальнем конце пустого двора, весело помахал рукой, словно открывая нескончаемый черед таких же прощаний, и, продолжая махать, скрылся за углом.
Женщина постояла еще немного, потом закрыла дверь и обвела взглядом комнату, но вокруг не было ничего, что могло бы ее ободрить: догорающий огонь, стол, четыре стула, буфет и посуда, сложенная в раковине. Опустившись на пол возле плиты, она заплакала.
Сэвиллы переехали в Сэкстон через полтора года после того, как поженились. Все эти полтора года они прожили в одной комнате бок о бок с другой супружеской парой. И тут представилась возможность снять домик в соседнем поселке: раньше в нем жил вдовец батрак, и после переезда они еще долго чувствовали запах его собаки и кошки, а также объедков, которые старик запихивал между половицами.
Не успев убрать дом до переезда, они первые несколько дней отскабливали полы, мыли стены, косяки и рамы, заделывали дыры, которые оставила собака, царапая двери и штукатурку. Они отремонтировали потолок и заменили прогнившие половицы, а в заключение покрасили стены и рамы снаружи. По вечерам Сэвилл, вернувшись после утренней смены на шахте в шести милях от поселка и выспавшись, вскапывал стиснутый между двумя заборами огород, густо заросший сорняками.
А потом он начал по вечерам выходить с малышом во двор, где из разнокалиберных досок соорудил деревянную скамью. Он сидел, покачивая ребенка на колене, и курил трубку, а малыш пытался ловить клубы дыма. Сэвилл разгонял их и смеялся.
Вскоре домашние хлопоты обрели свой порядок: по понедельникам мать стирала, во вторник досушивала белье и начинала гладить. В среду ходила за покупками на неделю, доглаживала белье и — если оставалось время — пекла хлеб: большие продолговатые буханки, которые в крохотной духовке занимали каждая по противню, и овальные булки. Тесто для них она замешивала перед топящейся плитой в глубоком фарфоровом тазу. Мальчик сидел возле на своем стульчике или на полу и не спускал с матери глаз, а часто и сам тянулся к тесту, глядя, как она укладывает его в формы или на намасленный противень, хватал отвалившийся кусочек, раскатывал его и клал на вощеную бумагу перед пляшущим пламенем, которое отбрасывало блики на тесто, затем проталкивал его между формами в духовке и с нетерпением смотрел, как мать сдвигает маленькую хромированную заслонку поддувала и подкладывает уголь. В конце концов она справлялась с часами на высокой полке, брала тряпку, открывала дверцу духовки и, если хлеб был готов, первым вынимала его изделие.
— Ну как, доволен? — рассеянно спрашивала она, запятая собственными булками и буханками. Но мальчик был так не по возрасту сообразителен, его крохотные ручонки действовали так ловко, что порой она удивлялась — хотя сама ему помогала, — как хорошо он во всем разбирается и знает, что сначала тесто замешивают, потом снова месят, выкладывают в формы и, наконец, задвигают формы и противни в духовку.
— Прямо пекарь! — говорил Сэвилл, вернувшись домой и увидев маленький кривобокий каравай, который испек мальчик. По требованию Эндрю он отламывал кусочек, мазал джемом и под восторженным взглядом сына тщательно его пережевывал, всячески выражая удовольствие.
— Обязательно приду сюда еще раз, тут знают, чем угостить голодного человека!
По четвергам мать убирала комнаты наверху — сначала спальню, единственную в доме комнату с линолеумом, который она мыла и натирала мастикой, затем две задние комнатки и, наконец, лестницу. По пятницам она убирала и мыла кухню, подметала пол и вытирала пыль в парадной комнате с окном на улицу — там два кресла стояли перед пустым камином с черной эмалированной полкой. Ее она натирала до блеска, как и черные эмалированные дверцы кухонной плиты, так что к вечеру по пятницам дом благоухал мастикой и газовый свет отражался во всех отполированных поверхностях. Сэвилл ставил лохань на расстеленные газеты перед огнем и, стоя на коленях, купал малыша. Эндрю хлопал ладошами по воде и радостно вопил, вода шипела на углях, а мать покрикивала на него, жалея только что натертый пол. Сэвилл хохотал или, присаживаясь на пятки, принимался петь. Мальчик завороженно оборачивался к нему и уже больше не отводил блестящих светлых глаз от раскрасневшегося лица, от зубов, сверкающих в огненных отблесках, а отец распевал долго и громко, радуясь его удовольствию.
— Черт подери, ты только погляди на его ножонки, Элин, — говорил он, поставив мальчика в лохани и поглаживая пухлый задик. Его заскорузлая рука, вся в черных точках угольной пыли, казалась еще грубее на бело-розовой коже. Сэвилл вскидывал сына, совсем мокрого, над головой, малыш болтал руками и ногами, повизгивал, пищал, вода снова шипела на углях, а мать кричала:
— Мой ты его, ради бога, а не разводи свинство!
Элин часто ездила навещать родителей. Они жили в поселке в четырех милях от Сэкстона в коттедже на две семьи. За домом был отгороженный пустырь, где бродили гуси и куры, а в закутке под навесом они держали свиней. Она брала с собой сына и долго готовила его к этой поездке. Он сидел рядом с ней в автобусе, одетый в праздничный костюмчик, чисто вымытый, аккуратно причесанный на пробор, и глядел в окно на поля с тем же недоумевающим выражением, которое появлялось у него в глазах всякий раз, когда мать бранила отца, — недоумевающим и в то же время чуть-чуть рассеянным, словно их ссора никак его не касалась.
Мать миссис Сэвилл, низенькая старушка, родила семерых детей, пятерых вырастила и давно уже переложила на них все свои хозяйственные обязанности — почти каждый день кто-нибудь из них навещал ее. И когда Элин приезжала с Эндрю, она вскоре уже надевала фартук, засучивала рукава и мыла пол, или протирала окна, или стирала, или готовила обед. Ее отец, высокий молчаливый человек, уже много лет не имел постоянной работы и кое-как сводил концы с концами благодаря заросшему бурьяном пустырю позади дома. Когда приезжала Элин, он уходил, оставляя ее с матерью — несмотря на лучшие ее намерения, между нею и матерью постоянно вспыхивали ссоры. Мать не могла простить ей, что она вышла за Сэвилла — Элин была младшей в семье и должна была бы по меньшей мере еще несколько лет совмещать обязанности дочери с обязанностями прислуги. Но ее брак положил конец таким расчетам, а рождение Эндрю и вовсе заставило о них забыть.
Малыш сидел между ссорящимися женщинами в аккуратном костюмчике, сияя приглаженными волосами, румяными крепкими щечками и бесхитростными голубыми глазами. Он смутно ощущал волны враждебности, исходившие от взрослых, и, возможно, как-то связывал эту враждебность с другой, почти такой же — с озлоблением и горечью, которые воцарялись дома между отцом и матерью и обычно предшествовали, а может быть, и были причиной очередной поездки к его круглолицей, краснощекой, темноглазой бабушке. Возиться в пыли позади дома ему разрешалось только под строгим надзором матери, а если он получал позволение пойти на пустырь, то лишь с условием крепко держаться за руку дедушки — высокий старик с большими кроткими карими глазами и голосом, еле слышным из-за долгой привычки всегда оставаться незаметным, соблюдал это требование почти столь же неукоснительно, как сам Эндрю.
— Ну-ка, погляди на Джеки, — говорил дедушка, подводя его к свиному закутку; но в щелки между досками почти ничего не было видно, и старик ставил его на загородку: истоптанная полужидкая грязь за ней завораживала их обоих, и они смотрели на колышущиеся над ней бело-розовые туши, пока из дома не доносился голос Элин:
— Папа, да унеси же ты его оттуда!
— Чуток навоза еще никому не вредил, — говорил старик, когда они возвращались к женщинам.
— Ну нет! — кричала Элин совсем как у себя дома. — Оттирать и отмывать его не тебе приходится!
— Я отмывал и оттирал семерых. И тебя в том числе.
— Кого это ты отмывал и оттирал? — говорила кругленькая бабушка, и старик замолкал и уходил, как всегда предоставляя продолжать свару женщинам, которые обязательно должны доказать свое.
И все-таки Эндрю нравилось ездить к бабушке с дедушкой. Ему вообще нравилось уходить из дома, и он радовался, даже когда мать брала его с собой в лавку, не говоря уж о прогулках, когда отец водил его в Парк на склоне холма над поселком или еще дальше, туда, где в двух милях от Сэкстона описывала темный полукруг река, текущая от дальнего города.
На обратном пути от бабушки с дедушкой мать часто сажала его к себе на колени, и он смотрел на поля из ее объятии — когда они ехали туда, она очень редко брала его на руки, точно ее мысли были заняты предстоящим испытанием.
— Погляди-ка, вон лошадка! — говорила она ему на обратном пути и продолжала указывать то на одно, то на другое, словно не в силах сдержать радость от того, что они возвращаются домой, и торжество своей победы — еще раз выдержать атмосферу отчего дома было для Элин достаточной победой. Это были минуты наибольшей близости между Эндрю и его матерью, точно он был сразу и трофеем, и бременем, которым она гордилась, которое она влачила.
2
Когда Эндрю шел четвертый год, Сэвиллы переехали в один из шахтерских домов на той же улице, по ближе к углу, потому что квартирная плата там была меньше. К тому же их прежний дом совсем обветшал, и, как они его ни подправляли, зимой крыша текла и все стены были в разводах от сырости. Обитатели остальных четырех домов тоже скоро выехали, и весь блок был снесен: камни увезли, бревна и доски сожгли. Через некоторое время на его месте было построено продолжение шахтерского ряда.
Вскоре после переезда Эндрю убежал из дома. Сэвилл, поднимаясь на крыльцо, столкнулся в дверях с женой. Она была совсем белая и не могла ничего толком объяснить. Они отправились на поиски вместе — он шел рядом с ней, катя велосипед. На углах она останавливалась и ждала, а Сэвилл садился на велосипед и ехал осматривать дворы, пустыри, закоулки. Наконец они решили вернуться домой и тут увидели соседку, которая вела мальчика. Его нашли в нескольких милях от Сэкстона: он деловито шагал по дороге, ведущей в соседний поселок. Эндрю был спокоен и доволен — Элин села с ним к огню, и он, казалось, даже не помнил, что куда-то уходил.
Быть может, теплота и ласка, ознаменовавшие его возвращение, пробудили в нем желание снова уйти из дома. На этот раз он отыскался на шахте, и его принес домой мистер Шоу, шахтер, живший за стеной. Сэвилл увидел их на улице. Лицо Эндрю было бледным, сосредоточенным, он смотрел прямо перед собой, точно не замечая держащих его рук.
— Да где же он был? — спросил Сэвилл.
— Мы нашли его в котельной — свернулся себе под трубой и лежит, — ответил Шоу. — А уж как он туда забрался, никому не известно. Его механик увидел, совсем случайно.
И наконец, в третий раз Эндрю изловил лавочник — все на той же дороге, ведущей из поселка.
— Ну, куда ты шел? — спросил Сэвилл.
— Не знаю, — сказал мальчик.
— Тебе же тут хорошо, — сказал он.
— Да. — Эндрю кивнул.
— Это же опасно, понимаешь?
Эндрю помотал головой.
— Придется тебя отшлепать, чтобы ты понял, — сказал отец.
После этого почти год Эндрю никуда не уходил. А потом снова начал исчезать, и, когда его приводили обратно, голубизна широко открытых недоумевающих глаз сияла так ярко, что, задав ему трепку, Сэвилл уходил в уборную за домом и курил, сидя на стульчаке, а руки у него тряслись, как в первые месяцы после свадьбы, когда он ссорился с женой.
И она тоже была словно оглушена. Это превращалось в своего рода ритуал; в непокорности малыша было тихое непреодолимое упрямство, и отец, когда он вновь уходил, уже не пугался и не волновался, точно внутренне уверовал в неуязвимость мальчика, как инстинктивно верил в собственную неуязвимость, спускаясь в шахту — спокойно, почти равнодушно. Он подолгу спал. И купил собаку. С ней он уходил на заброшенную шахту к югу от поселка, и черно-белый песик шнырял по старым заросшим отвалам, гонялся за кроликами или раскапывал их норы.
Эндрю пошел в школу. И там начались те же неприятности, что и дома. Как-то, возвращаясь с одной из своих прогулок, Сэвилл увидел впереди на улице сына. Эндрю, возможно благодаря постоянному вниманию матери, всегда вел себя очень чинно, и к случившемуся привело почти нечаянное движение, то рассеянное невнимание, из-за которого в школе он мог опрокинуть стол, разбить окно или, как это бывало прежде, отправиться в свои странствия.
Сэвилл смотрел, как он идет по середине мостовой, подшибая ногой камешек, и уже почти нагнал его, когда камень вдруг взлетел довольно высоко и угодил в голову другого мальчика. Мальчик согнулся и заплакал. Сэвилл увидел, как потемнело лицо Эндрю, как он оцепенел, парализованный беспомощностью, которая охватывала его всякий раз, когда оказывалось, что он что-то натворил. Секунду спустя он сделал шаг вперед, но мальчик закрыл лицо руками и с плачем убежал. Эндрю стоял посреди дороги, безутешно глядя ему вслед. Потом, весь красный, судорожно дернулся, поднялся на тротуар и пошел домой, шагая все так же судорожно и неловко.
Сэвилл не мог понять, почему он не вмешался, не мог понять, что его удержало, и это потрясло его не меньше, чем мучительное огорчение Эндрю, чем странное раскаяние, терзавшее их обоих — сына, который шел впереди, не зная, что на него смотрит отец, и отца, который шел позади, смущенный и злой. Когда он вошел во двор, Эндрю, примостившись в углу, ковырял землю у себя под ногами. Лицо у него было красное и блестело, словно он только что плакал.
Однажды утром, когда Сэвилл вернулся с работы, оказалось, что мальчик заболел.
Его жена была на третьем месяце беременности, и он не пошел в ночную смену, а остался ухаживать за ними. Утром Элин почувствовала себя лучше, но Эндрю лежал в жару и хрипло, надрывно кашлял.
— Не беспокойся, он скоро поправится, — сказал Сэвилл жене и дал мальчику порошок, а сам лег спать, чтобы вечером пойти на работу.
Когда он проснулся, мальчику было хуже.
— Не беспокойся, — сказал он. — Если ему не полегчает, я позову доктора. — Он дал Эндрю еще порошок, чтобы он хорошенько пропотел, и укрыл его вторым одеялом. — Ты одна справишься? — спросил он жену.
— Не знаю, — ответила она и покачала головой. Бледная, больная, она безучастно бродила по дому, точно во сне, не вполне понимая, что происходит.
— Еще смену я пропустить никак не могу, — сказал Сэвилл. — И так уже неприятностей не оберешься, можешь мне поверить.
— Мы обойдемся, — сказала она. — Ты иди. Если что, я позову миссис Шоу.
— Нет, — решительно ответил он. — За своими я и сам присмотрю, черт подери.
Он остался дома. Ночью мальчику стало совсем плохо. Он вскрикивал, а потом не мог вздохнуть, и все его тело судорожно изгибалось.
Сэвилл схватил велосипед и поехал за доктором. Но не застал его дома — он уехал к больному. Ему дали адрес молодого врача, который обосновался в поселке совсем недавно. Врач оказался даже моложе, чем он сам, и у него не было машины. Он выкатил свой велосипед и поехал вслед за Сэвиллом.
Когда они вошли, Элин сидела в кухне у очага.
— Как он? Как он себя чувствует? — спросил Сэвилл, удивившись, что она встала.
— Все так же, — ответила она, безучастно обернувшись к ним.
Лицо ее было даже бледнее, чем раньше.
Он увидел, что она подогревает молоко.
— Как пройти наверх? — спросил врач.
Они поднялись вслед за ним по лестнице, зажгли свет.
Врач нагнулся над скорчившимся Эндрю, ощупывая его грудь.
— Вы давно к нему заглядывали? — спросил он.
— Минут десять назад, а может, и меньше, — сказала Элин.
— Сделать уже ничего нельзя, — сказал врач и через секунду, все так же не глядя на них, добавил: — Слишком поздно. Мне очень жаль.
— Да почему? Что с ним такое? — сказал Сэвилл.
— Мне очень жаль, — сказал врач. — Но он умер.
И даже тогда Сэвилл не поверил. Он шагнул к кровати, наклонился над мальчиком. Его рубашонка задралась выше колен, голова утонула в подушке, глаза были полуоткрыты.
— Мне очень жаль, — повторил врач.
— Да нет же, он не умер, — сказал Сэвилл.
— Я пойду, — сказал врач.
— Да нет же, он не умер, — сказал Сэвилл. Его жена стояла чуть в стороне. Ее пустые глаза ничего не выражали. — Он не умер, — сказал он, вглядываясь в тень под полусомкнутыми веками.
— Я пойду, — повторил врач, повернулся к его жене и взял ее за локоть.
Внизу у двери он сказал:
— Платить ничего не надо. За вызов. — И положил свой чемоданчик на багажник.
Несколько дней спустя, когда мальчика похоронили, его жена уехала к родителям. Сэвилл сам себе стряпал, убирал дом, ездил на велосипеде на работу. Элин вернулась через неделю. Она все время молчала. Он старался больше делать по дому: уезжал на работу чуть позже, на обратном пути крутил педали изо всех сил, чтобы вернуться чуть раньше, стряпал, подметал, помогал со стиркой. Ее уже больше не тошнило по утрам, но беременность, казалось, совсем подорвала ее силы. По вечерам, когда он уезжал, она неподвижно лежала у огня, измученная, бледная, и ее темные глаза были мутными и безжизненными. Он попросил миссис Шоу заглядывать к Элин.
— Не тревожьтесь, — сказала она. — Я с ней посижу.
Иногда утром миссис Шоу кормила его завтраком.
— Скоро ей станет легче, — говорила она.
Его собственная жизнь словно была непонятным образом зачеркнута. Он выкинул игрушки Эндрю — ему было невыносимо всякое напоминание о мальчике, о том, чем они могли бы заниматься вместе. Огород зарос бурьяном, а ямы, которые мальчик там нарыл, он закопал и заровнял. Иногда он уходил погулять, но обычно возвращался, не дойдя до угла. Он начал засыпать на работе, и его вызвали к управляющему.
Он чуть вовсе не бросил работу. Он мучился стыдом, не хотел признавать, что с ним происходит, и не мог освободиться от этих тисков, от презрения к себе. Он попробовал поговорить с женой, но увидел горе, к которому нельзя было подступиться, — слепое, безликое, безысходное. Утром, ложась спать, он замечал, что подушки мокры от ее слез, а когда вставал под вечер, она безучастно бродила по дому с тряпкой или щеткой в руке, не в силах ничем заняться.
— Нет, надо что-то сделать, — сказал он. — Так больше нельзя. Просто невозможно. Хоть руки на себя накладывай. Все равно хуже ничего быть не может.
Как-то утром он вернулся домой позже обычного, отпер заднюю дверь своим ключом и увидел, что огонь уже разведен, а жена замерла перед очагом на коленях, низко опустив голову.
Только подойдя совсем близко, он увидел нож — блеснувшее лезвие — и, только схватив ее за руку, остановил его движение.
— Нет! — сказал он. — Что это ты… — Он притянул ее к себе и ощутил вялую покорность. — Как же так, — сказал он, не отпуская ее. — Зачем? Что это ты задумала?
Она заплакала, прижимаясь к нему, и он почувствовал, как его собственное горе прорвалось, хлынуло наружу, опустошающее, слепое и глухое.
— Что же нам делать? — спросил он у нее. — Это ведь не выход. У нас другой есть, и надо о нем подумать, — сказал он.
— Почему он все уходил? Почему он уходил? — спросила она.
— Нам нужно помнить, что у нас есть другой, — сказал он.
— Почему он умер?
— Нет, об этом нам думать нельзя, — сказал он.
Теперь, прежде чем отправиться вечером на работу, он молился вместе с Элин. Первый раз он увидел ее в церкви: она с какой-то подругой остановилась после вечерней службы на крыльце, потому что начался дождь. А у него был с собой зонтик — он взял его у отца. Он поднялся по ступенькам, предложил ей свой зонтик, проводил ее до дому, а через неделю зашел к ним и пригласил ее погулять. Начало всему положила встреча в церкви, но, если не считать свадьбы и похорон, они там больше не бывали. Однако теперь перед уходом на работу он опускался на колени рядом с ней у огня, читал «Отче наш» и — ради нее — молился за нового ребенка. «Да будет он хорошим и крепким, да не умрет», — произносил он вслух, а в душе тайно от нее умолял: «Дай нам что-нибудь взамен. Ради Христа, дай мне что-нибудь взамен», и эта молитва оставалась с ним, когда он крутил педали в темноте, оглядывался на поселок, на зарево коксовых печей и думал, что с ней сейчас, спит она или нет и кто родится — мальчик или еще бы лучше девочка. Все его новые надежды были сосредоточены на будущем ребенке, но он чувствовал, как тот, прежний, ложится на его плечи мертвой тяжестью.
Незадолго до родов его жена легла в больницу в соседнем городке. Два раза в неделю он уезжал туда на автобусе с фруктами для нее или сменой белья — сидел в верхнем салоне и курил, испытывая гнетущую тревогу и одновременно облегчение, что она далеко и от него больше ничего не зависит. Ребенок — мальчик — родился только через две недели, а домой она вернулась еще через четыре, и он провел в одиночестве почти полтора месяца. Обед ему иногда стряпала миссис Шоу.
Мальчик был темноволосым и темноглазым, как его жена, но кое-что он унаследовал и от него — широкое лицо и большой рот. У Эндрю, когда он родился, рот был меньше.
Это был странный ребенок. Элин от него почти не отходила. Он никогда не плакал. И Сэвилл удивлялся тому, что он молчит и всегда серьезен, словно печален. Он помнил, что Эндрю возился, плакал, лепетал, и такое тихое спокойствие его пугало.
— По-твоему, он растет как надо? — сказал он.
— А что? — спросила она. С самого начала, с той самой минуты, когда он увидел их вместе, она как будто не испытывала никакой тревоги. Словно ее горе отъединилось от нее и лежало рядом и его можно было обнять, прижать к сердцу. Сэвилл смотрел на младенца с улыбкой, не зная, как к нему отнестись, и боялся чего-то, и старался не брать его на руки, если только жена не настаивала. А ее забавляла такая боязливость: став прежней, она почти с пренебрежением замечала, как он отстраняется и все время пропускает ее впереди себя.
— Нет, лучше ты сама, — говорил он, когда она предлагала ему подержать или перепеленать малыша, хотя их первенца он и на руках носил, и пеленал.
Они дали ему имя Колин. Так звали ее деда по матери, единственного человека в их семье, который ей по-настоящему нравился, моряка, который живал дома редко и неподолгу, но, когда возвращался, всегда дарил ей конфеты. Она плохо его помнила — только морскую форму, конфеты и бороду, в которую утыкалось ее лицо, когда он ее целовал. Его пожелтевшая фотография вместе с фотографией ее родителей и их свадебным снимком лежала в папке, которую она хранила в комоде у кровати.
Рядом с младенцем он терялся, но испытывал облегчение, если ему удавалось заставить его рассмеяться или потянуться к чему-нибудь. Летом он сидел рядом с коляской в огороде и помахивал над ней зеленым листиком. Вверх тянулась ручонка, старалась схватить, личико улыбалось оживленно, почти с интересом. Он не был похож на других малышей. Плакал он, только когда мать вынимала его из лохани перед огнем, но она давала ему грудь, вопли замирали, судорожная дрожь стихала, ручонки цеплялись, тянулись.
— Странный он какой-то, — говорил Сэвилл. — Самая малость, и уже доволен.
— Да, — отвечала она, поглядывая на сына, поглаживая его по голове.
— Ничего понять нельзя, — говорил он.
Ребенок был словно ее частью, неотделимой, растущей, и муж видел, как в ней растет спокойствие, умиротворенность, а соседки на улице нагибались к малышу с недоумением и так же терялись перед его тихой покладистостью, как сам Сэвилл.
— Чистое золотце, ангелочек, — говорила отцу миссис Шоу, краснея и улыбаясь всякий раз, когда ей позволяли взять ребенка на руки.
— Глядите, он ко всем идет! — говорил он ей.
— Ну, уж если он ко мне пошел, так ко всякому пойдет, — отвечала она и смеялась.
Когда мальчик начал ходить, он все время оставался в огороде и не пытался выбираться на пустырь или в соседний двор. А если отец звал его оттуда через забор, он протискивался между штакетинами и сразу хватал отца за руку, а те, с кем Сэвилл разговаривал, глядели вниз на малыша, улыбались и покачивали головами.
— Ну, боксером будет! — говорили они, поглядывая на его кулачки, на его плечи. Он был сложен плотно, как сам Сэвилл, и на его руках и ногах уже нарастали мышцы.
— Да уж, Гарри, он тебя скоро уложит, — говорили они, посмеиваясь, если ему удавалось расшевелить мальчика.
Обычно он смущался, застывал рядом с отцом и застенчиво смотрел снизу вверх на чужих людей, чуть насупив брови над темными внимательными глазами.
— Дать тебе полкроны, Колин? — спрашивали они и смеялись, когда он прятал руки за спину. — Его не подкупишь, — говорили они Сэвиллу. — Темная лошадка. Нам всем надо держать ухо востро.
Он водил мальчика гулять, как прежде Эндрю, — иногда сажал его на спину, но чаще вел за руку. Порой они уходили из поселка на северо-восток, за распаханные поля, туда, где дорога спускалась к реке. Вода в ней была темная, в хлопьях пены, кое-где у берега из нее торчали кусты и деревья. Мимо проплывали баржи, груженные тюками шерсти — красными и оранжевыми, голубыми и желтыми, и яркие цвета казались еще ярче на фоне темного откоса. Чуть дальше была угольная пристань, и там самосвалы сбрасывали свой груз в желоб, и черный поток катился в трюм баржи внизу. Маленький буксир с красной трубой отводил баржи от пристани, и между берегами медленно разворачивался длинный караван, рулевые перекликались, а красная труба словно сама по себе торчала среди полей, изрыгая черные клубы дыма, и ее было видно за много миль.
Его первая собака издохла, он купил другую и по вечерам перед работой уходил с ней и сыном к заброшенной шахте за поселком. Прежде он часто приходил сюда один, а теперь ложился в траву и смотрел, как мальчик ковыряет палкой в земле или ходит за псом и зовет его: «Билли! Билли!», спотыкается, падает и возвращается к нему рассказать, что Билли убежал.
— Ничего, скоро вернется, — отвечал он. — Билли знает, где его ждет ужин. Вот увидишь! — И хохотал, когда пес возвращался и морда у него была вся в земле, потому что он пытался разрыть нору. — Того и гляди он нам с тобой поймает кролика!
Теперь при взгляде назад казалось, что смерть Эндрю и рождение Колина были частью одного события — уплатой долга, нежданным чудесным возмещением. Время шло, но он никак не мог с этим свыкнуться до конца и чувствовал, что жена воспринимает прошлое почти мистически, словно видит в обоих мальчиках одно существо: Эндрю — тот, против кого прегрешили, а второй сын — символ искупления, но в обоих одна и та же плоть, один дух, точно жезл, положенный в огонь, очищенный и обновленный огнем. И почти по тем же причинам, затевая с мальчиком возню, играя с ним, он боялся — боялся воздействовать на него, боялся перечеркнуть, как он перечеркнул своего первенца. Он устраивал с ним шутливые драки во время прогулок у заброшенной шахты: валился на спину, и малыш боролся то с его рукой, то с ногой, хохотал, напрягал все силенки, а пес прыгал и лаял на их болтающиеся ноги.
— Эдак ты меня прикончишь! — говорил он, запыхавшись, а мальчик заходил с другой стороны, держась за пределами досягаемости, и вытягивал руки перед следующим нападением. Он смеялся силе малыша и непонятной ярости, которая в нем вспыхивала. — Погоди-ка, погоди! — говорил он и откатывался в сторону, а малыш под лай пса кидался на его ноги, смеялся и прыгал по нему. Возбуждаясь, он словно оживал, и казалось, что это вернулся, вопит и хохочет Эндрю, но потом затихал, и, когда они шли домой, отец поглядывал вниз и видел застывшее спокойное лицо, серьезные темные глаза, устремленные куда-то под тенью сдвинутых бровей.
3
Летом того года, когда мальчик пошел в школу, они поехали отдыхать.
Колин никогда еще не видел моря. Все последние недели перед отъездом Сэвилл рассказывал ему о его синеве и бескрайности, о песке, о чайках, пароходах, о маяках и даже о контрабандистах. Про эти комнаты он узнал от одного человека на работе, Элин написала туда, они выслали задаток. В день отъезда он встал рано, но мальчик был уже на кухне и чистил ботинки. Его костюмчик лежал на стуле рядом с пустым очагом. У двери стояли два чемодана, уложенные накануне.
— Что-то ты раненько вскочил, — сказал он. — Думаешь, поезд уже готов? А по-моему, паровоз еще только завтракает!
Мальчик даже не улыбнулся, в нем уже нарастала тусклая, почти мрачная сосредоточенность, словно им предстояло идти в бой.
— А мои ты не почистишь? — спросил отец.
Он принес свои ботинки и накрыл на стол, а Элин еще убирала постели наверху.
Когда они собрались уходить, мальчик ухватил чемоданы.
— И не пробуй! — сказал отец.
С той минуты, как мальчик кончил чистить ботинки, он находил себе все новую и новую работу, вымел очаг, вынес золу, помог перемыть посуду и как пришитый ходил за матерью, когда она напоследок осматривала комнаты, проверяя, завернут ли газ и краны, хорошо ли задвинуты задвижки на окнах. Они заложили засов на задней двери, заперли ее и вышли с чемоданами через парадный ход. Сэвилл поставил чемоданы в палисаднике, запер дверь, подергал ее и оглядел окна, а мальчик тем временем приподнял один чемодан, потом второй и, задохнувшись, опустил их на землю.
— Дай-ка мне, — сказал Сэвилл, засмеялся и отдал жене ключ. — Не пойму только, зачем мы дом заперли. Украсть-то у нас нечего!
Но даже теперь, когда мальчику оставалось только идти рядом с родителями, настроение его не изменилось. Он крепко держался за материнскую руку и нетерпеливо оборачивался, когда отец останавливался передохнуть или перекладывал чемоданы из одной руки в другую.
— У нас тут вещей на три месяца! — сказал Сэвилл жене. — Знай я, какие они тяжелые, я бы запасся тачкой.
Час был еще ранний — пустые улицы, темное серое небо над головой. Во время завтрака он поглядел в окно и сказал: «Как оно сообразит, что мы отдыхать едем, так сразу засияет!» Но вот они на улице, медленно идут к станции, а небо все такое же, только тучи стали гуще.
— Ну, хватит говорить о погоде, — сказала Элин. — А то все солнце, солнце! Так мы его и вовсе не увидим.
— Не беспокойся! Как оно заметит, что мы тронулись в путь, так и засияет. — Он поглядел на сына. — Оно любит, когда люди радуются, — добавил он.
На каждом углу Сэвилл ставил чемоданы и переводил дух. Один раз он закурил, но тут же бросил сигарету. В домах, мимо которых они проходили, люди мало-помалу просыпались — отдергивали занавески, разводили огонь, Некоторые выглядывали из дверей.
— Значит, уезжаешь, Гарри?
— Угу, — отвечал Сэвилл. — И наверное, не вернусь.
— Что-то чемоданы у тебя тяжеленьки. Месяц путешествовать будете?
— Месяц, месяц, — отвечал Сэвилл. — Никак не меньше.
По улице ехала тележка молочника. Он брал кувшины, выставленные на крыльце, шел к тележке и наливал в них молоко из блестящего круглого бидона. Сзади на тележке висели черпаки — одни с длинными ручками, другие точно металлические кувшины.
Молочник окликнул их и замахал рукой.
— Сейчас она мне ох как кстати пришлась бы, — сказал Сэвилл, кивая на тележку.
— И далеко вы собрались? — спросил молочник.
— На станцию.
— Я вас подвезу, — сказал молочник. — Если хотите.
Элин неуверенно оглядела тесно стоящие бидоны.
— Разве что чемоданы, — сказал Сэвилл. — А мы и на своих двоих доберемся.
— Все поместитесь, старина, — сказал молочник. — Я сейчас.
Он был в черном котелке и коричневом халате. Они стояли и ждали, пока он разносил полные кувшины.
— К морю, значит, едете? — спросил он, когда вернулся.
— К нему самому, — ответил Сэвилл и поглядел на мальчика.
— В первый раз? — сказал молочник.
— В первый.
— Жалко, я с вами поехать не могу.
У молочника были румяные щеки. Из-под полей котелка на них смотрели бледно-голубые глаза.
— Залезайте, — сказал он. — Чемоданы я потом поставлю.
Первой забралась на повозку Элин, ухватившись за выгнутую доску, заменявшую крыло. Она встала с одной стороны, Сэвилл с другой.
Молочник подсадил мальчика, и он встал спереди у металлической перекладины, сквозь которую были продернуты вожжи.
Чемоданы были в конце концов втиснуты стоймя между высокими бидонами.
— Ну вот, — сказал молочник. — Попробуем, хватит ли у нее силенки.
Он взял вожжи, прищелкнул языком, и бурая лошадь, даже еще более темная, чем его халат, зашагала по мостовой.
— Погода пока не очень, — сказал молочник и взглянул на небо.
— Скоро прояснится, — сказал Сэвилл. — Еще не было дня, чтобы мы уезжали при солнце.
— Сперва хмуро, потом ясно, чего лучше, — сказал молочник.
Лошадь цокала копытами по мостовой. Тележка покачивалась, как качели.
— Небось думают, куда это я запропал. — Молочник мотнул головой назад. — Я ведь всегда в одно время подъезжаю, ну, минутой раньше, минутой позже, но всегда в одно.
— Спасибо, что выручил нас, — сказал Сэвилл.
— Да что там! Сам бы с вами поехал. И зачем лошадь, если не тяжести возить?
Колин вцепился в металлическую перекладину. Она была выпуклой и изогнутой, с маленькой дыркой для вожжей. Перед собой он видел только лошадиную спину.
Сэвилл заметил, как напряжены ноги мальчика, как побелели его пальцы, стискивающие край перекладины. Он поглядел на жену. Она стояла боком, бледная, широко, почти испуганно открыв глаза. Одной рукой она держалась за деревянный брус, другой — за борт тележки. Шапочка на ней была того же цвета, что и пальто, — рыжевато-коричневая, без полей, натянутая на уши.
Последние дома остались позади, они ехали среди лугов, и на Сэвилла пахнуло свежестью. Пел жаворонок, и он увидел его — темное пятнышко на фоне туч. Позади из трубы рядом с копром шахты узкой черной струей поднимался дым. На лугу паслись коровы и овцы. А на соседнем стояла лошадь — совсем одна. Он окликнул сына и показал на нее.
Колин кивнул. Он стоял рядом с высоким молочником и оглянулся, не выпуская перекладины, вывернув шею.
Сэвилл увидел его раскрасневшиеся щеки и недоуменное, испуганное выражение в глазах, которое появилось в них, едва его посадили в тележку.
— А ты бы попрощался с ними, — сказал Сэвилл. — Скажи им, что мы едем отдыхать.
Молочник засмеялся.
— Чудней этого они мало что видели, — добавил Сэвилл, обернувшись к жене. — Люди едут отдыхать в обнимку с молочными бидонами.
Дорога пошла под уклон к станции. Одноколейный путь раздвоился и нырнул в две глубокие выемки, рассекавшие поля.
Молочник свернул в станционный двор и спрыгнул на землю. Он помог слезть миссис Сэвилл, потом мальчику и взял чемоданы, которые ему подал Сэвилл.
Сэвилл тоже спрыгнул и отряхнул пальто.
— Большое спасибо, — сказала Элин.
— Да, выручил нас. Не знаю, сколько бы времени я их тащил, — сказал Сэвилл и махнул рукой в сторону дороги. — Мы бы еще вон где плелись, это одно, а кроме того, у меня наверняка руки отвалились бы от такой ноши. — Он покосился на мальчика. Тот глядел на лошадь, потом начал смотреть на тележку.
— Ну, желаю вам отдохнуть хорошенько, — сказал молочник, влез в тележку и взял вожжи. — А мне пора, пока не хватились, что я с маршрута свернул.
— Большое спасибо, — снова сказала Элин.
Они смотрели, как он повернул тележку; он помахал им, лошадь затрусила по дороге и скрылась из виду за мостом.
— Он нам здорово помог. Только теперь, наверное, придется ждать. Мы же добрых полчаса сберегли, — сказал Сэвилл.
Он подхватил чемоданы и вошел в помещение станции. В кассе никого не было. Деревянный пол еще не подмели.
По дощатому настилу они дошли до металлического мостика. Под ним внизу были видны рельсы. По каменной лестнице, узкой и крутой, они спустились на платформу с другой стороны.
Сэвилл поставил чемоданы возле деревянной скамьи.
— Схожу куплю билеты, — сказал он.
Из окна станции он видел жену и сына — они стояли рядом с чемоданами. Потом жена села на скамью. Мальчик подошел к краю платформы и долго смотрел на рельсы, потом поглядел на окна станции, повернулся и отошел назад к чемоданам.
К станции медленно подходил товарный поезд. На секунду мостик заволокло дымом, исчезла и вся станция. Когда дым рассеялся, Сэвилл увидел, что его жена и сын стоят у края платформы и смотрят на катящиеся мимо вагоны.
Из внутренней двери появился кассир. Сэвилл заплатил за билеты, опять прошел по мостику и спустился по узкой лестнице на платформу.
Городок стоял в самой глубине полукружия мелкой бухты. На севере за домами торчали развалины замка. Он был построен на полуострове, сложенном из буро-красных скал. Обрыв охватывал красные черепичные крыши городка, точно длинная, занесенная над ними рука. От замка осталась длинная осыпавшаяся стена и выпотрошенное основание массивной квадратной башни. Мыс, завершавший полуостров, огибала широкая дорога, а чуть ниже бурлило и пенилось море: даже в спокойную погоду волны накатывались на волнолом, крутая дуга которого протянулась от укрытого порта на север, туда, где за мысом бухта становилась шире и глубже.
При отливе обнажалась широкая полоса песка. Они поселились в доме около порта, и из окон верхнего этажа была видна бухта, белые глянцевые прогулочные пароходики, уходившие в очередной рейс или возвращавшиеся в порт, тесные ряды рыбачьих баркасов у причальной стенки, привязанных один к другому, и толпы людей на пляже.
Ради этого двухнедельного отпуска Сэвилл две недели работал сверхурочно — после восьмичасовой смены он оставался еще на одну и приходил домой совсем вымотанный, чтобы урвать три-четыре часа сна. И он все еще ощущал усталость, странную пустоту, точно его тело и сознание стали полыми внутри: каждое утро он отправлялся на пляж — не он, а пустая оболочка, и эта пустая оболочка мало-помалу заполнялась запахом моря, запахом рыбы на портовой набережной, запахом песка. Даже солнце, едва они приехали, принялось снять. Он чувствовал, что перед ним открывается новая жизнь, полная перемен. Он не мог представить себе, что когда-нибудь опять будет работать под землей.
Он смотрел, как играет сын: он сидел рядом с женой в шезлонге, а мальчик копался возле них в песке, шлепал по воде и возвращался с полным ведерком, а иногда пугался волн, которые за портом обрушивались на незащищенный берег.
На пляже можно было покататься на осликах или на карусели, которую вертели вручную, и каждое утро приходил кукольник и давал представления. Они поехали кататься на пароходике. Это было словно настоящее морское путешествие — они обогнули мыс, поплыли вдоль берега, и город с замком казался грудой камней у края воды, а обрывы за ним — невысоким озерным берегом.
На пароходике играл оркестр, мужчина в матросской шляпе пел песни. Мальчик смотрел и слушал как завороженный. В нем появилась непривычная живость. По утрам, когда Сэвилл просыпался, он уже ждал в нижнем коридоре, где под вешалкой хранились его лопатка и ведро, и нетерпеливо посматривал на дверь столовой, торопясь скорей позавтракать, или стоял с лопаткой в руке у входной двери.
— Без старших гулять не ходят, — говорил Сэвилл. Они шли в порт, пока Элин еще только просыпалась. У пристаней выгружали рыбу траулеры, над их палубами тучами кружили чайки, хрипло кричали, проносились над самой водой. Мальчик смотрел затаив дыхание: словно распахнулись дверцы шкафа, словно отдернулась занавеска — и перед ним открылось то, чего он не знал, чего даже представить себе не мог. В первое утро на пляже мальчик смотрел на море зачарованно, почти с испугом и ни за что не хотел подойти ближе, только глядел на волны, скручивающиеся по краю берега, на белые разводы пены, на песок, стекающий вслед за водой. Наконец он пошел к этим волнам с Сэвиллом, крепко вцепившись в его руку, окунул босую ногу в холодную воду, вскрикнул, попятился и засмеялся с удивлением, глядя, как другие дети бегают и плещутся среди рассыпающихся гребней. Его поразила необъятность моря, веселая пляска лодок на волнах, грозная высота береговых обрывов.
А потом, чуть ли не за одну ночь, притягательная таинственность исчезла. Он возился в песке и даже не глядел на море — выкапывал ямку, строил стены замка, возводил башни. Сэвилл нагибался над ямкой рядом с ним, мальчик бежал к воде, зачерпывал полное ведерко и так же беспечно бежал назад, а за спиной у него гремели волны.
И все же Сэвилл почти в себе ощущал, как мальчика подчиняет новая жизнь — смутно, медленно, почти неосознанно — и влечет его к бескрайности моря, словно прошлая их жизнь каким-то образом стала не в счет: теснота, крохотный дом, труба над шахтой, рядом с копром, извергающая дым и пар. Теперь их ничто не сковывало, они могли дать себе полную волю, делать то, что хотелось им самим, ничему не подчиняясь, — есть, что им нравилось, спать, когда они уставали, ходить к морю, копаться в песке, ездить на осликах, плавать на пароходиках. Теперь их ничто не удерживало. Наконец они стали свободными.
И в жене он заметил единство с мальчиком — он еще никогда не видел ее вне их дома. Теперь, наблюдая жену и сына рядом в новом, совсем новом месте, где ничто ни о чем не напоминало, он обнаружил, как они похожи: медлительность, замкнутость, присущая им обоим странная, недосягаемая внутренняя жизнь, так что порой они, казалось, разделяли одно общее состояние духа — то же выражение, тот же неторопливый взгляд, тот же преображающий переход от смутного, хмурого, почти тоскливого безразличия к веселому, оживленному, дружелюбному настроению, к неосознанной надежде. Он смотрел, как она, смеясь, бежит по пляжу с мальчиком или ведет его за руку навстречу волнам, чтобы тут же с радостным визгом отпрянуть от самой большой, и чувствовал, что между ней и сыном существует связь, которую он разделить не может. Сам он не умел держаться с мальчиком просто и был резко прямолинеен и неуклюже опаслив, точно боялся спугнуть его, не найти в нем отклика. Он вверял мальчику свое одиночество, ждал от него близости, которая послужит звеном между ним и остальным миром. Чернота шахты всегда отшвыривала его назад, но тут, у моря, они все трое словно вышли на свет, обрели нежность.
Его жена купила шляпу с широкими загнутыми полями, затенявшими глаза. Шляпа была соломенной, розовая лента обвивала тулью, и ее концы трепетали и бились на ветру, когда Элин входила в море, приподняв край светлого платья, а другой рукой держа руку мальчика, и прохаживалась по воде взад и вперед напротив их шезлонгов.
Она выглядела как девочка, как девушка, едва ставшая взрослой, легкая и беззаботная, и, глядя на нее издали, он с трудом ее узнавал. Другие мужчины, заметил он, тоже глядели на нее: она словно стала выше, стройнее и не помнила о том, что осталось в их прошлом — безмятежная, не тронутая жизнью. Он больше не видел в ней той женщины, которую знал.
Надвигалась война. Люди в военной форме лежали на пляже, проходили по набережной вверху. Один из них оказался знакомым шахтером. У него были нашивки сержанта, и он окликнул их как-то утром, когда они шли к морю, подошел, дружески кивая, заговорил с ними и оперся о парапет. Элин с мальчиком спустились на пляж.
— Записался бы ты в армию, — сказал сержант. Он был плотно сложен и с тех пор, как они в последний раз встречались у себя в поселке, обзавелся щеточкой усов. — Если ты запишешься сейчас, то получишь привилегии. Я бы тебе через месяц устроил нашивки.
— А ты думаешь, мы будем воевать? — спросил он. Война для него все еще оставалась лишь словом, порой попадавшимся ему на глаза в газетах.
— И оглянуться не успеешь! — сказал сержант. — Но только если ты запишешься сейчас, то можешь выбрать, кем хочешь служить и где. А дождешься мобилизации, так тебя никто и спрашивать не станет. Пошлют, куда им нужно будет, и все. Лучше сам иди, сейчас, и море тебе по колено. — Он хлопнул его по спине.
Сэвилл поглядел на жену. Она нагибалась над шезлонгом, раскладывала его, устанавливала в песке. Рядом мальчик пытался разложить второй шезлонг. Они казались замкнутым в себе единым целым и как будто не нуждались ни в ком другом. От слов сержанта по его рукам и ногам прошла тупая судорога, в груди медленно нарастал жар: перед ним словно распахнулся еще один горизонт, такой же, как тот, который простирался перед ним сейчас, — бескрайний, необозримый, полный света.
Он увидел, что Элин смотрит на набережную. Ее взгляд неуверенно скользнул по фигурам у парапета и наконец остановился на нем. Она замахала ему, радостно улыбаясь.
— Нет, я уж останусь, — сказал он и поглядел на сержанта. — Шахтеры будут нужны. Чтоб добывать уголь. Без него ведь не повоюешь, — добавил он.
— Дело твое, — сказал сержант. — Но если бы ты решил пойти сейчас, я бы все устроил.
Сэвилл снова взглянул на жену: она сидела в шезлонге и развертывала газету. Он различил слово «Война» — самые крупные буквы в заголовке. Элин перевернула страницу и начала читать что-то на обороте.
— Да нет, я, пожалуй, останусь. — Он показал на пляж. — У меня же парень.
— И у меня есть такой. С ним дома ничего не сделается, — сказал сержант.
— Да нет, я уж останусь с ними, — сказал он.
Он увидел блеск в глазах солдата, дерзкую смелость, которая испугала его, — уверенность в своем будущем, в самом себе. И его охватило унылое отчаяние. Он почувствовал, что отказался из трусости.
Он поглядел на жену.
— А ты все-таки подумай, — сказал сержант. — Я завтра опять сюда приду.
Пока он шел к шезлонгам, он чувствовал, как солнечное тепло этих дней угасает, сменяется холодом и сыростью шахты.
— Чего ему было надо? — спросила Элин.
— Да ничего, — сказал он и мотнул головой.
— А вид у него теперь получше, чем раньше, — сказала она. — Помнишь, как он горбился? И не умывался никогда.
— Значит, военная служба пошла ему на пользу, — сказал он.
И посмотрел на море. Он чувствовал себя отрезанным от всего. Мальчик копался в песке. Рядом сидела жена и читала газету.
Они больше не ходили на этот пляж, а каждое утро садились на автобус, уезжали за мыс и выбирали удобное место на северном берегу бухты. Ветер был тут чуть свежее, пляж — не таким многолюдным. Но были ослики, и карусель, и кукольник, и им было видно, как пароходики выходят из порта. А над ними сурово высился замок. Сэвилл чувствовал, что все это хорошая подготовка к отъезду.
Произведения
Критика