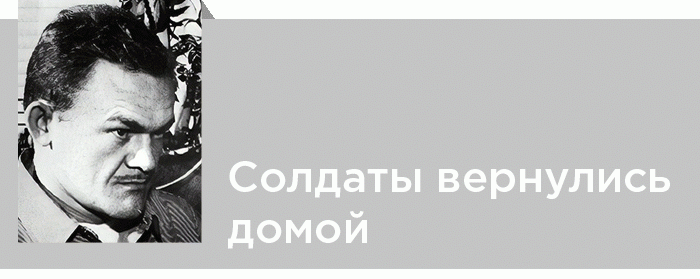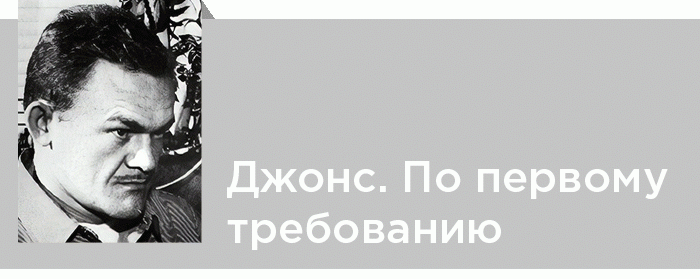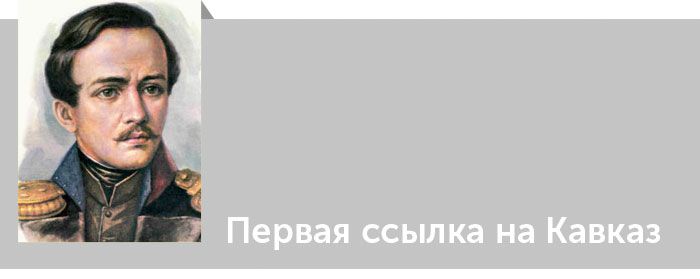Джеймс Джонс. Тонкая красная линия

(Отрывок)
Глава 1
Два транспорта проскользнули с юга в серой предрассветной мгле; их громоздкие корпуса плавно прорезали воду, которая бесшумно несла эти корабли — такие же серые, как скрывавший их рассвет. Теперь, свежим ранним утром чудесного тропического дня, корабли спокойно стояли на якоре на рейде между двумя островами, дальний из которых казался лишь облаком на горизонте. Для команд транспортов это было обычное, хорошо знакомое задание: доставка очередного подкрепления войскам. Но для пехотинцев, являвшихся грузом, этот рейс не был ни обычным, ни знакомым, и они испытывали смешанное чувство глубокой тревоги и напряженного ожидания.
До прибытия сюда, в течение долгого морского пути, этот человеческий груз вел себя развязно, и эта развязность не была напускной. Пехотинцы входили в старую кадровую дивизию и знали, что представляют собой всего лишь груз. Они всегда были грузом, но никогда — пассажирами, и не только смирились со своей ролью, но ничего другого и не ждали. Однако теперь, когда они прибыли сюда и своими глазами увидели остров, о котором так много читали в газетах, от их самоуверенности не осталось и следа, ибо, хотя они были из довоенной кадровой дивизии, здесь им предстояло принять боевое крещение.
Готовясь к высадке на берег, никто не сомневался, что многие из них останутся здесь навсегда, однако каждый надеялся, что это случится не с ним. Тем не менее эта мысль внушала страх, и, когда первые группы солдат с полной выкладкой стали с трудом подниматься на палубу для построения, взоры всех сразу обратились на остров, куда они должны были высадиться и который мог оказаться для них братской могилой.
С палубы открывался очаровательный вид. В ярких солнечных лучах раннего тропического утра искрилась спокойная вода пролива, свежий морской ветер шевелил ветви крошечных кокосовых пальм за серовато-коричневым отлогим берегом ближайшего острова. Был еще слишком ранний час, и томительная жара еще не наступила. Ласкали взор далекие открытые пространства суши и бескрайние морские просторы. Пахнущий морем бриз мягко скользил между надстройками кораблей, обвевая лица солдат. После спертого воздуха трюма, насыщенного людским дыханием и испарениями тел, бриз казался особенно свежим. На острове позади миниатюрных кокосовых пальм простирался до подножий желтых холмов зеленый массив джунглей, а за холмами возвышались в прозрачном воздухе окутанные голубой дымкой горы.
— Так вот он какой, Гуадалканал! — сказал солдат, стоявший у поручней, и сплюнул табачный сок за борт.
— Это тебе не занюханный Таити.
Первый солдат вздохнул и снова сплюнул:
— Да-а, какое хорошее, тихое утро.
— Черт, замучило это барахло, — раздраженно пожаловался третий солдат, подтягивая ранец.
— Скоро будет еще похлеще, — сказал первый.
Маленькие жучки, в которых они распознали пехотно-десантные катера, уже отошли от берега. Одни суетливо крушились, другие направились прямо к кораблям.
Солдаты закурили. Резкие команды младших офицеров и сержантов прервали их разговор, они стали не спеша строиться, а построившись, как обычно, замерли в ожидании.
Обойдя кругом головной транспорт и тяжело подпрыгивая на поднятых им самим мелких волнах, приблизился первый катер. Им управляли два матроса в рабочих беретах и безрукавках. Один стоял за рулем, а другой оперся на планширь, чтобы не потерять равновесие, и взглянул на корабль.
— Посмотрите-ка, что нам привезли. Еще пушечного мяса для япошек! — весело воскликнул он.
Солдат у поручней, жевавший табак, подвигал челюстями и, не пошевелившись, выплюнул тонкую коричневую струйку за борт. Солдаты на палубе продолжали ждать.
Внизу, во втором переднем трюме, третья рота первого полка толкалась у трапа и в проходах между койками. Третья рота была назначена четвертой в очереди на посадку в третью переднюю грузовую сетку с левого борта. Солдаты знали, что им придется ждать долго. Поэтому они не так волновались, как уже построившиеся на палубе, которым предстояло высадиться в первую очередь.
К тому же в трюме третьей палубы было очень жарко. Койки, расположенные в пять, а то и в шесть ярусов — где потолок был выше, — были завалены предметами солдатского снаряжения, которые рота должна была взять с собой. Сесть было некуда, но даже если бы место нашлось, усесться на койках все равно бы не удалось. Подвешенные на трубах, прикрепленных болтами к палубе и потолку, они позволяли только лежать одному человеку под другим, а тот, кто пытался сесть, обнаруживал, что его крестец упирался в брезент, натянутый на раму, а голова больно ушибалась о раму верхней койки. Единственным оставшимся местом был пол, усеянный окурками и наполовину занятый сидевшими на нем солдатами. Приходилось либо устраиваться здесь, либо бродить туда и обратно через лабиринт труб, занимавших каждый дюйм площади, перешагивая через тела. Зловоние от газов, дыхания и потных тел стольких людей, настрадавшихся от плохого пищеварения за время долгого морского пути, могло бы свести с ума, если бы, к счастью, не притупилось обоняние.
В этой тускло освещенной адской дыре, до отказа насыщенной влагой, где металлические стены отражали все звуки, солдаты третьей роты стирали пот, капающий с бровей, тихо ругались, поглядывали на часы и нетерпеливо ждали.
— Как ты думаешь, попадем мы под этот чертов воздушный налет? — спросил рядовой Мацци сидящего рядом рядового Тиллса.
Они сидели у переборки, прижав колени к груди, чтобы на них не наступили ненароком, к тому же так было удобнее.
— Почем я знаю, черт возьми? — сердито отозвался Тиллс — можно сказать, что он был закадычным другом Мацци, во всяком случае, лига часто ходили вместе в увольнение. — Я знаю только, что ребята из команды говорили, что во время последнего перехода их ни разу не бомбили. Зато в предпоследний раз чуть не потопили. Что тебе еще сказать?
— Ничего. Теперь мне все ясно. Зато я тебе что-то скажу. Мы сидим здесь на этих кораблях в огромном открытом океане, как пара паршивых больших жирных уток, вот что.
— Это я и без тебя знаю.
— Да? Вот и подумай об этом, Тиллс. Подумай.
Мацци еще плотнее прижал колени к груди и судорожно, нервно задвигал бровями вверх и вниз — это придало его лицу выражение воинственного негодования.
Тот же вопрос волновал всю роту. Правда, третья рота была не последней в очереди. Рот было семь или восемь. Однако это не приносило утешения. Третью роту не интересовали те неудачники, которые шли после нее: это была их забота. Третью роту интересовали только те счастливцы, которые шли перед ней: почему они не спешат, и как долго придется ждать?
Была еще одна причина для недовольства. Третья рота оказалась четвертой в очереди на высадку, что, естественно, вызывало возмущение. Но этого мало: случилось так, неизвестно по какой причине, что ее разместили среди чужих. Кроме еще одной роты, размещенной далеко в корме, третья была единственной ротой первого полка, назначенной на первый транспорт, и поэтому ее солдаты не знали никого в ротах, расположенных по обе стороны от нее.
— Если уж меня разнесет к чертовой матери, — мрачно размышлял Мацци, — не хочу, чтобы мои кишки и мясо перемешались с кучкой чужаков из другого полка, вроде этих бездельников. Уж пусть лучше это будет мое подразделение.
— Не говори так! — закричал Тиллс. — Ради бога!
— Знаешь, — продолжал Мацци, — когда подумаешь, что самолеты, может быть, как раз теперь летят над нами…
— Да не выдумывай, Мацци!
Другие солдаты третьей роты по-своему, как могли, отвлекались от мрачных мыслей. Со своей выгодной позиции у переборки сходного трапа Мацци и Тиллс могли наблюдать за деятельностью по крайней мере половины третьей роты. В одном месте затеяли игру в очко. В другом месте шла игра в кости, такая же беспокойная. Еще в одном месте рядовой первого класса Нилли Кумбс вытащил колоду карт, с которой никогда не расставался (все подозревали, что они крапленые, но никто не мог это доказать), и затеял обычную игру в покер. Пользуясь всеобщим волнением, он обыгрывал товарищей, хотя и сам волновался немало.
Стоявшие или сидевшие кое-где группки солдат вели тихий разговор. Широко открытые глаза были устремлены в одну точку, и солдаты едва ли слышали, о чем идет речь. Кое-кто тщательно проверял и перепроверял свои винтовки и снаряжение или просто сидел, глядя на них. Молодой сержант Маккрон, заботливый, как наседка, лично проверял каждый предмет снаряжения солдат своего отделения, состоявшего почти полностью из призывников, будто от этого зависели их здоровье и жизнь. Сержант Бек, чуть постарше Маккрона, строгий командир с шестилетним стажем, тоже педантично осматривал винтовки своего отделения.
Ничего другого не оставалось, кроме ожидания. Через задраенные бортовые иллюминаторы доносились приглушенные звуки сборов и отдельные выкрики, а с верхней палубы — еще более слабые звуки, говорящие о том, что высадка продолжается. Через люк за открытой водонепроницаемой дверью слышался лязг и сдавленная ругань солдат другой роты, с трудом взбирающихся по металлическому трапу, чтобы занять место уже высадившейся роты. Несколько солдат, которым удалось пробраться к закрытым иллюминаторам, взяв на себя роль наблюдателей, могли видеть темные, неуклюжие фигуры, спускающиеся в сетку, висящую за бортом, а время от времени — и отходящий катер. Громкими выкриками они сообщали остальным о ходе высадки. Иногда какой-нибудь катер, подхваченный волной, ударялся о корпус корабля, и в замкнутом пространстве тусклого трюма раздавался скрежет и лязг стали.
Рядовой первого класса Долл, стройный южанин из Виргинии, стоял с капралом Куином, высоченным техасцем, и ротным писарем капралом Файфом.
— Да, скоро мы узнаем, чем это пахнет, — покорно сказал добродушный гигант Куин, который был на несколько лет старше своих собеседников.
— Чем же это пахнет? — допытывался Файф.
— Тем, что в нас будут стрелять, — ответил Куин. — И стрелять всерьез.
— Подумаешь! В меня уже стреляли, — сказал Долл, выпятив губу в презрительной улыбке. — А в тебя, Куин?
— Да ладно вам, — вмешался Файф. — Будем надеяться, что сегодня не будет самолетов. Вот и все.
— Наверное. Мы все надеемся на это, — упавшим голосом проговорил Долл.
Долл был очень молод — лет двадцати, может быть, двадцати одного, как и большинство рядовых третьей роты. Он прослужил в роте свыше двух лет, как почти все солдаты регулярной армии. Спокойный, розовощекий юноша, довольно наивный, не очень разговорчивый и застенчивый, Долл обычно оставался в тени. Однако в течение последних шести месяцев в нем медленно происходила какая-то перемена, и он постепенно стал выдвигаться на первый план.
Он опять выпятил губу в презрительной улыбке и многозначительно поднял бровь.
— Ну что ж, раз я надумал добыть пистолет, пожалуй, пора идти, — улыбнулся он товарищам, взглянув на часы. — Они теперь, должно быть, достаточно обалдели и разнервничались, — рассудительно заметил он и поглядел наверх. — Не хочет ли кто со мной?
— Ступай лучше один, — сухо отозвался великан Куин. — Если два парня станут охотиться за двумя пистолетами, будет вдвое заметнее.
— Пожалуй, ты прав, — согласился Долл и не спеша удалился.
Куин поглядел ему вслед; в глазах его читалась явная неприязнь к Доллу. Долл прошел между койками к трапу, и Куин вновь повернулся к писарю Файфу.
У трапа, прислонившись к переборке и прижав колени к груди, все еще сидели и разговаривали Мацци и Тиллс. Долл остановился перед ними.
— А вы не смотрите на эту дурацкую забаву? — высокомерно спросил он, указав на иллюминаторы, у которых толпились зрители.
— Не интересуемся, — угрюмо ответил Мацци.
— К ним, пожалуй, не подобраться, — сказал Долл, оставив вдруг свой высокомерный тон. Он нагнул голову и вытер пот со лба тыльной стороной кисти.
— Не интересовались бы, если бы даже было свободно, — повторил Мацци и еще выше подтянул колени.
— А я иду добывать пистолет, — сообщил Долл.
— Да? Желаю удачи, — сказал Мацци.
— И я тоже, — проговорил Тиллс.
— Неужели вы не помните? Мы как-то говорили, что надо будет добыть пистолет, — напомнил Долл.
— Разве? — безразлично произнес Мацци, уставившись на него.
— Конечно, — начал было Долл, но осекся, услышав в ответе Мацци насмешку и неодобрение, и улыбнулся своей неприятной презрительной улыбкой. — Вам, ребята, невредно бы иметь пистолет, когда сойдете на берег и напоретесь на самурайские сабли.
— Мне бы только сойти на берег с этой проклятой большой, жирной сидячей утки, на которой мы торчим посреди воды, — сказал Мацци.
— Эй, Долл, — позвал Тиллс, — ты повсюду шляешься. Как ты думаешь, будет сегодня воздушный налет, прежде чем мы уберемся с этого паршивого корабля?
— Почем я знаю, — ответил Долл. — Может, да, а может, нет.
— Ну что ж, спасибо, — сказал Мацци.
— Будет так будет. А в чем дело? Ты боишься?
— Боюсь? Нисколько не боюсь. А ты?
— Нет, черт возьми.
— Ну и ладно, — Мацци, наклонившись, выпятил челюсть и угрожающе задвигал вверх и вниз бровями, уставившись на Долла с комично свирепым видом. Но это не произвело особого впечатления. Долл только откинул голову и рассмеялся.
— Увидимся, друзья, — сказал он и шагнул через дверь в переборке, у которой они сидели.
— Этот парень ни черта не смыслит, — решительно заявил Мацци, когда Долл ушел. — Глуп как пробка. Не выношу недотеп.
— Думаешь, он достанет пистолет? — спросил Тиллс.
— Черта с два, ничего он не достанет.
— Может достать.
— Не достанет, — повторил Мацци. — Он дурак. Хм, «друзья»!
— Мне наплевать, достанет ли он пистолет, достанет ли кто другой, достану ли я. Все, что я хочу, это выбраться с этого проклятого корабля.
— Сам не выберешься, — сказал Мацци, когда еще один катер с лязгом ударился о корпус. — Посмотри-ка туда.
Они повернули головы к койкам и, обхватив руками колени, наблюдали, как другие солдаты третьей роты занимаются своими прозаическими делами.
— Я только знаю, — сказал Мацци, — что никогда не ожидал чего-либо подобного, когда записывался в армию в старом, грязном Бронксе перед войной. Откуда я мог знать, что разразится эта война, будь она проклята? Ответь мне.
— Ответь лучше ты, — возразил Тиллс. — Ведь ты разбираешься в этом лучше всех здесь.
— Я знаю только, что старую третью роту всегда надувают. Всегда. И могу тебе сказать, кто в этом виноват. Старый Раскоряка Стейн, вот кто. Сначала он засовывает нас отдельно от нашей части на этот корабль, где мы не знаем ни души. Потом ставит на четвертое место в очереди на высадку с этого собачьего транспорта. Вот что я могу тебе сказать: все этот старый Раскоряка Стейн!
— Но есть места похуже четвертого, — заметил Тиллс. — Во всяком случае, мы не седьмые и не восьмые. Хорошо хоть он не всунул нас на восьмое место.
— Ну уж это не его заслуга. Важно, что он не поставил нас на первое. Посмотри на этого сукиного сына: хочет показать, что он свой парень. — Мацци кивнул головой в другую сторону, где капитан Стейн, его заместитель и четыре командира взводов, сидя на корточках, склонили головы над разложенной на палубе картой.
— Итак, вы видите, господа, где именно мы будем находиться, — сказал капитан Стейн. Оторвав взгляд от карандаша, он вопросительно поглядел на офицеров. — Разумеется, будут проводники либо от армии, либо от морской пехоты, которые помогут нам добраться туда с наименьшими трудностями и в кратчайшее время. Рубеж обороны — нынешний рубеж — проходит, как я показал, здесь. — Он показал на карте карандашом. — Отсюда около тринадцати километров. Нам предстоит совершить форсированный марш с полной полевой выкладкой на расстояние около десяти километров. — Стейн встал, другие офицеры тоже встали. — Вопросы есть, господа?
— Да, сэр, — сказал второй лейтенант Уайт, командир первого взвода. — У меня есть один вопрос, сэр. Будет ли определенное распоряжение о порядке размещения после прибытия на место? Поскольку Блейн, командир второго взвода, и я, вероятно, пойдем в голове, я хотел бы знать об этом, сэр.
— Я думаю, когда прибудем, придется подождать и посмотреть, что там за местность. Не так ли, Уайт? — сказал Стейн и поднял мясистую правую руку, чтобы поправить очки с толстыми линзами, через которые он смотрел на Уайта.
— Так точно, сэр, — ответил Уайт.
— Есть еще вопросы, господа? — спросил Стейн. — Блейн? Калп? — Он оглядел офицеров.
— Нет, сэр, — ответил Блейн.
— Тогда все, господа, — сказал Стейн и добавил: — Пока. — Потом нагнулся, сложил карту, а когда выпрямился, за толстыми линзами играла мягкая улыбка. Это означало конец официальной части, и теперь каждый мог чувствовать себя свободно.
— Ну как дела, Билл? — спросил Стейн молодого Уайта и дружески похлопал его по спине. — Как себя чувствуете?
— Немного волнуюсь, Джим, — улыбнулся Уайт.
— А вы, Том? — обратился он к Блейну.
— Отлично, Джим.
— Вот и хорошо. А теперь, я думаю, лучше вам всем посмотреть, что делают ваши ребята, не правда ли? — сказал Стейн.
Командиры взводов удалились. Стейн, оставшийся со своим заместителем, проводил их взглядом.
— По-моему, они все хорошие ребята, правда, Джордж?
— Да, Джим, я тоже так думаю, — согласился Бэнд.
— Вы заметили, как все воспринимают Калп и Гор?
— Конечно, Джим, ведь они служат у нас дольше, чем молодежь.
Стейн снял очки, тщательно протер их большим носовым платком и снова водрузил на нос. Он то и дело поправлял их пальцами правой руки.
— Я думаю, пройдет еще около часа, — сказал он в раздумье, — самое большее — час с четвертью.
— Надеюсь, что до того нас не разбомбят с воздуха, — заметил Бэнд.
— Я тоже надеюсь. — Большие, добрые карие глаза Стейна улыбнулись из-за очков.
Какими бы ни были критические замечания рядового Мацци — справедливыми или несправедливыми, в одном Мацци был прав: именно капитан Стейн приказал офицерам третьей роты находиться в это утро в трюме с солдатами. Стейн (солдаты звали его Раскорякой) считал, что в такой день офицеры должны быть со своими солдатами, делить с ними трудности и опасности, а не торчать наверху, в командирском помещении, где они отсиживались большую часть перехода. Стейн так и приказал своим подчиненным. Хотя никто из них не проявил особой радости, однако ни один офицер, даже Бэнд, не высказал и недовольства. Стейн был убежден, что это поможет поднять моральный дух солдат. Глядя на тесный, пропахший потом лабиринт из коек и труб, где спокойно, без суеты трудились солдаты, проверяя и осматривая снаряжение, он все больше убеждался в правильности своего решения. До армии Стейн был младшим партнером известной крупной юридической конторы в Кливленде, шутя прошел в колледже курс подготовки офицеров резерва и был призван за год с лишним до войны. Он провел шесть месяцев в подразделении национальной гвардии, а затем получил назначение в эту кадровую дивизию в качестве командира роты в чине первого лейтенанта: его обошел по службе один старый капитан, который прибыл в часть раньше Стейна и помешал ему на какое-то время получить чин капитана. Уязвленный Стейн все сетовал: «Боже мой, что скажет отец?» — потому что его отец был майором во время первой мировой войны.
Снова поправив очки, он обратился к своему первому сержанту по фамилии Уэлш [3], который действительно был уэльского происхождения. Уэлш все время, пока шел инструктаж, стоял поблизости с насмешливым видом, что не укрылось от глаз Стейна.
— По-моему, наше подразделение выглядит довольно подготовленным, довольно сплоченным, не правда ли, сержант? — сказал он, придав голосу некоторую властность.
Уэлш ухмыльнулся.
— Да, для кучки разгильдяев, которым вскоре предстоит получить пулю в зад, оно выглядит неплохо, — ответил он.
Это был высокий мускулистый мужчина лет за тридцать, весь облик которого выдавал уэльское происхождение: смуглое лицо и черные волосы, иссиня-черные щеки и подбородок, дикие черные глаза и выражение мрачного предчувствия, никогда не сходившее с его лица, даже когда он, как теперь, ухмылялся.
Стейн ничего не ответил, но и не отвел взгляда. Он почувствовал себя неловко и был уверен, что это замешательство отразилось на его лице. По мнению Стейна, Уэлш был ненормальный, сумасшедший, настоящий псих, и Стейн никогда его не понимал. Уэлш не испытывал уважения ни к чему и ни к кому. Впрочем, все это было не столь важно. Стейн смотрел сквозь пальцы на его грубые выходки, потому что Уэлш очень хорошо справлялся со своими обязанностями.
— Я вполне сознаю свою ответственность за них, — сказал он.
— Да? — только и сказал Уэлш, продолжая ухмыляться.
Стейн заметил, что Бэнд смотрит на Уэлша с открытой неприязнью, и мысленно отметил, что надо уговорить с Бэндом. Бэнд должен понять, что представляет собой Уэлш. Стейн продолжал смотреть на Уэлша, а тот в свою очередь упорно глядел на него, ухмыляясь, и Стейн, который раньше намеренно не отвел взгляда, теперь чувствовал себя в глупом положении, оказавшись втянутым в старую детскую потешную игру в «гляделки»: кто первый отведет глаза. Это было глупо и нелепо. Он раздраженно придумывал какой-то выход, чтобы, не теряя достоинства, прервать эту детскую игру.
Как раз в это время один солдат роты прошел мимо, направляясь к трапу. Стейн с облегчением повернулся к нему и резко произнес:
— Хэлло, Долл! Как дела? Все в порядке?
— Так точно, сэр, — ответил Долл. Он остановился и отдал честь, немного встревоженный. Он всегда чувствовал себя неловко при офицерах.
Стейн ответил на приветствие.
— Вольно, — пробормотал он и улыбнулся одними глазами. — Немного волнуешься?
— Нет, сэр, — очень серьезно ответил Долл.
— Молодец. — Стейн кивнул, отпуская его.
Долл снова отдал честь и пошел к выходу. Стейн опять повернулся к Уэлшу и Бэнду; глупая игра прекратилась, как он считал, без ущерба для его самолюбия. Уэлш все еще стоял, пренебрежительно ухмыляясь, имея теперь глупый и хитрый, мелочно торжествующий вид. «Он и в самом деле ненормальный, ребячества в нем хоть отбавляй», — подумал Стейн и нарочно подмигнул Уэлшу.
— Пойдем, Бэнд, — резко бросил он, сдерживая раздражение. — Посмотрим, что там делается.
Долл, пройдя через водонепроницаемую дверь, повернул направо, в передний трюм. Он все еще искал пистолет. Покинув Тиллса и Мацци, он совершил длинный путь на корму, обошел всю заднюю часть корабля на своей палубе и начал задумываться над тем, не слишком ли он торопится в своих поисках. Беда была в том, что он не знал, сколько времени в его распоряжении.
Что имел в виду Раскоряка Стейн, когда остановил его и спросил, не волнуется ли он? Что бы это значило? Неужели Раскоряка знает, что он охотится за пистолетом? Так ли? Или просто хотел узнать, не трусит ли он, Долл, а может, еще что-нибудь?
В душе Долла росли гнев и обида. Взбешенный, он шагнул через овальную дверь в передний трюм осмотреть свое следующее «охотничье угодье». Оно было очень мало по сравнению с уже обследованным пространством. Когда Долл отправился на поиски, он надеялся, что, если просто бродить, внимательно и настороженно всюду поглядывая, в конце концов представится подходящий момент, создадутся нужные условия, и он сумеет ими воспользоваться. Но этого не случилось, и теперь он был в отчаянии, понимая, что его поджимает время.
При обходе кормы Долл заметил только два ненадетых пистолета. Это было не так уж много. Оба раза при виде пистолета Долл вынужден был решать, брать или не брать его. Надо было только стянуть пистолет с ремня, потом надеть его и уйти. Оба раза Долл решил не брать пистолет, так как поблизости было несколько солдат. Оставалось лишь ждать, когда подвернется более удобный случай. Однако такой возможности все не представлялось, и теперь он стал подумывать о том, не ошибся ли, проявив чрезмерную осторожность. Мысль об этом была для него невыносима.
Он боялся, что его рота может в любой момент двинуться наверх. С другой стороны, его мучила мысль, что Мацци, Тиллс и остальные увидят, как он возвращается без пистолета.
Долл вытер пот со лба и осторожно прошел в дверь. Он шел по правой стороне переднего трюма, проталкиваясь через толпу незнакомцев из другой части, и искал…
За последние шесть месяцев своей жизни Долл кое-чему научился. Прежде всего, он постиг, что каждый создает себе вымышленный образ. Все на самом деле не таковы, какими притворяются. Каждый как бы сочиняет вымышленную историю о себе и притворяется перед всеми, будто он именно такой и есть. И все ему верят или, по крайней мере, делают вид, что верят. Долл не знал, все ли открывают для себя эту жизненную истину, достигнув определенного возраста, но подозревал, что все. Об этом просто никому не говорят. И правильно делают. Очевидно, если бы они с кем-нибудь поделились, то их собственной вымышленной истории тоже не поверили бы. Поэтому каждому приходится помалкивать и притворяться, что он об этом не знает.
Долл впервые испытал это чувство, во всяком случае, начал испытывать, шесть месяцев назад в кулачном бою с одним из самых рослых и сильных солдат третьей роты — капралом Дженксом. Они дрались до изнеможения, потому что ни один не хотел сдаваться, пока в конце концов зрители не признали, что схватка закончилась вничью из-за того, что соперники совершенно обессилели. Но дело было не столько в этом, сколько в том, что Долл вдруг понял, что Дженкс так же волновался перед боем, как он сам, и в действительности хотел драться не больше, чем он. Это открыло Доллу глаза на многое. Заметив это волнение у Дженкса, он начал видеть его повсюду и у всех.
Когда Долл был моложе, он верил всему, что каждый рассказывал о себе. И не только рассказывал, потому что чаще они не рассказывали, а показывали, то есть как бы давали понять это своими действиями. Они старались внушить окружающим, что на самом деле такие, какими хотят казаться. Когда Долл видел, что кто-то храбрец и чуть ли не герой, он верил, что тот и вправду такой. И разумеется, чувствовал себя неполноценным, зная, что никогда не сможет стать таким. Неудивительно, что он всю жизнь был на последнем месте.
Странно, но если ты честно признаешь, что не знаешь, кто ты такой, представляешь ли собой что-нибудь, то никто не станет тебя любить, все потеряют к тебе уважение и не захотят с тобой дружить. Но если ты сочиняешь вымышленную историю и рассказываешь, какой ты замечательный парень, а потом притворяешься, что ты и в самом деле таков, все примут ее за чистую монету и поверят тебе.
Когда он наконец добудет пистолет, то не признается, что трусил, или был не уверен в себе, или проявил нерешительность. Он притворится, что это было легко, что все произошло именно так, как он себе представлял, отправляясь на эти поиски.
Но сначала надо добыть пистолет, черт побери!
Он прошел вперед почти до конца и наконец снова увидел ненадетый пистолет. Долл остановился и уставился на него жадными глазами. Потом напомнил себе, что надо оглядеться и оценить обстановку. Пистолет висел на конце коечной рамы. Через три койки, где шла азартная игра в кости, столпилась группа солдат. У самого трапа, в полутора метрах, стояли, разговаривая, еще четверо или пятеро солдат. Взять этот пистолет было не менее рискованно, чем те два, что он видел на корме. Пожалуй, даже немного рискованнее.
Но с другой стороны, у Долла оставалось все меньше и меньше времени. Может быть, это единственный пистолет, который ему удастся здесь увидеть. Ведь он видел только два во всей корме. В отчаянии он решил рискнуть. Казалось, никто не обращает на него внимания. Долл небрежной походкой подошел к раме койки, прислонился к ней, будто это было его место, затем снял пистолет, надел и застегнул ремень. Подавив инстинктивное желание броситься бежать, он закурил сигарету и пару раз глубоко затянулся, затем неторопливо направился к двери, откуда пришел.
Он прошел полпути и уже начал думать, что операция успешно завершилась, как услышал позади голоса. Без сомнения, это обращались к нему:
— Эй, ты!
— Эй, солдат!
Долл обернулся, почувствовав, как его глаза принимают испуганно-виноватое выражение, а сердце начинает сильнее биться, и увидел двоих — рядового и сержанта, приближающихся к нему. Заставят вернуть пистолет? Или будут бить? Ни одна из этих перспектив не тревожила Долла так, как то, что к нему отнесутся с презрением, как к мелкому воришке, каким он себя и чувствовал. Этого Долл боялся больше всего.
Те двое приближались к Доллу с угрожающими, негодующими лицами, с потемневшими от гнева глазами. Долл несколько раз быстро моргнул, пытаясь избавиться от выражения смущения и вины на лице. Он заметил, что к ним с любопытством повернулись другие.
— Это мой пистолет, солдат, — сказал рядовой. В его голосе звучали обида и негодование.
Долл ничего не ответил.
— Он видел, как ты снял его с койки, — сказал сержант. — Так что не ври и не пытайся выпутаться, солдат.
Собрав все свои силы, все мужество, Долл молчал, и на его лице медленно расплылась натянутая циничная улыбка, в то время как он упорно, не мигая, смотрел на них. Он медленно расстегнул ремень и передал пистолет солдату.
— Сколько времени ты в армии, парень? — ухмыльнулся Долл. — Пора бы тебе знать, черт возьми, что оружие так не бросают. Когда-нибудь ты потеряешь его. — Он продолжал в упор смотреть на своих преследователей.
Солдат и сержант тоже глядели на него расширившимися глазами; их справедливое возмущение сменилось удивлением и недоумением. Его наигранное бесстрастие и явное отсутствие чувства вины поставило их в глупое положение. Оба вдруг сконфуженно улыбнулись, чувствуя неловкость от этой излюбленной во всех армиях выдумки бывалого, вороватого, развязного солдата, который подбирает все, что плохо лежит.
— Уж больно у тебя прилипчивые пальцы, — сказал сержант уже не так сердито и даже чуть улыбаясь.
— Все, что валяется без присмотра, — моя законная добыча, — весело ответил Долл, — как и всякого другого старого солдата. Скажите своему мальчику, чтобы он больше так не искушал людей.
Позади заулыбались и другие, глядя на незадачливого солдата. У него самого был пристыженный вид, словно он был виноват. Сержант обратился к нему:
— Слышишь, Дрейк. — Он усмехнулся. — Надо лучше беречь свое добро.
— Правильно. Надо, — подтвердил Долл. — А то оно у него не долго продержится. — Он повернулся и не спеша направился к двери. Никто ему не мешал.
Выйдя наружу, Долл остановился и облегченно вздохнул. У него так дрожали ноги, что пришлось прислониться к переборке. Если бы он вел себя как виноватый, каким он себя считал, его бы непременно избили. Но он не подал виду. Ловко выпутался, а виновным оказался солдат. Долл рассмеялся нервным смехом. Все это была одна большая ложь! Несмотря на испуг, он испытывал бурную радость и гордость. Он вдруг подумал, что в известном смысле был именно таким парнем, каким только что притворялся. Во всяком случае больше, чем прежде.
Однако пистолета он все еще не добыл. Долл взглянул на часы, с тревогой думая о том, как мало осталось времени. Он не хотел уходить с этой палубы, не хотел уходить далеко от своей роты. Его ноги еще немного дрожали, но он был горд тем, что победил, и начал подниматься по трапу на следующую палубу, исполненный чувства собственного достоинства.
С того момента, как он вступил на верхнюю палубу, все складывалось в его пользу. Он еще не успокоился после случившегося, и смелости у него поубавилось, но это не имело значения. Все складывалось для него и его цели как нельзя лучше, словно ему покровительствовал сам господь бог. Ведь приди он на минуту раньше или на минуту позже, все могло бы сложиться иначе. Но он явился ни раньше, ни позже и не перестал испытывать судьбу. Обстановка была отличная — именно такая, какую он представлял себе, задумывая это дело, и Долл мгновенно ее оценил.
Не пройдя и трех шагов, он увидел не один, а два пистолета, лежащие почти рядом на койке у самого трапа. Кругом не было ни души, кроме одного солдата, и, прежде чем Долл успел сделать еще один шаг, этот солдат встал и ушел в другой конец палубы, где, по-видимому, собрались все остальные.
Доллу оставалось только подойти, схватить один из пистолетов и надеть его. Он прошел с чужим пистолетом мимо рядов коек. На другом конце палубы вышел и спустился вниз по трапу, повернул налево и очутился в безопасности в расположении третьей роты. Рота еще не начала двигаться, и ничего не изменилось с тех пор, как он ее покинул. На этот раз Долл нарочно прошел мимо Тиллса и Мацци, чего не делал раньше, когда возвращался с пустыми руками с кормы.
Тиллс и Мацци не двинулись с места и по-прежнему сидели у переборки, обхватив колени руками и обливаясь потом. Долл остановился перед ними, держа руки на бедрах, правая рука лежала на пистолете. Они не могли его не заметить.
— Привет, красавчик, — сказал Мацци.
Тиллс ухмыльнулся:
— Мы видели, как ты недавно прокрался, когда возвращался с кормы. Когда Раскоряка поймал тебя. Где ты был?
Ни один, разумеется, не собирался упоминать о пистолете. Но Долла это не остановило. Он приподнял кобуру и несколько раз похлопал ею по бедру.
— Кое-где, — сказал он, выпятив губу и подняв бровь в высокомерной улыбке, — кое-где. Что вы скажете об этом?
— О чем? — простодушно спросил Мацци.
Долл опять презрительно улыбнулся, его глаза сияли.
— Ни о чем. Война, — насмешливо сказал он, повернулся на каблуках и пошел дальше, к своей койке. Он ожидал подобной реакции, но теперь ему было наплевать. Теперь у него был пистолет.
— Ну, что ты на это скажешь, умник? — спросил Тиллс, глядя вслед Доллу.
— То же, что и раньше, — невозмутимо ответил Мацци. — Этот парень болван.
— Но он все же достал пистолет!
— Значит, он болван с пистолетом.
— А ты умный, да без пистолета.
— Ну и что? — упорствовал Мацци. — Подумаешь, какой-то паршивый пистолет. Я…
— А я хотел бы иметь пистолет, — перебил Тиллс.
— … могу достать себе в любое время, когда захочу, — упрямо продолжал Мацци. — Этот парень шляется в поисках паршивого пистолета, а мы все ждем здесь, что нас разбомбят.
— Во всяком случае, когда сойдем на берег, у него будет пистолет, — настаивал Тиллс.
— Если сойдем…
— Что ж, если не сойдем, это не будет иметь никакого значения. Все-таки он что-то делал, а не сидел здесь, обливаясь потом, как мы с тобой.
— Брось, Тиллс, хватит, — решительно отрезал Мацци. — Охота тебе что-то делать, иди и делай.
— Вот и пойду, — сердито сказал Тиллс, вставая. Он было двинулся, но внезапно повернулся. На лице его появилось странное выражение. — А знаешь, у меня нет ни одного друга, — сказал он, — ни одного. Ни у меня, ни у тебя. — Тиллс обвел безумным, диким взглядом всю роту. — Никто в этой роте не имеет друзей. Ни один! А если нас убьют? — Голос Тиллса резко оборвался на этой вопросительной ноте, и его вопрос повис в воздухе, громкий и безответный, очень похожий на долго звучащий лязг и скрежет стали при ударе катера о корпус корабля. — Ни один, — тихо добавил он.
— У меня есть друзья, — сказал Мацци.
— У тебя есть друзья! — в бешенстве воскликнул Тиллс. — У тебя есть друзья! — Потом его голос ослаб и сник. — Пойду сыграю в покер. — Он повернулся и ушел.
Сначала Тиллс подошел к группе игроков во главе с Нелли Кумбсом. Нелли, худощавый, хрупкий блондин, как обычно, сам сдавал карты и снимал колоду, беря от десяти центов до четверти доллара с игрока. За это он снабжал игроков сигаретами. Кумбс никогда не разрешал сдавать никому, кроме себя. Тиллс не понимал, почему с ним играют, не понимал, почему играет он сам, особенно когда Нелли стали подозревать в нечестной игре. Всего в нескольких шагах от этой группы шла другая, нормальная игра, где сдавали по очереди, но Тиллс достал бумажник, вынул несколько банкнот и подсел к группе Нелли. Скорее бы кончилось это проклятое ожидание!
О том же думал и Долл. Охота за пистолетом полностью завладела им, и на время он совершенно забыл о возможности воздушных налетов. Оставив Мацци и Тиллса, он бродил по забитым солдатами проходам, пока не нашел Файфа и Большого Куина и не показал им пистолет. В отличие от Мацци и Тиллса, на них произвели большое впечатление его добыча, а также рассказ о том, как легко она досталась. Тем не менее, несмотря на свою радость, Долл не мог избавиться от гнетущей мысли о возможности воздушных налетов. Что, если после того, как он добыл этот проклятый пистолет, и после всех переживаний их все равно разбомбят? Эта мысль была невыносима. Черт, побери, может быть, ему так и не придется воспользоваться пистолетом? Сама мысль об этом пугала Долла и вызывала тягостное чувство бессмысленности и тщетности всего на свете.
Куин и Файф заикнулись было о том, что надо бы и им попытаться добыть пистолеты, раз это оказалось так легко. Однако Долл не поддержал их, как он выразился, из-за «элемента времени». «Следовало бы подумать об этом раньше», — сказал он. Долл не стал говорить им о втором пистолете, который видел наверху. В конце концов, ему самому пришлось долго искать и почему бы им не постараться? И к тому же, если наверху заметили пропажу пистолета, там, конечно, будут настороже. Это было бы опасно для его товарищей — он делает поистине доброе дело, не сообщая им о другом пистолете. Отговорив приятелей последовать его примеру, Долл направился к своей койке, чтобы проверить снаряжение — все равно больше делать было нечего. И вдруг он увидел перед собой растрепанные волосы, угрожающую фигуру и хитрое, безумное, хмурое лицо первого сержанта Уэлша.
— Откуда у тебя этот паршивый пистолет, Долл? — требовательно спросил тот, коварно усмехаясь.
Долл почувствовал растерянность и смущение. С таким трудом обретенная уверенность покинула его.
— Какой пистолет? — пробормотал он.
— Вот этот! — закричал Уэлш; шагнув вперед, он ухватился за кобуру и медленно подтянул Долла почти вплотную к себе, хитро и презрительно ухмыляясь прямо ему в лицо. Держась за кобуру, он стал легонько трясти Долла. — Вот этот пистолет, — повторял он, — этот.
Улыбка медленно сошла с его лица, уступив место темной, зловещей ярости; в его пронизывающем, жестоком, грозном взгляде было вместе с тем что-то лукавое. Долл был довольно высокого роста, но Уэлш был еще выше, и это было явно не в пользу Долла. И хотя он знал, что это медленное исчезновение улыбки на лице Уэлша было продуманным театральным жестом, оно все же подействовало на него парализующе.
— Да я… — начал было он, но Уэлш его перебил:
— А что, если кто-нибудь придет сюда к Стейну и захочет поискать в нашем подразделении украденный пистолет? А? — Уэлш медленно приподнимал Долла за кобуру, пока тот не встал на цыпочки. — Об этом ты подумал? А? — прошипел он. — А что, если тогда я, зная, у кого он, буду вынужден сказать Стейну, где находится пистолет? Об этом ты подумал?
— Неужели вы это сделаете? — упавшим голосом произнес Долл.
— Можешь не сомневаться, что сделаю, несчастный ублюдок! — угрожающе зарычал Уэлш прямо ему в лицо.
— А… вы думаете, кто-нибудь сюда придет? — пробормотал Долл.
— Нет! — рявкнул Уэлш. — Не думаю!
Потом так же медленно, как раньше исчезала, на лице сержанта вновь расплылась на мгновение хитрая, зловещая ухмылка. Уэлш опустил Долла и резким движением оттолкнул его от себя. Долл отскочил на полшага.
— Почисти пистолет, — приказал Уэлш. — Наверное, он грязный. Солдат, который бросает свое оружие, дрянной солдат.
Не в силах смотреть ему в глаза, Долл повернулся и пошел к своей койке, охваченный бешеной яростью. Он, в сущности, отступил с поля боя, и его самолюбие было жестоко уязвлено. Хуже всего, что это случилось здесь, где было полно солдат, и это было особенно мучительно для Долла, хотя все произошло так внезапно и быстро, что вряд ли кто-нибудь что-то заметил, кроме тех, кто находился поблизости. Будь он проклят, этот Уэлш! У него глаза как у ястреба, он все Бидит. Доллу было непонятно, почему Уэлш приказал почистить пистолет. Он был поражен этим. Как ни странно, Долл не мог сердиться на Уэлша, как бы ему ни хотелось, и это приводило его в еще большую ярость — беспредметную, а потому напрасную. Ну разве можно сердиться на ненормального человека?
Все знают, что он чокнутый. Настоящий псих. Двенадцать лет службы в армии высушили его мозг. Если Уэлш хотел его наказать за пистолет, почему не отобрал его? Всякий нормальный сержант так бы и сделал. Одно это доказывает, что он псих. Усевшись на койку, Долл вынул пистолет, чтобы посмотреть, действительно ли он грязный. Ему очень хотелось доказать, что уэльсец ошибся. Так оно и было. К радости Долла, пистолет оказался совсем не грязным. Он был чист как стеклышко.
После ухода Долла Уэлш продолжал стоять в проходе, криво усмехаясь. Особой надобности в этом не было: он уже отпустил Долла и забыл о нем. Но ему нравилось здесь стоять, потому что его присутствие смущало всех ближайших солдат. Он стоял, по-прежнему уперев руки в бока, слегка сгорбившись, расставив ноги, — в такой позе, какую принял после того, как оттолкнул Долла. Уэлш вдруг решил проверить, как долго можно простоять, не двигая ничем, кроме глаз. Он не хотел поднимать руку, чтобы взглянуть на часы, но высоко на переборке висели большие морские часы, и по ним он мог определить, сколько времени стоит. Неподвижный как монумент, криво ухмыляясь, он бросал вокруг взгляды из-под черных нависших бровей, и куда бы ни падал его взгляд, солдаты беспокойно шевелились, опускали глаза и принижались что-нибудь делать: подгонять ремешок, проверять крепление, драить приклад винтовки. Уэлш следил за ними, забавляясь. Куда ни кинь, несчастный народ. Наверняка почти все они погибнут, прежде чем кончится война, в том числе и он, но нет среди них достаточно умных, чтобы это понять. Может быть, кто-то и понимает. Они вступают в войну практически с самого начала и продолжают воевать до конца. Вряд ли кто-либо из них сможет или захочет признать, как угрожающе падают их шансы. Что касается Уэлша, то он считает, что они заслуживают того, что получают. Это относится и к нему самому. Эта мысль тоже забавляла его.
Уэлш никогда не был в бою, но долго жил с людьми, которые воевали, и в значительной мере утратил веру в пафос войны и трепет перед ней. Годами он сидел со старыми ветеранами первой мировой войны и более молодыми солдатами, воевавшими в Китае, выпивал с ними и слушал их унылые пьяные рассказы о геройских делах. Он наблюдал, как с течением времени и с каждой новой попойкой эти рассказы обрастали новыми подробностями о новых подвигах, и мог прийти лишь к одному выводу: каждый старый ветеран на войне был героем. Уэлшу было непонятно, почему столько героев сумели выжить, а так много негероев погибли. Но каждый старый ветеран был героем. И если этому кто-то не верил, то ему стоило только расспросить ветеранов, а еще лучше напоить их, вот тогда и узнает, что среди них просто не было людей другого рода.
Одна из опасностей профессиональной военной службы заключается в том, что каждые двадцать лет, регулярно, как часы, та часть человечества, к которой вы принадлежите, независимо от политических взглядов и представлений о гуманности, оказывается вовлеченной в войну, и вам приходится участвовать в ней. Пожалуй, единственный выход из этой математически выверенной опасности — вступить в армию сразу после одной войны и надеяться, что к началу следующей вы будете слишком стары. Однако для этого нужно достигнуть определенного возраста точно в положенное время, а это случается редко. Можно также поступить в квартирмейстерскую службу или в какой-нибудь подобный род войск. Уэлш уже понимал все это, когда в 1930 году, как раз между войнами, в двадцатилетнем возрасте поступил в армию; тем не менее он рискнул и пошел служить не в квартирмейстерскую службу, а в пехоту. И остался в пехоте. Это тоже забавляло Уэлша.
Делая свой выбор, Уэлш считал, что избавился от невзгод депрессии в своей стране и перехитрил государство, и вот теперь, сегодня, 10 ноября 1942 года, он был готов начать расплачиваться за свою оплошность. Уэлш находил забавным и это.
Все забавляло Уэлша. По крайней мере, так он думал. Его забавляло то, что он остался в пехоте, хотя, если бы его спросили, он не смог бы членораздельно объяснить почему, только сказал бы, что это его забавляло. Его забавляла политика, забавляла религия, особенно забавляли идеалы и честность, но больше всего забавляли человеческие достоинства, и он не верил никаким высоким словам. Часто раздраженные друзья настойчиво требовали от него ответа, во что он все-таки верит; тогда он, как всегда точно, отвечал: «в собственность». Обычно это всех бесило, а Уэлшу нравилось бесить людей, но он отвечал так не только поэтому. Родившийся в благовоспитанной и зажиточной протестантской семье, он всю жизнь наблюдал принцип собственности в действии и не видел оснований менять свое мнение из-за какого-нибудь чувствительного гуманиста. Собственность в той или иной форме всегда была в конечном счете той силой, которая все приводит в движение, как бы люди ее ни называли. В этом он был твердо уверен. Тем не менее Уэлш сам никогда не старался приобрести собственность. Больше того, какая бы собственность ни попадала ему в руки, он спешил как можно скорее избавиться от нее. Собственность тоже забавляла Уэлша, как и поспешность, с какой он от нее избавлялся.
Произведения
Критика