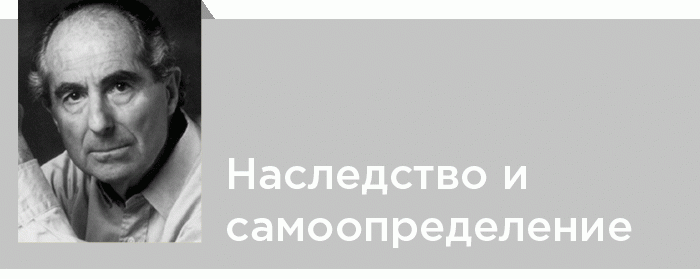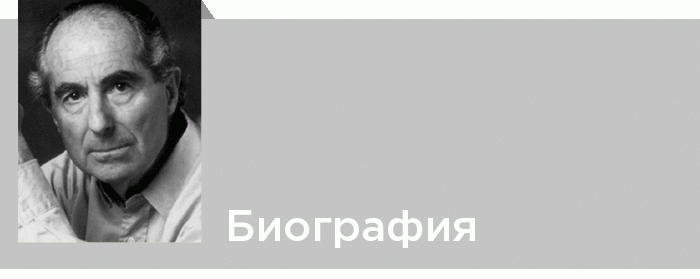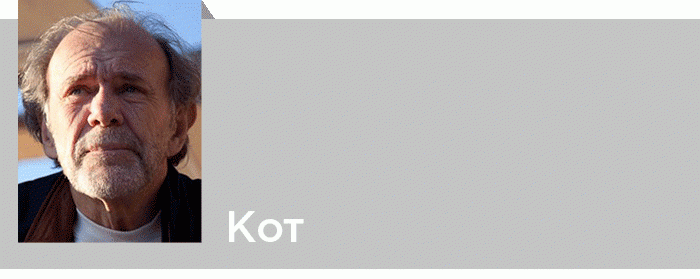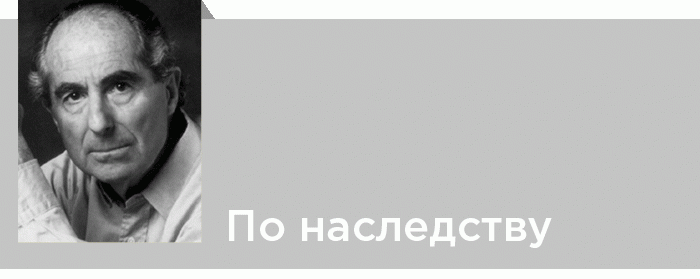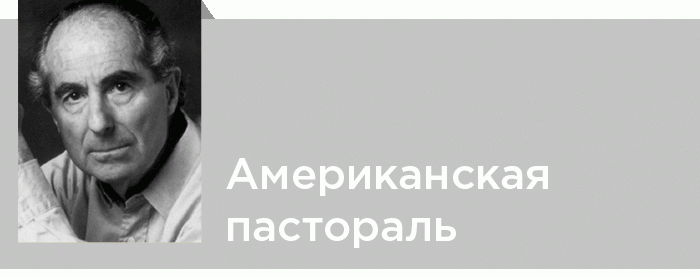Филип Рот. Другая жизнь
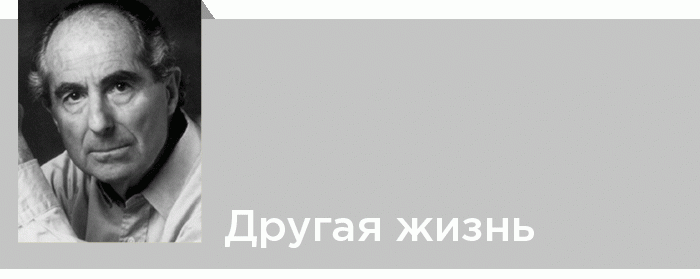
(Отрывок)
БАЗЕЛЬ
Когда семейный доктор, проводивший один из регулярных осмотров, сделал Генри кардиограмму, которая показала, что у него неполадки с сердцем, больного немедленно отправили в госпиталь для катетеризации. Там Генри узнал, насколько серьезно его положение, но после успешно проведенной медикаментозной терапии его состояние улучшилось и он смог снова войти в привычный ритм жизни и вернуться к работе. Он не задыхался и даже не жаловался на боль в груди, хотя и то и другое было бы вполне естественно для пациента с почти полной закупоркой артерий. Никаких симптомов заболевания у него не проявлялось до того самого момента, когда его подвергли очередному рутинному обследованию и выявили серьезные отклонения в сердечной деятельности; Генри боролся с болезнью еще целый год, пока наконец не решился на операцию: никаких признаков нарушения сердечного ритма он по-прежнему не ощущал но от регулярного приема препаратов, поддерживавших его в более-менее стабильном состоянии и уменьшивших опасность неожиданного сердечного приступа, возник ужасающий побочный эффект.
Проблемы начались недели через две после начала приема таблеток.
«Я слышал об этом тысячи раз, — заметил кардиолог, когда Генри позвонил ему и рассказал, что с ним происходит. Его лечащий врач, мужчина лет сорока, который, подобно Генри, был великолепным специалистом в своей области, профессионалом, успешно продвигающимся по служебной лестнице, выразил ему свое глубокое сочувствие. Чтобы восстановить сексуальную функцию у Генри, он предложил снизить дозу лекарственного препарата до минимума, то есть до той степени, пока бета-адреноблокатор еще сможет регулировать коронарную недостаточность и не допускать повышения давления. — Если подобрать подходящую дозу, — обнадежил больного кардиолог, — иногда можно найти „компромисс“».
Они экспериментировали с лекарствами около полугода — сначала меняя дозировку, что не привело ни к каким результатам, затем пробуя перейти на аналоги, выпускаемые другими фармакологическими фирмами, но все впустую. Теперь Генри уже не просыпался с привычной утренней эрекцией и не мог проявить свою мужскую силу, чтобы переспать со своей женой Кэрол или со своей ассистенткой Венди, которая винила во всем себя, считая, что не какие-то там таблетки, а только она несет ответственность за внезапно произошедшие перемены В самом конце рабочего дня, когда опускались шторы и дверь в приемную запиралась на ключ, Венди изо всех сил пыталась расшевелить его, но все ее старания ни к чему не вели; это был тяжкий труд для них обоих, и в конце концов он велел ей прекратить; но когда он силком разжал ей рот, заставив остановиться, его слова только усугубили ее чувство вины. Как-то раз вечером, когда Венди разрыдалась, заявив, что все понимает — не пройдет и нескольких минут как он, покинув кабинет, подцепит себе какую-нибудь шлюху, он не выдержал и влепил ей пощечину. Ах если бы он мог притвориться что разъярен как бык, что чувствует себя, как дикарь в безумии оргазма, Венди смогла бы простить такую нелепую выходку, но в этой пощечие выплеснулся не экстаз, а горькое разочарование ее слепотой. Глупая девчонка, она так ничего и не поняла!.. Конечно же, он и сам многого не понимал — не понимал, какое смятение может вызвать подобная утрата в душе той, что боготворила его.
Через несколько минут он раскаялся в своем поступке, и его замучили угрызения совести. Крепко прижав к себе всхлипывающую Венди, Генри пытался убедить ее, что он круглые сутки думает только о ней, и, хотя он и не собирался этого говорить, попросил ее о позволении подыскать ей работу в какой-нибудь другой стоматологической клинике, иначе она будет каждую минуту напоминать ему о том, чего он нынче лишен. В рабочие часы на него иногда накатывала волна страсти, и он утайкой ласкал ее или с острой тоской об утраченном желании наблюдал, как она двигалась по кабинету в облегающем ее стройную фигуру белом халатике и брюках, но, внезапно вспомнив о крохотных розовых таблетках от сердца, снова погружался в отчаяние. Вскоре Генри начали овладевать безудержные, неистовые фантазии: ему мерещилось, что боготворившая его женщина, готовая пойти на все ради восстановления его потенции, прямо у него на глазах занимается любовью с тремя, четырьмя или пятью мужчинами сразу.
Он не мог управлять своими фантазиями, в которых ему представал образ Венди, развлекающейся сразу с пятью самцами, более того, сидя в кинозале рядом с Кэрол, он предпочитал опускать глаза пережидая, пока на экране не закончится любовная сцена. Его начинало мутить, когда он, зайдя в парикмахерскую, натыкался на груды разбросанных там и сям журналов с фотографиями полуобнаженных девиц. Ему с трудом удавалось усидеть за столом во время обеда, когда кто-нибудь из друзей начинал рассказывать неприличные анекдоты или отпускать шуточки насчет секса, — так сильно было его желание встать и уйти. У него появилось ощущение, что он превратился в малосимпатичного старика нетерпимого, брюзгливого пуританина, с неприязнью взирающего и на преисполненных силы мужчин, и на возбуждающих желание женщин, что были обоюдно поглощены эротическими играми. Кардиолог, посадивший его на таблетки, сказал: «Забудьте о своем сердце и живите полной жизнью». Но как он мог жить полной жизнью, если пять дней в неделю, с девяти до пяти, он видел перед собой Венди!
Он снова обратился к своему лечащему врачу — серьезно поговорить об операции. Кардиолог постоянно выслушивал подобные просьбы. Он терпеливо объяснял Генри, что хирурги против операционного вмешательства в случае асимптоматического протекания болезни и уж тем более в том случае, когда заболевание удалось купировать с помощью медикаментозного лечения. Если Генри все же предпочтет сложную операцию долгим годам жизни без секса, то он будет уникальным пациентом, решившимся на подобный шаг; однако доктор настоятельно советовал ему подождать: с течением времени он наверняка сумеет приспособиться к своему нынешнему состоянию. Хотя Генри и не был первым в ряду кандидатов на операцию по аортокоронарному шунтированию, но и последним — вследствие местоположения закупоренных сосудов — его тоже нельзя было считать.
— Что вы хотите этим сказать? — спросил Генри.
— Я хочу сказать, что операция на сердце — не увеселительная прогулка; даже при идеальных условиях это риск. А в вашем случае — тем более. Мы иногда теряем людей. Так что живите с тем, что есть.
Слова кардиолога настолько испугали Генри, что, приехав домой, он сразу же принялся вспоминать тех представителей сильного пола, кто по необходимости живет без женщин, причем в гораздо более суровых условиях, чем он сам: мужчины в тюрьме, мужчины на войне… но вскоре опять представил себе Венди, принимавшую разнообразные позы, для того чтобы он мог в нее войти всевозможными способами, когда у него еще была эрекция; видя ее образ перед собой, он желал ее так же жадно, как мечтает о женщине преступник, сидящий в одиночной камере, только он не мог прибегнуть к дикарской, стремительной разрядке, которая окончательно сводит с ума заключенного в одиночке. Он вспомнил о том времени, когда легко обходился без женщин, — маленький мальчик в допубертатном периоде, — был ли он когда-либо более счастлив, чем в те далекие сороковые годы, в те летние месяцы на побережье? Представь, что тебе снова одиннадцать… Но это не срабатывало. Во всяком случае, это было не лучше, чем представлять себя заключенным, отбывающим срок в тюрьме Синг-Синг. Он вспомнил об ужасных, неконтролируемых страстях, вызванных необузданным желанием: сумасшествие горячечного бреда, жестокие страдания и мечты о предмете своего вожделения, а когда одна из красоток становится тайной любовницей — плетение интриг, тревога и обман. Наконец он снова станет верным мужем для Кэрол. Ему никогда не придется лгать своей жене — теперь незачем будет лгать. Ничего не осталось. И он, и Кэрол снова будут наслаждаться простыми, честными и доверительными отношениями в браке — такими, какими они были до того мгновения, пока в его кабинете не появилась Мария, чтобы починить зубную коронку.
Когда он впервые увидел ее, его настолько потрясло ее шелковистое зеленое платье, бирюзовые глаза и европейская утонченность, что он едва мог вести с ней связную беседу на профессиональные темы, в чем обычно преуспевал, даже не помышляя о флирте, пока Мария сидела в его зубоврачебном кресле, послушно открыв рот Судя по тем формальным отношениям, сложившимся у них во время ее четырех визитов, он и представить себе не мог, что по прошествии десяти месяцев, как раз накануне возвращения в Базель, Мария признается ему: «Я никогда раньше не думала, что смогу любить двух мужчин одновременно».
Он и представить не мог, что их расставание окажется таким трагичным, — ощущения были настолько новы для обоих, что даже супружеская измена стала для них девственно-непорочным актом. Генри никогда и в голову не приходило, пока Мария не сказала ему об этом, что мужчина с его внешними данными может переспать практически с любой мало-мальски привлекательной женщиной в городе. Его никогда не обуревало тщеславие по поводу своих сексуальных подвигов, и по натуре он был глубоко застенчив; несмотря на молодость, он уже успел привыкнуть к тому, что им управляют чувства приличия, усвоенные с юных лет, и он никогда не задавал себе серьезных вопросов по поводу морали. Обычно дело обстояло так: чем привлекательнее была женщина, тем сдержанней вел себя Генри; при появлении незнакомки, которую он считал исключительно желанной, он замыкался в себе, становился безнадежно унылым занудой, теряя всю свою непосредственность, и часто заливался густой краской, если ему выпадала возможность быть представленным новой гостье. Вот таким он был когда-то — верным мужем и хорошим семьянином; вот почему он стал верным мужем и хорошим семьянином. А теперь он снова был обречен на супружескую верность.
Самым трудным в привыкании к таблеткам было само привыкание. Его шокировала мысль, что он должен жить без секса. Да, без секса можно было обходиться, и он обходился без него, но именно это и убивало его: когда-то он был не способен жить без секса, — убивала одна только мысль о прошлом. Приспособление к новому образу жизни означало, что теперь он всегда будет так жить, а он не желал «так жить», и его еще больше угнетал прозрачный эвфемизм выражения «так жить». Тем временем «процесс привыкания» шел своим чередом, и спустя восемь или девять месяцев с того разговора, когда кардиолог просил его не принимать скоропалительных решений и не подвергаться операции, пока время не окажет нужного воздействия и не проявится терапевтический эффект, Генри уже не мог вспомнить, что такое эрекция вообще. Пытаясь понять, как это бывает у мужчин, Генри представлял себе картинки из порнографических комиксов, запрещенных неприличных книжиц, которые раскрывали детям его поколения тайную сторону карьеры Дикси Даган. Его преследовали возникавшие в воспаленном мозгу образы гигантских половых членов, а также облик Венди, развлекающейся со всеми мужчинами, которым принадлежали эти колоссальные орудия страсти. Он воображал себе, как Венди сосет эти восставшие башни. Он начал тайно, как идолам, поклоняться всем, кто обладал потенцией, как если бы он сам уже ничего не значил как мужчина. Несмотря на внешнюю привлекательность — он был высокого роста, атлетически сложен и черноволос, — ему казалось, что за одну ночь он, как по мановению волшебной палочки, превратился из здорового сорокалетнего мужчины в восьмидесятилетнего старика.
Воскресным утром, мрачно объявив Кэрол, что собирается прогуляться по холмам Национального парка, «чтобы побыть наедине с собой», как объяснил он, Генри направился в Нью-Йорк — повидаться с Натаном. Он не позвонил ему заранее, поскольку хотел иметь возможность для отступления в любую минуту, на тот случай, если вдруг передумает сочтя это предприятие дурной затеей. Они уже давно перестали быть подростками, ночевавшими в одной спальне и делившимися своими сногсшибательными тайнами друг с другом, — со времени смерти родителей они перестали считать себя братьями. И все же ему был необходим хоть кто-то, кто мог его выслушать. Кэрол считала, что он не должен даже думать об операции, если она связана хотя бы с малейшим риском оставить троих детей без отца, — вот и все, что она могла ему сказать. Теперь болезнь находилась под контролем, к тому же к своим тридцати девяти годам он достиг внушительных успехов на различных поприщах. И почему это вдруг стало так важно для него, когда они давно уже не занимались любовью по-настоящему: время страстей прошло. Она не жаловалась, такое случается со всеми, — у всех супружеских пар, которые она знала, дела обстояли точно так же.
— Но мне всего тридцать девять! — воскликнул Генри.
— Мне тоже, — парировала она, желая воззвать к его благоразумию. — Но после восемнадцати лет замужества я не могу рассчитывать на то, что наш брак будет похож на страстный роман юных влюбленных.
Ничего более жестокого жена не могла сказать своему мужу: для чего нам вообще нужен секс? Он презирал ее за такие слова, он ненавидел ее, — и вот именно тогда Генри решился поговорить с Натаном. Он ненавидел Кэрол, он ненавидел Венди, и если бы рядом с ним была Мария, он ненавидел бы и ее. Он также ненавидел и всех мужчин, мужчин с огромными твердыми фаллосами, которые красовались на картинках «Плейбоя», — его тошнило при одном только взгляде на них. Отыскав стоянку у восточного конца Восьмидесятой стрит и увидев телефон-автомат, Генри решил позвонить Натану; прислушиваясь к гудкам в трубке, он заметил корявую надпись на изодранном манхэттенском телефонном справочнике, прикованном цепью к будке: «Хочешь, отсосу? Мелисса: 879-00-74». Нажав на рычаг прежде, чем Натан успел ответить на звонок, Генри набрал 879-00-74. Трубку снял какой-то мужчина.
— Мне Мелиссу, — сказал Генри и повесил трубку. Он снова набрал номер Натана и, досчитав до двадцати гудков, дал отбой.
Ты не можешь оставить детей без отца!
Подъехав к зданию из коричневатого песчаника и зайдя в пустынный вестибюль, он написал брату записку, которую тотчас же порвал в клочья. В гостинице на углу Пятой авеню он нашел таксофон и снова набрал 879-00-74. Несмотря на бета-блокатор, который, как предполагалось, должен был контролировать выброс адреналина во избежание перегрузки коронарных сосудов, сердце у него колотилось как бешеное, — Генри превратился в дикаря, охваченного неистовой страстью, — никакому врачу не понадобился бы стетоскоп, чтобы услышать, как оно билось. Схватившись за сердце, Генри считал гудки, и наконец чей-то голосок, похожий на детский, ответил:
— Алло?
— Мелисса?
— Да.
— Сколько тебе лет?
— А кто это?
Он вовремя повесил трубку. Казалось, сердце вырвется у него из груди. Еще пять, десять, пятнадцать таких ударов — и все было бы кончено. Постепенно пульс выровнялся, и сердце стало напоминать колесо от телеги, что медленно, то и дело застревая в колеях, тащится по грязи.
Генри понимал, что ему нужно позвонить Кэрол, чтобы та не волновалась, но вместо этого пересек улицу и направился к Центральному парку. Он подождет еще час, и если Натан не объявится к этому времени, он забудет об операции и поедет домой.
Он не может оставить детей без отца!
Обогнув музей и войдя в подземный переход, в его дальнем конце он увидел белого парнишку лет семнадцати, который медленно, как бы с ленцой, въезжал в тоннель на роликах, — на плече у него болтался портативный радиоприемник. Звук был включен на полную мощь — из громыхающего динамика лилась песня Боба Дилана: «Леди, ляг, леди, ляг, ляг на мою кровать…» Это было как раз то, в чем Генри остро нуждался в тот момент. Широко улыбаясь и приветственно подняв руку, сжатую в кулак, парень, будто совершенно случайно натолкнувшись на старого доброго приятеля, крикнул, катясь ему навстречу:
— Мы снова в шестидесятых, чувак!
Звук его голоса глухо отразился в полутемном тоннеле, и Генри дружелюбно отозвался:
— Я с тобой, приятель!
Но когда подросток проехал мимо него, он не смог больше сдерживать свои чувства: эмоции переполняли его, и в конце концов он разрыдался Как вернуть все обратно, думал он, шестидесятые, пятидесятые, сороковые, как вернуть все летние месяцы, проведенные на берегу в Джерси, как вернуть запах свежих булочек, доносившийся из кондитерской на первом этаже отеля «Лоррен», или те времена, когда они ранними утрами прямо с лодки торговали рыбой?.. Он стоял в тоннеле позади музея, и перед ним разворачивались воспоминания о самых невинных забавах в самые невинные месяцы и годы его жизни: воспоминания о бесследно ушедших днях, наполненных радостью и восторгом, — они осели в нем, как ил на дне, они забивали его память, как отложения на стенках артерий, ведущих к его сердцу. Дощатая дорога вдоль пляжа, а если пройти несколько шагов вперед — кабинка с водопроводным краном снаружи, где можно было смыть с ног налипший песок. Площадка аттракционов в Эсбери-парк с палаткой «Угадай свой вес». Мать, облокотившаяся на подоконник — посмотреть, не начался ли дождь, — и бегущая во двор снимать с веревки белье. Ожидание автобуса в сумерках после субботнего дневного сеанса в кино. Да человек, с которым сейчас происходила вся эта история, когда-то был мальчишкой, ждавшим «четырнадцатый» автобус вместе со своим братом. Такие метаморфозы просто не умещались у него в голове — с тем же успехом он мог пытаться проникнуть в тайны физики элементарных частиц. Он не мог поверить, что человек, которому выпала такая незавидная участь, — это он сам, и то, что предстоит вынести этому человеку, придется вынести и ему. Верните мне прошлое, отдайте мне настоящее и будущее — ведь мне всего тридцать девять!
Он не стал еще раз заходить к Натану в тот день: ему трудно было сделать вид, будто между ними ничего не произошло с тех пор, как они были мальчишками и жили вместе с родителями. По дороге домой Генри думал, что ему следовало бы навестить Натана, потому что тот был единственным близким родственником, — никого больше не осталось из всей его семьи, но потом решил, что семьи у него больше нет: связи разорваны, и теперь они далеки друг от друга, Натан сам устроил это, нагородив кучу ерунды про него в своей книге, а Генри подлил масла в огонь, обрушив жестокие обвинения на брата после смерти отца, скончавшегося во Флориде от сердечного приступа: «Это ты убил его, Натан. Никто, кроме меня, тебе этого не скажет — все боятся даже рот раскрыть в твоем присутствии. Но знай, это ты убил его своей книгой».
Нет, если я признаюсь брату, что они с Венди вытворяли в течение трех лет, работая бок о бок в стоматологическом кабинете, сукин сын Натан только возрадуется: я тем самым подброшу ему еще один сюжет для нового романа про Карновски. Ну какой же я был идиот, когда лет десять тому назад рассказал ему все про Марию — и о деньгах, что я давал ей, и о черном белье, и о вещах, принадлежавших ей, которые я хранил в своем сейфе! Меня просто распирало, и я должен был хоть с кем-нибудь поделиться своими чувствами, но тогда мне и в голову не приходило, что мой родной брат будет не только разглашать, но и искажать наши семейные тайны и что мои сокровенные мысли станут источником его доходов! Он не станет мне сочувствовать — он и слушать меня не станет! «Знать ничего не знаю. И знать не желаю, — скажет он из-за закрытой двери, глядя на меня через глазок. — А вдруг я напишу об этом в своей новой книге, а тебе это совсем не понравится?»
Конечно, он будет не один, а с какой-нибудь бабой — либо очередная жена на вылете, наскучившая ему до полусмерти, либо кто-то из многочисленных поклонниц его таланта. А может, и обе сразу. Я этого не вынесу.
Вместо того чтобы сразу поехать домой, он, вернувшись в Джерси, завернул к Венди и, поднявшись к ней в квартиру, заставил ее изображать двенадцатилетнюю черную проститутку, девчонку по имени Мелисса. Ради Генри она готова была стать кем угодно: хоть негритянкой, хоть двенадцатилетней девочкой, хоть десятилетней, — но из-за таблеток, которые он принимал, это уже не имело смысла. Он велел ей раздеться догола и ползти к нему на коленках через всю комнату, а когда она покорно исполнила его желание, ударил ее. От этого никому не стало лучше. Его нелепая жестокость не смогла, как хлыстом подстегнуть его эрекцию, и он уже во второй раз за день, зарыдал. Венди, беспомощно глядя на плачущего Генри, гладила ему руку.
— Это уже не я! Я не тот, кем был раньше! — стонал он.
Венди, на которой был лишь пояс с подвязками, устроилась у его ног.
— Любимый, — проговорила она сквозь слезы, — тебе необходимо лечь на операцию, иначе ты сойдешь с ума!
В тот день Генри вышел из дому около девяти утра, а вернулся только к семи вечера. Думая, что ее муж лежит где-нибудь при смерти или уже мертв, в шесть Кэрол позвонила в полицию и попросила найти его машину, сообщив, что Генри утром отправился погулять по холмам резервации и до сих пор не возвращался домой. В полиции ей обещали немедленно приступить к розыску. Генри разволновался, узнав, что жена звонила в полицию, — он рассчитывал на ее поддержку: Кэрол была сильнее Венди, а теперь она сломалась, как и его подруга — своими выходками он достал их обеих.
Он пребывал в тяжелой депрессии; он был ошеломлен и подавлен из-за перемен, произошедших в его организме, и никак не желал мириться с природой той утраты, которую понесли обе заинтересованные стороны.
Когда Кэрол спросила его, почему он ей не позвонил и не сообщил, что будет дома только к ужину, он ответил ей обвиняющим тоном: «Потому что я импотент!» — будто в этом была виновата жена, а не лекарственный препарат.
Да, виновата была именно она. Он был абсолютно уверен в этом. Все произошло из-за того, что он остался с ней, считая себя ответственным за судьбу детей. Если бы он развелся с женой десять лет назад, если бы оставил Кэрол и троих детей и начал бы новую жизнь в Швейцарии, он никогда бы не заболел! Врачи сказали, что стрессы являются основной причиной заболеваний сердца, а он перенес тяжелейший стресс, когда ему пришлось оставить Марию, — и вот к чему это привело. Чем же еще можно было объяснить такую серьезную болезнь у такого молодого и физически крепкого человека, как он? Теперь ему приходилось расхлебывать последствия своей слабости: ему нужно было брать от жизни все, что хочется, а не капитулировать перед обстоятельствами. В награду за то, что он всегда был верным мужем, хорошим отцом и сыном, он получил болезнь! Вот живешь ты, живешь на одном и том же месте, и никаких возможностей сбежать у тебя нет, и вдруг на твоем пути появляется такая замечательная женщина, как Мария, но ты, вместо того чтобы усилием воли стать эгоистом, выбираешь добродетельную порядочность.
Когда Генри появился в клинике для очередного осмотра кардиолог провел с ним серьезную беседу. Он напомнил своему пациенту, что с тех пор, как тот принимает прописанные ему препараты, симптомы сердечной недостаточности, вызывавшие серьезное беспокойство, стали менее явными, что отчетливо видно на последней кардиограмме. Давление было под контролем, и, в отличие от других больных, которые даже зубы не могут почистить без того, чтобы у них не случился приступ стенокардии, он может работать стоя весь день, при этом не задыхается и не ощущает никакого дискомфорта. Врач уверил его в том, что в случае ухудшения, которое наступало бы постепенно, признаки развивающегося заболевания были бы видны на ЭКГ или же изменилась бы симптоматика. Будь с ним такое, они бы пересмотрели свои взгляды на необходимость хирургического вмешательства. Кардиолог также напомнил Генри, что он, не подвергая опасности свое здоровье, может прожить в таком режиме еще лет пятнадцать-двадцать, а к тому времени операция на открытом сердце станет уже отжившей методикой; он предсказал, что в девяностые от закупорки артерий будут лечить иначе, без хирургического вмешательства Бета-адреноблокатор скоро заменят препаратом который не будет влиять на центральную нервную систему и не будет вызывать такие неприятные побочные эффекты, — прогресс в науке неизбежен. А пока как он уже рекомендовал Генри, но готов еще раз повторить свои слова ему следует забыть о болезни сердца и дышать полной грудью.
— Считайте это лекарство гарантом вашей жизни, — закончил кардиолог, легонько стукнув пальцем по столу.
Неужели это все, что доктор может ему сказать? Что он должен сейчас сделать? Встать и пойти домой? В ответ Генри уныло пробормотал:
— Для меня это большой удар… Я не могу жить без секса…
Жена кардиолога была знакома с Кэрол, поэтому Генри ничего не мог рассказать врачу ни о Марии, ни о Венди, ни о двух других своих пассиях в промежутке. Он не мог объяснить, что именно все они значили для него.
— У меня в жизни еще не было такой тяжелой утраты.
— Значит, жизнь вас мало била, — отрезал кардиолог.
Генри не ожидал такого жестокого ответа, он даже оцепенел на мгновение. Как можно говорить подобные вещи такому уязвимому человеку, как он! Теперь он возненавидел и доктора.
В тот вечер, вернувшись в свой кабинет, он снова позвонил Натану, который мог стать его единственным утешением. На сей раз Генри повезло: брат оказался дома. Едва сдерживая рыдания, он рассказал старшему брату, что серьезно болен, и попросил разрешения навестить его. Более он не мог оставаться наедине со своим горем.
Разумеется, Кэрол не ждала, что великий писатель обрушит на нее стандартные три тысячи слов, когда она, несмотря на разногласия, заставившие братьев отдалиться друг от друга, позвонила Натану вечером накануне похорон и попросила произнести прощальную речь. Вряд ли Цукерман был не в курсе последних событий или выказал безразличие к условностям, приличествующим подобным случаям, — так уж получилось, что, начав писать, он уже не мог остановиться и, просидев за письменным столом всю ночь, соткал историю жизни Генри из того немногого, что было ему известно.
Добравшись до Джерси на следующее утро, он сказал Кэрол почти правду: у него ничего не вышло.
— Мне очень жаль, — извинился он. — Все, что я написал, никуда не годится. С тем, что есть, нельзя выступать. — «Теперь, — подумал Натан, — Кэрол будет считать, что если уж писателю нечего сказать на похоронах родного брата, значит, его переполняют противоречивые чувства или же внезапно замучили угрызения совести. Что ж, для него будет меньше вреда, если только Кэрол подумает о нем плохо, нежели он произнесет на похоронах неуместную в данных обстоятельствах речь перед целой толпой скорбящих».
Но Кэрол сказала ему лишь то, что обычно говорится в таких случаях: она все понимает. Она даже поцеловала его, хотя никогда не была его большой поклонницей.
— Ничего страшного. Не волнуйся. Мы просто не хотели, чтобы ты остался в стороне. Ваши ссоры больше ничего не значат. Все позади. Сегодня важно лишь то, что вы были братьями.
Прекрасно, прекрасно. А как насчет написанных им трех тысяч слов? Беда в том, что слова, совершенно неуместные для похорон, были теми самыми словами, которые жгли все его нутро.
Еще и суток не прошло с той секунды, как Генри покинул этот мир, а новое сочинение уже выпирало из Натанова кармана, пылая, словно раскаленные угли. Ему предстоял трудный день, который надо было прожить до конца, — он воспринимал этот день не как свидетельство того, что происходит вокруг, а как продолжение своей творческой работы, будущей работы. Так как ему не удалось найти применение своему ораторскому таланту, чтобы сложить воедино обрывки детских воспоминаний и произнести десяток-другой сентиментально-трогательных слов утешения, он решил, что ему не место среди собравшихся, — он не мог прикидываться этаким добропорядочным джентльменом, оплакивающим своего безвременно ушедшего брата; в ту минуту он опять почувствовал себя чужаком. Входя в синагогу вместе с Кэрол и ее детьми, он подумал: «Вот гребаное ремесло! И горе, и радость испоганит!»
Хотя синагога была просторной, в ней некуда было яблоку упасть: в самом конце зала и в проходах толпилось двадцать-тридцать подростков — местные юноши и девушки, чьи зубы лечил Генри, когда они были еще детьми. Юноши, уставившись в пол, стоически молчали, а девушки в большинстве своем плакали. В одном из задних рядов сидела молодая стройная блондинка, почти девочка, на которую Цукерман не обратил бы никакого внимания, если б не искал ее специально; он бы нипочем ее не опознал, если бы Генри не притащил ее фотографию во время своего второго визита к нему.
— На этом фото, — предупредил его Генри, — она плохо получилась.
Однако Цукерман пришел в восхищение:
— Какая хорошенькая! Я тебе даже завидую.
Генри, его чересчур уверенный в себе младший брат, самодовольно хмыкнул:
— К сожалению, она не фотогенична. В жизни она гораздо лучше. На снимке этого не видно.
— Еще как видно! — ответил Натан, удивляясь тому как простовато она выглядит. Нет, удивляться было нечему. Мария, которую Генри расхваливал ему как писаную красавицу, тоже не была умопомрачительно хороша на фотографии, но по крайней мере привлекала внимание симметричностью черт в суровом тевтонском стиле. Но эта — бледная спирохета, невзрачная мандавошечка… Он вспомнил Кэрол, ее густые вьющиеся волосы, длинные черные ресницы… Нет, по сравнению с этой чахлой немочью Кэрол казалась намного эротичней и привлекательней. Ему, конечно, нужно было силком вернуть фотографию Венди брату, сунуть ее обратно; скорее всего, Генри принес ему карточку не просто так, а чтобы найти в себе силы принять то или иное решение. Он специально приволок эту фотку, чтобы услышать от Натана: «Иди ты в жопу, идиот! Нет, и еще раз нет! Уж если ты остался с Кэрол, вместо того чтобы сбежать с Марией, которую ты по-настоящему любил, ради кого и чего ты решился на серьезную операцию? Не из-за этой ли плоскодонки, которая каждый вечер заводит тебя на работе перед уходом домой? Я уже выслушал твои доводы в пользу операции; до сего момента я молчал, но теперь хочу вынести окончательный приговор: нет и еще раз нет! Это приказ».
Но поскольку Генри в тот момент был еще жив, а не мертв, он гневался на брата за то, что человек с такими шаткими моральными устоями, как Натан Цукерман, мешает ему, встает на его пути, осуждая за единственный, мелкий и безобидный проступок, ведь он выбрал Венди в качестве компромисса, отказавшись от всего, о чем мечтал, а значит, и от себя; он не уехал в Европу, чтобы начать там новую жизнь с женой-европейкой, он не поселился в Базеле навечно, не стесненный никакими условностями бывший американец, здоровый и сильный процветающий стоматолог. Тут Цукерман задумался, и мысли его сложились в следующие строки: «Это его душа восстала против того, что он сотворил, — он нашел выход своей бурной энергии, тому, что осталось от его неистовой страсти. Естественно, он пришел ко мне не для того, чтобы я сообщил ему, что жизнь жестока, что жизнь всегда чинит препятствия — на то она и жизнь, и ее надо принимать такой, какая она есть. Он пришел ко мне не за тем, чтобы оспаривать этот факт в моем присутствии, поскольку самоотречение не самая сильная моя сторона, я, в их понимании, безрассудный, импульсивный человек, которому на все наплевать. И мне в семье была определена роль исчадия ада, а мой братец всегда считался образцом для подражания. Нет, поскольку я всегда считался злым гением для своего брата и к тому же был отмечен клеймом безответственности, я теперь не могу по-отечески, ласково увещевать Генри: „Тебе не нужно то, чего ты хочешь, мой мальчик! Брось свою Венди, и ты будешь меньше страдать“.
Нет, Венди была его свободой, воплощением его мужской силы, и совсем неважно, что мне она показалась блеклым олицетворением скуки.
Она славная киска, хоть и с задвигом — съехала на оральном сексе, но во всяком случае брат может быть совершенно уверен, что эта штучка никогда не будет звонить ему домой, — так почему ж не иметь ее, когда ему вздумается? Чем больше я вглядывался в эту картину, тем больше понимал его позицию. Неужели наш бедный мальчик хочет слишком многого?»
Но стоя так близко от гроба своего единственного брата, что можно прикоснуться к крышке из отполированного красного дерева щекой, начинаешь думать совсем о другом. Когда Натан делал над собой огромное усилие, чтобы представить Генри, лежавшего в гробу, — вместо умолкшего навек родного человека, лишившегося мужской силы, вместо пышущего любовным жаром искателя приключений на стороне, который отверг вынесенный ему приговор и не согласился с утратой потенции, он видел перед собой десятилетнего мальчика во фланелевой пижамке. Как-то раз, в Хеллоуин, когда они были еще детьми, через несколько часов после того, как Натан привел брата домой, всласть наигравшегося в «кошелек или жизнь» с соседскими ребятами, все легли спать, а Генри во сне встал, побродил немного по комнате, потом вышел на улицу и босиком, даже без тапочек, отправился на тот угол, где их улица пересекалась с Ченселлор-авеню. По счастливой случайности в тот самый момент, когда Генри уже собирался сойти с тротуара и перейти улицу на красный свет, к перекрестку подъехал их сосед и друг семьи, живущий неподалеку на Хиллсайд. Он резко остановился и в свете уличного фонаря сразу же узнал мальчишку; поняв, что это сынишка его приятеля Виктора Цукермана, сосед доставил Генри домой, и несколько минут спустя ребенок был снова уложен в кровать и укрыт теплым одеялом. Генри был потрясен, узнав на следующее утро, что он вытворял, погрузившись в глубокий сон, и услышав рассказ о странных обстоятельствах, способствовавших его чудесному спасению. Все свое отрочество и юность он продолжал мечтать о героических поступках — например, собирался вступить в спортивную команду и бегать на длинные дистанции с барьером; он, должно быть, не одну сотню раз рассказывал разным людям историю об опасном ночном путешествии, которое совершил в полной отключке.
Но теперь он лежал в гробу, наш мальчик-лунатик. Теперь его уже никто не приведет домой и не уложит спать, подоткнув одеяло, после долгих сомнамбулических хождений по ночам, — теперь он уже не сможет торжественно обещать, что никогда не будет вытворять таких штучек, как в Хеллоуин. Вот с таким же хладнокровием, погрузившись в транс, как спящий Геракл, и предварительно сделав себе вливание изрядной дозы бравады, присущей ковбоям Дикого Запада, он предстал на пороге у Натана, только что покинув кабинет после консультации с хирургом. Цукерман был удивлен: не так представляешь себе пациента, который только что вышел из клиники, где ему сообщили, что вскорости ему распорют брюхо.
На письменном столе Натана Генри развернул большой лист бумаги с диаграммой, напоминающей «кленовый лист» — пересечение автомобильных дорог. Это был рисунок врача, на котором были помечены места для трансплантатов. Сама операция, как объяснил Генри, не сложнее пломбировки корневого канала в зубе. Хирург заменит вон тот сосуд и вон этот, потом подтянет их вот сюда и поставит три шунта вместо трех маленьких сосудов, соединив их вот с этим большим сзади, вот вам и весь шмир — всего-то и делов! Хирург, ведущий манхэттенский специалист в своей области, послужной список которого Цукерман изучил вдоль и поперек, сообщил Генри, что делал операции с пятикратным коронарным шунтированием тысячи раз, и уверил его, что ни на секунду не сомневается в стопроцентном успехе. Теперь уже Генри пришлось бороться со всеми своими сомнениями: он хотел пойти на операцию в твердой уверенности, что все кончится хорошо. Он выйдет из операционной с новенькой системой коронарных сосудов, чистых и незакупоренных, которые будут гонять кровь через его крепкое, здоровое сердце.
— А потом — никаких таблеток? — спросил хирурга Генри.
— Да это уж как ваш кардиолог скажет, — ответил тот. — Может быть, какое-нибудь легонькое средство от давления, но никак не те лошадиные дозы, которые вам скармливают сейчас.
Цукерман задумался: уж не показывал ли Генри, впавший в эйфорию от блистательных медицинских прогнозов, эту глянцевую — одиннадцать на восемь с половиной дюймов — фотографию своему хирургу, на которой красовалась Венди в одном лишь поясе с подвязками? Казалось, брат, заехавший к нему, просто помешался на фотокарточке, хотя, быть может, ему это было позарез необходимо, чтобы закалить себя перед таким суровым испытанием.
Когда Генри, набравшись наконец духу, перестал засыпать врача бессмысленными вопросами и поднялся, чтобы уйти, тот уверенно проводил его до дверей.
— Если мы будем действовать заодно, — сказал Генри хирург, пожимая ему руку, — у нас не возникнет никаких проблем. Через недельку-другую вы будете как огурчик, мы вас выпишем из больницы, и вы вернетесь к семье совершенно другим человеком.
С того места, где сидел Цукерман, наблюдая за операцией, не было видно, принимает ли Генри, лежавший на операционном столе, активное участие в процессе.
Вообще-то Цукерман не понял, что именно должен делать его брат, чтобы помочь хирургу. Такое возможно лишь в сомнамбулическом трансе. Ах мой бедный братишка, маленький лунатик! Как ты мог умереть? Неужели это ты лежишь там, в гробу, мой золотой, послушный мальчик? И все это из-за того, чтобы провести двадцать счастливых минут с Венди перед уходом домой, возвращаясь к семье, которую ты любил? Или ты пускал мне пыль в глаза? Не может быть, чтобы твой отказ от жизни без секса был для тебя сродни героическому поступку, потому что единственным, что подсознательно угнетало тебя, была жажда славы. Я знаю, что говорю. В противоположность тому, что ты думаешь, я никогда не относился пренебрежительно к тем ограничениям, которые ты налагал на себя ради процветания, как и к рамкам приличия, которые ты соблюдал, хотя всегда осуждал чрезмерные вольности, которые, с твоей точки зрения, я себе позволял. Ты поделился со мной своими переживаниями, полагая, что я пойму, чем привлекают тебя губы Венди, и в этом ты был прав. Ее рот значил для тебя гораздо больше, чем сладкое удовольствие. Это был твой маленький вклад в театральность своего существования, в нарушение норм; это были твои рискованные, шальные проделки, твой ежедневный маленький бунт против всех добродетелей, которыми ты был пропитан до мозга костей; ты предавался безудержному разврату с Венди по двадцать минут в день, а затем, как верный муж, аккуратно шел домой вкушать радости семейной жизни. Славянские губы Венди имели для тебя вкус приключения, безумной эскапады. Что ж, все это старо как мир, дорогой мой. Весь земной шар вертится, следуя этим законам. И все же каждый хочет иметь больше, чем у него есть. Еще давай, еще! Как же так получилось, что образцово-показательный ребенок с острым чувством перфекционизма, каким ты был когда-то, сыграл в ящик ради чьих-то прекрасных губ? Почему я не остановил тебя?
Цукерман занял место в первом ряду, у прохода, рядом с Биллом и Беа Гофф, родителями Кэрол. Кэрол сидела в центре, подле своей матери. С другой стороны расположились его дети: одиннадцатилетняя дочь Эллен, четырнадцатилетний подросток, его сын Лесли, а в дальнем конце ряда, у другого прохода, — тринадцатилетняя дочь Рут. Рут, не выпуская из рук скрипки, неотрывно глядела на гроб. Двое других застыли, не поднимая глаз: они лишь коротко кивали в ответ, когда Кэрол обращалась к ним. В конце службы Рут должна была сыграть на скрипке пьеску, которую любил ее отец, а Кэрол — сказать прощальное слово. «Я спросила дядю Натана, не хочет ли он что-нибудь сказать, но он ответил, что слишком взволнован и не может говорить. Его потрясла смерть брата, и я его хорошо понимаю. То, что я сейчас скажу, нельзя назвать речью. Это всего лишь несколько слов о нашем дорогом отце, и я хочу, чтобы все их услышали. Я не умею красиво говорить, но то, что я скажу, для меня очень важно. Сейчас мы отнесем его на кладбище, там будет только наша семья: папа, мама, дядя Натан, я и трое наших с Генри детей. Мы попрощаемся с ним на кладбище — самые близкие ему люди, а потом вернемся сюда и останемся с родственниками и друзьями».
На мальчике был пиджак с золотыми пуговицами и пара новеньких желто-коричневых ботинок, а на девочках, несмотря на то что стоял конец сентября и солнце то и дело скрывалось за облаками, — летние платья пастельных тонов. Все отпрыски Генри были высокими и смуглыми — типичные сефарды, как и их отец, и у каждого были густые черные брови, контрастирующие с невинными личиками избалованных детей. У каждого были прекрасные глаза цвета жженого сахара, на полтона светлее и менее интенсивного оттенка, чем у Генри, — три пары глаз, похожих друг на друга, влажных от слез и сияющих, полных изумления и страха. Все дети были похожи на испуганных зверушек, пойманных и посаженных в клетку а потом красиво обутых и одетых. Из всех троих племянников Цукерману больше всех нравилась Рут, второй ребенок брата: она прилежно слушала, стараясь подражать спокойствию своей матери, несмотря на тяжелую утрату. Лесли, старший мальчик, казался самым чувствительным из всех детей и самым женственным — он чуть не упал в обморок во время церемонии, но, незадолго до того как все должны были отправиться в синагогу, отвел в сторонку мать, и Цукерман случайно услышал, как он спросил:
— У меня в пять игра, мам, можно я пойду? Но если ты считаешь, что я должен остаться…
— Давай подождем немного, Лес, — ответила Кэрол, быстро проведя ладонью по его затылку, — поживем — увидим, может, ты и сам не захочешь пойти.
Пока люди густым потоком текли в зал синагоги, пока искали раскладные стулья, чтобы разместить припозднившихся стариков, ему ничего не оставалось, как тихо сидеть у гроба, находившегося на расстоянии вытянутой руки: хочешь — смотри, хочешь — нет. Билл Гофф тоже нашел себе занятие: он то и дело сжимал и разжимал кулак правой руки, будто тот был насосом, которым он то ли накачивал храбрость, то ли отсасывал страх. Сейчас Билл не имел даже отдаленного сходства с тем шустрым, энергичным, броско одевавшимся игроком в гольф, которого Цукерман впервые увидел восемнадцать лет назад, когда тот танцевал с подружками невесты на свадьбе Генри и Кэрол. Несколькими часами ранее, когда Гофф утром открыл ему дверь, Натан даже не понял, кому это он пожимает руку. Казалось, он усох вдвое; не изменились только его массивная голова и вьющиеся волосы. Вернувшись в дом, он, печально оборотившись к своей жене, обиженным голосом сказал: «Ну и как вам это нравится? Он даже меня не узнает. Вот как я изменился».
Мать Кэрол ушла вместе с внучками, чтобы помочь Эллен выбрать подходящий к случаю наряд из ее обширного гардероба, а Лесли вернулся к себе в комнату, чтобы еще раз отполировать до блеска свои новые ботинки; вышли на улицу и двое мужчин — глотнуть свежего воздуха. Стоя на патио, они вместе наблюдали, как Кэрол срезает последние хризантемы, чтобы дети могли отнести цветы на кладбище.
Гофф начал рассказывать Натану, почему он продал свой обувной магазинчик в Олбани.
— Ко мне в лавку стали заглядывать цветные. Не мог же я дать им от ворот поворот! Это не в моем стиле. Но моим покупателям-христианам, которые ходили ко мне по двадцать — двадцать пять лет, это не понравилось. Так они мне и сказали, без обиняков: «Послушай, Гофф, я не собираюсь торчать здесь целую вечность и ждать, пока ты крутишься вокруг какого-нибудь ниггера и таскаешь ему по десять пар, покамест он не подберет себе обувку. И к тому же у меня нет охоты мерить обувь, которая ему не подошла». И вот, один за другим, меня бросили все мои клиенты, мои добрые друзья-христиане. Вот тогда-то у меня и случился первый сердечный приступ. Я продал свою лавку, решив, что худшее уже позади. Я был подавлен, и доктор велел мне выбираться из депрессии, ведь я сократил возможные убытки, но через полтора года, когда я уехал отдыхать в Бока, во время игры в гольф у меня случился второй приступ. Что бы там ни говорил мой врач, но второй приступ был еще тяжелее, чем первый. А теперь еще вот это. Кэрол всегда была нашей опорой. На нее столько всего навалилось, но она держится — она у нас твердая как скала. Вот так же она держалась, когда умер ее брат. Вы знаете, у Кэрол был брат-близнец, и мы потеряли его, когда он учился на втором курсе юридического колледжа. Сначала Юджин, в двадцать три, а теперь и Генри в тридцать девять…
Произведения
Критика