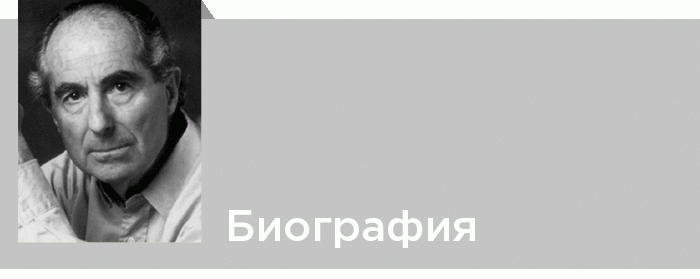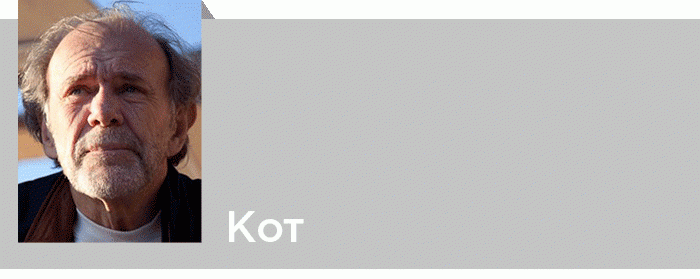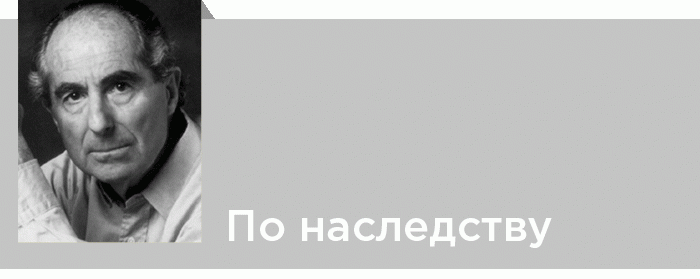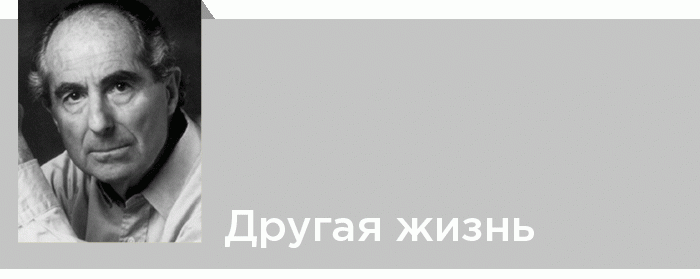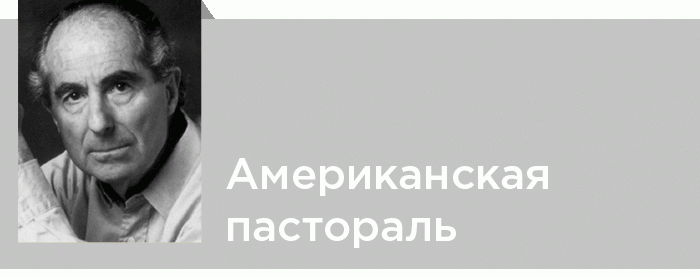Наследство и самоопределение

Наталия Лейтес
Будучи на днях в одном интеллигентном доме, я по привычке завела разговор о литературе и, назвав имя Филипа Рота, услыхала в ответ: «Но ведь он не из новых». Это было сказано молодым университетским ученым, причем с той снисходительной интонацией, с какой говорят о вещах, может быть, и добротных, но старомодных. Рот и вправду заявил о себе не сегодня, но он, я думаю, в снисхождении не нуждается. Его проза, проблемно насыщенная, субъективированная, динамичная, я полагаю, вполне современна.
Рот — автор известный и за пределами США (исключая страны бывшего СССР, где его еще недавно практически игнорировали). Критика проявляет к нему устойчивый интерес, а два последних его произведения, «Наследство»(1991) и «Операция Шейлок» (1993), заслуживают, на мой взгляд, особого разговора. Вышло так, что мое знакомство с творчеством Рота началось именно с «Наследства». Книга покорила меня глубиной при внешней простоте. Я поняла, что встретилась с писателем, исследующим самые основы жизни, и стала читать подряд то, что им было написано. По ранним его вещам могло показаться, что он просто рисует отдельные трагикомические эпизоды из жизни евреев-эмигрантов. Рот рассказывал о коротком романе Нила Клугмана, юноши из бедной семьи, верной национальным обычаям, с девушкой из среды ассимилировавшихся еврейских нуворишей, о подростке, что с еврейской дотошностью и американской раскованностью донимал своими бесконечными вопросами туповатого рабби; он писал о солдате-еврее, вознамерившемся словчить на исходе войны, чтобы избежать участия в боевых действиях, о сержанте, тоже еврее, помешавшем ему осуществить это недостойное намерение, об учителе, пытавшемся открыть в одном американском городе школу по изучению Торы для еврейских детей, спасшихся от Холокоста («До свидания, Колумбус и Пять рассказов», 1959).
Нет, рассказы содержали нечто большее, чем изображение частных происшествий, их подтекст — трагическая история еврейского народа, раздумья о диаспоре, о многосоставности человека, о связи в его внутреннем мире национального и просто человеческого. И это хорошая проза. Люди в ней видны, их голоса слышны. Проблемы героев вызывают читательский отклик, авторская ирония — понимание.
Америка как-то не располагает к схематическим обобщениям. Когда поймешь, что в этой стране каждый должен отвечать за себя сам, всякие схемы применительно к людям кажутся неуместными. И все-таки притяжение или отталкивание художников друг от друга, их тяготение к тем или иным тенденциям существует.
Рот — писатель еврейской темы в ее неортодоксальном повороте. (Ортодоксы его родного Ньюарка даже обвиняли его в антисемитизме). В этом отношении он соратник И.Б. Зингера, Б. Маламуда, С. Беллоу, Д. Сэлинджера. Все это яркие художники, у каждого из которых свое лицо. У Филипа Рота — тоже. В числе его литературных наставников и пристрастий — Диккенс и Джойс, Флобер и Хемингуэй, Гоголь и Кафка, Бабель и Кундера (этот список неполон), т.е. он широко опирается на мировую культуру. Но пишет по-своему, не чураясь постмодернистских веяний, но и не впадая в зависимость от них.
Рот пишет о самоопределении личности, о тех препятствиях, что приходится преодолевать на пути к самому себе, а это главная тема и литературы и самой жизни. Его, иммигранта в третьем поколении, привлек в этой теме особый аспект: встреча во внутреннем мире героя, а не только вовне, двух разных типов мироощущения — восточного (в еврейском варианте) и западного (в американском), или же, пользуясь словами Гейне, иудейского и эллинского. О схожем, еще в 30-х годах, живописуя древний Рим, писал Л. Фейхтвангер, эмигрировавший в США, спасаясь от гитлеровцев. Рот изображает современность без исторических иносказаний. Проблема имеет разные грани: историческую, культурологическую, философскую. Рота интересует психологическая. Высвечивая конфликт между еврейской и американской ориентацией, он пишет «историю человеческого сердца», проникая в разные сферы жизни личности, — эмоциональную, интеллектуальную, сексуальную.
Мотив мужского самоутверждения, традиционный для американской литературы, — один из сквозных в творчестве Рота («Жалоба Портного», «Грудь», «Моя жизнь как мужчины», «Профессор желания»). Ему отдали дань, каждый на свой лад, и Д. Лондон, и Т. Драйзер, и Э. Хемингуэй, и Г. Миллер. Как и последний, Рот развивает в связи с этим тему секса, но по-другому, принадлежа другому времени. В отличие от своих предшественников, он пишет не о сильном, уверенном в себе мужчине, а о рефлектирующем, комплексующем, похожем на Шлемиля (еврейский персонаж-неудачник), облагороженного интеллигентностью, не о герое, а скорее о так называемом антигерое.
В романах «Писатель-призрак», «Цукерман скован» на первом плане — фигура писателя, самоопределение творческое. Рот показывает его во всем блеске и нищете, со многими составляющими, традиционными и новыми: трудный путь к искусству, писатель и среда, творец и его творение, творчество и секс, слово как эквивалент действия в отношениях между людьми. Передоверив повествование герою (Петеру Тарнополю, Натану Цукерману), Рот варьирует и углубляет излюбленный им образ еврейского книжника, пытающегося преодолеть свою односторонность, сохранив свою сущность. Рот пишет вместе с тем и о себе, и от себя. Он вступает в прямой диалог с созданным им персонажем, заставляет его в свою очередь создать другого, тоже писателя, сводит и разводит их друг с другом или устраивает самому себе встречи с обоими. Словом, Рот ведет игру в постмодернистском духе со своим собственным произведением, сопрягая процесс творчества с его одновременным осмыслением и снимая границу между искусством и жизнью.
Драматизм самоутверждения как борьбы с обстоятельствами и с самим собой достигает у Рота своей кульминации в романе «Жизнь наперекор»(1987). Здесь чуть не каждый из персонажей одержим стремлением переделать себя и свою судьбу, хотя бы и ценой крайнего риска, иногда вплоть до риска собственной жизнью. Мария, молодая англичанка из респектабельной семьи, рискует привязанностью своих близких, выйдя замуж за американского еврея. Писатель Натан Цукерман, обратившись к теме секса, рискует своей репутацией, благополучием родных. Брат Натана Генри решается на опасную операцию, чтобы избавиться от лекарств, угрожающих импотенцией (он погибает на операционном столе). Напряженности сюжетных ходов отвечает подчеркнутая сложность структуры: фрагментарность, резкость переходов от одного повествователя к другому, их нарочитое спутывание, смешение, перепады во времени, перекрещивания мест действия, вариативность обстоятельств, в том числе главных — кто тут рассказчик, кто герой, кто из двух братьев умер, а кто жив, кто такая Мария, любовница Генри или жена Натана, и т.п. Хаос формы призван, видимо, отобразить неупорядоченность, нестабильность жизни. Ирония сказывается даже в конструкции, как бы насмешничающей над эпической природой романа. Вместо завершенности художественной картине придается жизненная непредсказуемость и открытость.
Через четыре года после «Жизни наперекор», словно подчиняясь тому же закону резких поворотов и перепадов, Рот пишет совсем другую книгу, поражающую на этом фоне своей видимой простотой, ту, которую я уже называла: «Наследство. Правдивая история».
В «Наследстве» трудно нащупать дно. Его простота не от примитивности, а от глубины, таящей в себе многоуровневость, многослойность. Это роман о событиях очень конкретных, локализованных, зримых, и вместе с тем о всеобщем, бесконечном, вечном. Тут рассказана обыкновенная история старения и смерти некогда полного сил человека, т.е. история, протекавшая по законам природы. Рот это ясно дает понять. Но он дает также остро почувствовать весь трагизм разрушения жизни и ее, в высшем смысле, неразрушаемость. Это сложное сочетание во многом определяет и тональность, и философско-поэтическую окрашенность книги, одновременно и трагической, и светлой.
На обложке — семейная фотография, сделанная более полувека назад. Прямо на нас, улыбаясь, смотрит молодой мужчина, снятый в полный рост. Перед ним в такой же позе и с такой же улыбкой — мальчик девяти лет, его старший сын. Перед старшим — четырехлетний малыш с видом лукаво-серьезным. Это и есть Филип Рот, будущий писатель. Все трое полуодеты, как на пляже. Зелень. Лето. Семья на отдыхе. В последней главе «Наследства» Рот описал эту фотографию: «Мы все трое стоим в виде буквы V, мои сандалии — это ее нижняя точка, а широкие сильные плечи отца образуют внушительные вершины. Да, V в значении победы (Victoria) господствует на этой фотографии. V — победа, V — каникулы (Vacation), V — прямая, негнущаяся вертикаль (Vertically)». Рот датирует фотографию 1937-м годом. Такими они были. В книге же речь идет о том, какими они стали многие годы спустя. Итак, книга о старости, о смене поколений, — обе темы неисчерпаемы, они прослеживаются на всем протяжении истории искусства слова.
Корни темы отца и сына теряются в мифологической дали. От них тянется нескончаемый ряд вариаций: Одиссей и Телемак, Хильдебранд и Хадубранд, Гамлет и тень его отца, Скупой рыцарь и его беспутный сын, Тарас Бульба и его сыновья, герои Тургенева, персонажи романа Фолкнера «Авессалом, Авессалом!». Вариантов несчетное множество, и все они остро конфликтны. О старости тоже написано немало, и в социально-бытовом, и в психологическом, и в философско-поэтическом ключе. Книга Рота, наследующая эти тематические линии, звучит свежо, как будто никогда и не было литературных образцов, как будто писатель шел прямо от жизни, чего не бывает.
Сын здесь рассказывает о своем старом отце с болью и любовью. Это своего рода реквием по отцу и вместе с тем рассказ об усилиях сына хоть сколько-нибудь замедлить неотвратимый ход событий. Линия отца подобна истории болезни: паралич лица, опухоль мозга, страхи, вспышки и провалы памяти. И беззащитность, беспомощность некогда сильного человека, вызывающие острую жалость. Но главное в этой линии, мне думается, — трактовка старости как жизни наперекор, как трудной поры испытания, когда нужны все силы, все богатства души, накопленные за жизнь. Их у отца немалый запас. Но наступает перелом. Простой бытовой эпизод, демонстрирующий это, производит глубокое впечатление. Сын уговаривает отца поехать на прогулку, тот упрямо отвергает это предложение, — он все еще не может допустить, чтобы за него решал кто-то другой. Сын, потеряв терпение, переходит на императивный тон: «Делай, как я сказал!» И отец вдруг становится покорным, ему ведь, в сущности, давно нужна опека. А сын ужасается и отцовской покорности, и собственному тону, поняв все значение этого, казалось бы мелкого, события. «Конец одной эры, начало другой», — с горечью думает он. Динамика отношений отца и сына и есть основной сюжет этой книги, в ходе которого они как бы меняются местами.
«Правдивая история». Правда. За последние годы это слово, похоже, приобрело смысл непременного разоблачения чего-то. Но ведь у него есть куда более глубокий смысл — жизнь. Правдивая история, т.е. то, что было в жизни. А было многое. Не только ряд семейных обстоятельств, не только болезнь отца и старания сына облегчить ему последний отрезок земного пути. Были мысли, чувства, течение времени, смена времен года, бытие вселенной — вечный круговорот жизни и смерти. История отца и сына — малая, но органическая его часть.
Движение, казалось бы, идет только в одном направлении, предначертанном природой. И вдруг — зигзаг: оперируют сына, на сердце, в тяжелом состоянии. Да, природа преподносит сюрпризы. Она может внезапно спутать все карты, нарушить свои собственные, вроде бы незыблемые закономерности. Случайность? Скорее суверенность природы, ее свобода, ее превосходство над нашим ее пониманием. Сыну тоже приходится близко соприкоснуться с опасностью собственной смерти. Но в этом случае смерть отступает, природа вспоминает о порядке вещей.
Фарфоровая чашка для бритья, передаваемая в этой семье от отца к сыну, продолжает свой путь. Когда-то ею пользовался дед рассказчика, а теперь он сам получает ее из рук умирающего отца. Чашка давно уже не функционирует в своей изначальной роли, она стала символом преемственности традиций, ответственности родных друг за друга. Это и есть наследство, переходящее в века. Очевиден еврейский аспект темы книги: эстафета солидарности всегда была немаловажной силой, способствующей выживанию народа, сохранившегося, несмотря на все гонения и притеснения. Внятен и ее общечеловеческий смысл.
Размышляя об этом, я подумала о тетралогии Томаса Манна «Иосиф и его братья», варьирующей библейские мотивы. Там воссоздан трудный процесс выделения индивидуальности из нерасчлененного единства древней родовой семьи, а затем еще более трудное преодоление своего эгоцентризма этой выделившейся особью, возгордившейся своей особостью. Рот, пишущий о современности, демонстрирует тот уровень близости между отцом и сыном, когда их растворение друг в друге невозможно, потому что каждый — личность, но их единство прочно, и отец продолжается в сыне, не повторяясь в нем буквально.
«Наследство» — емкая книга. Она заставляет думать о многом. В ней, может быть, яснее всего видно, что за писатель Филип Рот и что такое его проза. В сущности, все его произведения трактуют тему наследства, если широко понимать это слово, и роман «Операция Шейлок» в известном смысле — тоже.
Для меня «Наследство» осталось самым близким произведением писателя. Но появление «Операции Шейлок» внесло немаловажную поправку в мои представления о его творческом развитии. Мне показалось вначале, что «Наследство» знаменует собой новый стилевой этап в его творчестве, отход от постмодернистской игры с материалом и читателем. Роман «Операция Шейлок» опровергает это предположение — Рот вновь демонстрирует возможности такой игры, ее совместимость с самой серьезной проблематикой.
Взятый в целом, этот роман примыкает к другой линии творчества Рота, чем «Наследство», — к линии открыто идеологической, тяготеющей к политической сатире («Наша банда», 1971; «Великий американский роман», 1973; отчасти «Пражская оргия», 1985), но тональность его определяет не сатирическая насмешка, а скорее боль, хотя чувство юмора и здесь не оставляет писателя. Как и надежда на разум и человечность, все еще существующие в нашем безумном мире.
В новом романе Рот, можно сказать, уходит из сферы отношений, ограниченных кругом семьи и приближенных к вечному (жизнь и смерть, отец и сын), в область истории и политики. «Операция Шейлок» — политический триллер, но не только. Время действия романа — 1988 год. Место действия — Израиль в его связях и с сегодняшним миром, и с историей. Ситуация — острый конфликт между арабами и евреями, право которых на Эрец Исраэль арабы признать не хотят. Психологический фон — память о многих трагедиях и в историческом прошлом евреев, о Холокосте, прямо затронувшем многих из персонажей, страх перед его возможным повторением, стремление предотвратить эту опасность. Ключевой эпизод — суд над Иваном Демьянюком, служившим во время второй мировой войны в охране нацистского лагеря и ошибочно принятым за другого, за охранника-садиста, прозванного Иваном Грозным.
Но и в этом романе Филип Рот развивает свою главную тему — тему самоутверждения личности. Герой и здесь — писатель, причем автор делает его не только свидетелем, но и участником происходящих событий, и ему же он поручает рассказ об этих событиях и о трудностях их осмысления. Главная сюжетная линия — спор героя с другими и (что еще важнее) с самим собой о путях, избираемых в нашем веке еврейским народом, о сионизме и диаспоризме. Участие героя в этом споре — своего рода исповедь, поиск самого себя, и потому слово «исповедь» (confession) включено в заголовок романа, а эпиграфы к нему, взятые из Библии и Кьеркегора, говорят о том, что жизнь — поединок («Так Яков остался один, и человек боролся с ним, пока не наступила тьма»), что борьба идет и с самим собой и что «существование — это, конечно, дебаты». Писатель зорок к неоднозначности и изменчивости явлений, к их частой неопределенности, неустойчивости, столь характерным для нашего времени. Вольные или невольные трансформации — едва ли не главная особенность истории многих персонажей. Одну из глав книги автор назвал «Неконтролируемость реальных вещей». Одна из ее ведущих, сквозных проблем — идентификация личности, народа, страны. «Кто я?» — спрашивает себя герой. Кто такой его двойник? Филип Рот-первый первый неустанно ищет ответ к этой загадке. «Кто я?» — тема лекции, с которой выступает израильтянин Суппозник, один из собеседников героя. Суд пытается установить, был ли Иван Демьянюк Иваном Грозным. Израильские старшеклассники рассказывают Филипу Роту-первому о кризисе идентификации в среде молодежи. «Что есть Израиль?» — этот вопрос не сходит со страниц книги. Здесь сталкиваются разные концепции, но главными аргументами для героя служат конкретные судьбы обыкновенных людей — их немало проходит перед глазами читателя.
Одним из впечатляющих доводов становится путевой дневник Леона Клингхофера. Бесхитростные заметки старого мирного человека, застреленного палестинскими террористами, когда он, на пути в Израиль, отдыхал в инвалидном кресле на палубе корабля, получают в романе особое значение. Его судьба сопоставляется с судьбой шекспировского Шейлока, хотя сами по себе они мало похожи друг на друга. В шекспировской пьесе от оскорбленного и мстительного Шейлока спешат избавиться, его вызывают на суд и изгоняют из Венеции. С беззащитным Клингхофером поступают проще: не тратя слов, его убивают и выбрасывают за борт. Как утверждает знаток Шекспира Суппозник, евреи всегда под судом, и этот нескончаемый суд длится еще со времени суда над злополучным Шейлоком.
«Записки, подобные дневникам Анны Франк и Леона Клингхофера, — размышляет герой, — содержат один и тот же пафос: они показывают во-первых, что евреи — обыкновенные люди, а во-вторых, что они заслужили обыкновенную жизнь... Обыкновенность,.. существование без битв,.. безопасность небольшого путешествия, совершаемого человеком». Рот называет это «еврейской мечтой» по аналогии с выражением «американская мечта», содержание которой, как известно, иное. И добавляет: «Но этого нет. Непредставимая драма — быть евреем».
Структуру романа «Операция Шейлок» уже не назовешь простой. Сюжет здесь событийно насыщен, напряжен, с частыми сдвигами во времени, с неожиданными поворотами. Повествование нервное, прерывистое, осложненное сопряжением самых разных форм: эпического рассказа, исповедального повествования, воспоминаний детских и студенческих лет, вставных новелл, пространных монологов, дискуссий, дневниковых записей, писем. Но главная осложняющая его особенность — мотив двойничества, проходящий через все произведение и отмеченный нарочитой неопределенностью. Автор нарекает героя-повествователя своим именем, затевая игру в открытую автобиографичность. Двойник героя — самозванец, узурпировавший его имя и биографию. У него темное прошлое. В Израиле он активно пропагандирует диаспоризм, то есть возвращение евреев-репатриантов в страны рассеяния, выдавая себя за писателя Филипа Рота и используя его авторитет. Но диаспоризм — позиция, не принимаемая героем, хотя сам он живет в Америке.
Филип Рот-первый, крайне раздраженный притязаниями на его имя Филипа-второго, ведет с ним настоящую борьбу, чтобы убрать его со своего пути, но однажды он говорит самозванцу, что он не враг ему и не хотел бы быть его врагом. Видно, тот не так уж чужд герою и какие-то стороны его натуры в чем-то близки Филипу-первому. Читателю ничего другого не остается, как гадать, кто же все-таки перед ним: близнецы-антагонисты или раздвоившаяся личность самого героя.
Мотив двойничества, как известно, порождаем множество qui pro quo, в соединении же с детективно-авантюрным сюжетом политического триллера возникает такая путаница, что автору приходится, как то часто можно встретить в детективе, отдельно разъяснять читателю (и не однажды), что же именно произошло на самом деле. Но кто такой Филип-второй и куда он исчез в финале, жив ли он в конце романа или мертв, существовал ли он вообще, остается неизвестным, — на эти вопросы автор не дает ответа ни читателям, ни герою. Ситуация еще сильнее запутывается тем, что, как и в трилогии о Цукермане, автор вступает в живой контакт с созданными им персонажами, размывая границы между миром реальным и вымышленным и мистифицируя читателя. Неутомимый экспериментатор, он мобилизует весь свой опыт, соединяя разные мотивы и приемы, встречавшиеся у него и раньше, но никогда еще не представавшие в таком густом сплетении. Рот достигает здесь новых масштабов в развитии еврейской темы и находит новые аспекты в теме писателя и его внутреннего самоопределения.
Роман «Операция Шейлок» не обладает той цельностью и неявной философичностью, что отличают «Наследство». Но он и не претендует на нечто подобное. Постмодернистская игра предполагает совсем другой эффект. Рот бередит нашу мысль, наши чувства. Он не дает заклиниться на чем-нибудь одном, не позволяет абсолютизировать ту или иную идею.
Л-ра: Литературное обозрение. – 1995. – № 3. – С. 72-76.
Произведения
Критика