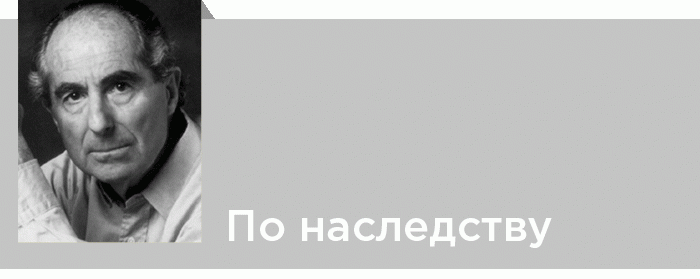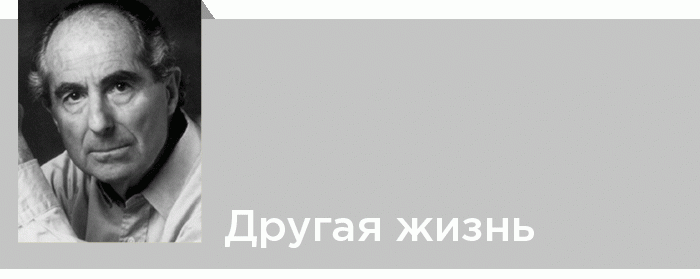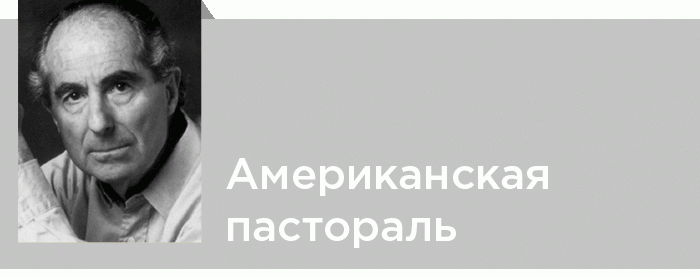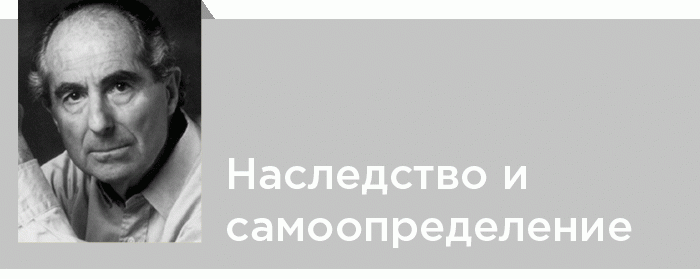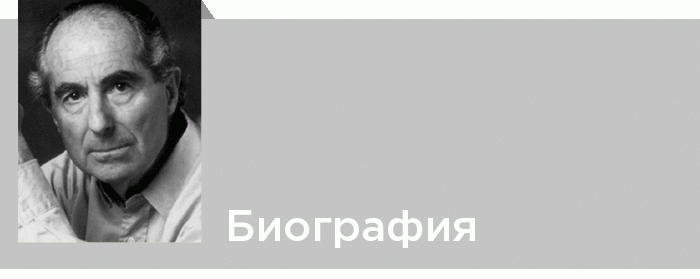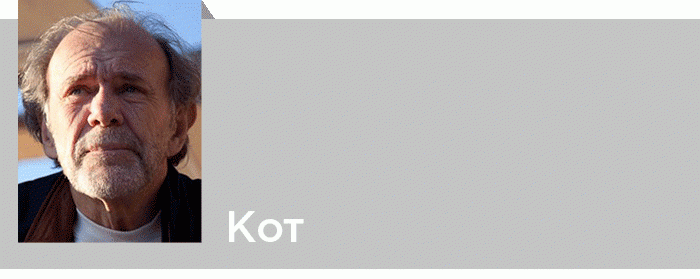Филип Рот. Факты. Автобиография романиста

А. Зверев
Заглавие последнего по времени романа Филипа Рота «Контржизнь» (1987) симптоматично: в каком-то смысле оно выразило смысл его творчества после «Жалоб Портного» (1968) — книги столь же знаменитой, сколь скандальной. Все написанное Ротом за два последующих десятилетия задумывалось как версии судьбы персонажа, в котором рельефно выделено сходство с автором. Этого персонажа звали Пол Тарновский, затем Натан Цукерман; внешне он менялся, но не настолько, чтобы исчезло искушение воспринять его как авторского двойника.
От подобного соблазна Рот, однако, заставляет избавиться: слишком ощутима ироническая дистанция, разделившая писателя и героя. В данном контексте слово «исповедь» оказалось бы явно неуместным. Впрочем, и слово «пародия» — тоже.
Может быть, более остальных подойдет определение «маска», подразумевая старый прием, когда сатирически остраненный персонаж при всей формальной близости своему создателю интересен на фоне времени и социума, которые его сформировали, а не степенью достоверности, важной для биографов. Наиболее близкий в этом отношении аналог прозы Рота — книги Генри Миллера с их кажущейся полной откровенностью исповедания, на поверку предстающего как сплошное травестирование: и фактов, и событий, и действительных обстоятельств жизни создателя «Тропика Рака» или «Тропика Козерога». У Рота тот же самый художественный ход, но как бы с удвоением. Выводя на сцену Тарновского-Цукермана и отдав ему нечто из собственного жизненного опыта, комедийную маску создает писатель, но и герой занят по преимуществу изобретением разного рода масок — вариантов, гипотетических возможностей своего поведения в ситуациях, предлагаемых действительностью.
Зачем он это делает? Чаще всего для мимикрии. Но порой и побуждаемый фантазией, которая призвана преодолеть как инстинкт приспособленчества, так и саму ситуацию. Отделить мимикрию от подобных воспарений очень сложно. Не менее сложно, чем в самом повествовании Рота отделить гротеск от фотографически запечатленной пошлейшей обыденности.
«Фактам» — своей автобиографии «всерьез» — прозаик предпослал эпиграф из «Контржизни», где Цукерман размышляет, как часто «люди стараются превратить собственную жизнь в поразительный вымысел, а поразительный вымысел становится для них жизнью». Такого рода превращения — главная тема Рота, и тут, конечно, не одна лишь увлекательная литературная игра, но коренное свойство определенного характера и результат определенного воспитания. Этот характер, на его взгляд, уместен главным образом в трагифарсе; как сюжет трагифарса, насыщенного бурлеском, и воспринимается история подобного воспитания на понятиях косной, цепкой еврейской среды, равно как определенная этим воспитанием последующая жизнь. А «контржизнь» становится только недостижимым идеалом, который реальность раз за разом опровергает бесцеремонно, а то и грубо.
По сути, конфликт, проходящий у Рота через многие книги, вовсе не уникален для специфического устойчивого мирка, от которого герой и старается, и страшится стать вполне свободным. Специфичен лишь материал, а сама коллизия — это знакомые по многим иным литературным версиям усилия «раба тягучих будней» вырваться из плена житейских обстоятельств, бесконечных сложностей, неустройств, несвобод, а главным образом — из-под бремени собственных душевных слабостей, потаенных страхов и полуосознанных конформистских устремлений.
Но важна и специфичность материала. По прочтении «Фактов» сомнений в этом не остается.
Книгу открывает письмо автора своему герою-маске, а завершает ответное послание Цукермана Роту. Тем самым «Факты» с их условной правдой документа оказываются органично включены в сериал о Тарновском-Цукермане, где такая правда в художественном плане абсолютно несущественна. Но намеченная прологом и заключением связь автобиографии с версиями «контржизни» важна главным образом не для формальной целостности цикла, а для его смыслового единства.
Тема переписки между Ротом и Цукерманом остается той же неотступной для автора темой поисков истинной сущности за всеми масками и версиями — болезненно актуальной для этого писателя темой. Возможна ли вообще автобиография в традиционном значении слова? Этот вопрос возникает на первых же страницах книги, и сама она однозначным ответом на него не станет. Оставшись неудовлетворенным присланной ему рукописью, Цукерман комментирует: «Вы, Рот, удались в этом сочинении хуже всех остальных персонажей. Ваш дар не в том, чтобы описывать собственный опыт, но в способности его воплощать посредством подставного лица, которое вовсе не вы сами... И вы уже столько раз описывали себя под чужими именами, что, полагаю, утратили всякое представление, кто вы такой в действительности и кем были прежде. Вы уже не более чем одушевленный текст».
Из этого далеко не беспочвенного утверждения логично, вслед Цукерману, сделать вывод, что «автобиография всегда содержит в себе еще и другой текст, если угодно — контекст... а оттого из всех литературных форм манипулировать ею наиболее легко». Усилия Рота в «Фактах» отданы тому, чтобы по возможности опровергнуть универсальность такого утверждения, «трансформировав себя в себя самого». И Цукерману он пишет, предваряя повествование: «Если мой текст что-то выражает, так это прежде всего усталость от масок, гримов, искажений и вранья». Иными словами, данный текст представляет собой очередную попытку «демифологизации» — только не тех самообольщений и фантомов еврейского сознания, которые, начиная с «Жалоб Портного», были основной мишенью Рота, а приемов и способов, какими он пытался это сознание демифологизировать, спрятавшись за Тарновским-Цукерманом.
Кому-то весь этот ход мысли покажется не в меру запутанным, однако обоснование ему дано достаточно веское. Скепсис относительно правдивости любых мемуаров и автобиографий не вчера родился. Для него существуют серьезные причины, и Рот, в общем-то, прав, отмечая, что «воспоминания о пережитом не бывают воспоминаниями о фактах — только о впечатлениях, этими фактами в нас произведенных». Тончайшая игра на разноречивости фактов и впечатлений от них составила сюжет, в американской литературе исчерпывающе разработанный Генри Джеймсом — достаточно напомнить о «Письмах Асперна». Рот в этом смысле не предлагает ничего ошеломляюще нового, если говорить о конструкции его автобиографии, как бы она ни была причудлива.
Новизна же ее в том, что подобные разрывы между фактом и впечатлением, которое этот факт оставляет, словно бы исчезая в своей реальной определенности, у Рота самым тесным образом соотносятся с особенностями социума, среды и шире — еврейского менталитета, каким он сложился на американской почве. Если для Джеймса корректировка факта, иногда ведущая к полному его преображению, была процессом преимущественно психологическим и личностным, то для Рота это явление социальное — в прямом, даже в упрощенном смысле слова. Прозаик рассказывает историю выходца из Ньюарка, тогда еще целиком еврейского города, где неприкосновенными оставались понятия, верования и установления, трансплантированные со «старой родины», и постепенно она становится историей бунта как раз против тех деформаций, какими прочность, незыблемость подобных установлений оборачивалась для духовного мира сверстников Рота — в особенности для тянувшихся к искусству. Критики, не раз упрекавшие Рота за какую-то почти патологическую ненависть к собственному «дописательскому» прошлому, не почерпнут из его автобиографии новых аргументов. Она сравнительно сдержанна, местами даже лирична там, где речь идет о ранней юности и о Ньюарке, «не ведавшем загадок времени и пространства, добра и зла, видимого и сущего», иными словами, жившем плоскими неотложностями повседневья и заповедями, призванными не возвышать, а устрашать. Но этот налет ироничной ностальгии не приглушает у Рота чувства собственной полной чужеродности миру отцов — давнего и, по-видимому, неискоренимого.
В колледже он впервые прочел романы Томаса Вулфа, потрясшие его прежде всего способностью из прозаичной будничности Эшвилла сотворить гигантский поэтический мир. Первые литературные опыты самого Рота были откровенными подражаниями вулфовскому эпосу. Они остались неудачными не в силу одной лишь ученической страсти к имитации, но прежде всего по той причине, что, только взявшись за перо, Рот впервые и осознал, насколько успело его обеднить полученное «несентиментальное воспитание»: любые «факты» для него уже накрепко соединялись с «впечатлениями», выдающими чисто национальный, а с точки зрения Рота — узкий и пошлый взгляд на мир.
Это открытие, сделанное еще в середине 50-х годов, явилось для Рота решающим событием духовной биографии. Отныне она будет подчинена стремлению выправить деформации, обретя широту и непредвзятость восприятия реальности. И чем явственнее предстанут трудности такого обретения, тем язвительнее и саркастичнее будет становиться под пером Рота картина Ньюарка его детства, вызывая скандал за скандалом. Еще более или менее умеренный после дебюта, каким для прозаика стала повесть «Прощай, Коламбус», вышедшая в 1959 году, скандал станет неистовым с появлением на литературной сцене «Портного».
Роту кажется, что по-иному сложиться не могло уже в силу его упорного стремления ко всему непринимаемому и неценимому в окружающем мире: к отвлеченным идеям, культуре, духовной и этической свободе. Конфликт с семьей начался, по его свидетельству, еще на исходе отрочества, а дальше потянулись одинокие годы среди сверстников, рано усвоивших прагматические правила жизни. В этой вполне типичной истории начинающего писателя, наталкивающегося на всеобщее непонимание и равнодушие, были свои нешаблонные оттенки. Рот этот конфликт не просто пережил, но драматизировал, прибегнув к формам, как он сам говорит, «экстремистской прозы», — и немедленно навлек на себя обвинение в отступничестве от веры предков, в грубой клевете, тенденциозности и т. п. На деле его первые книги были лишь попыткой «избавиться от меток моей социальной группы», однако надо реально представлять себе, насколько дорожит «метками» та группа, которая числила Рота среди своих. Завязалась не полемика — скорее настоящая война, сопровождаемая ожесточением с обеих сторон. Роман «Жалобы Портного», где в запале вольнолюбия Рот не пощадил не только предков по роду, но и предшественников по ремеслу, откровенно пародируя «Женский портрет» Г. Джеймса, обозначил в этой войне кульминацию, после которой напряжение стало спадать — впрочем, даже сегодня еще напоминая о себе.
Таковы, согласно Роту, «факты». Однако действительно ли факты, если не мудрствовать и не лукавить со словом? Цукерман, говоря о том, что сам Рот в этом повествовании бледнее остальных героев, думается, попал в точку: перед нами и вправду «одушевленный текст» — гораздо больше, чем личность. До какой-то степени это, видимо, было неизбежно: «автобиография романиста» — продолжение опытов «контржизни», а для таких опытов «текст» оказывается понятием ключевым. Но дело не только в жанре, скорее в том, что для Рота сам сюжет, связанный со стремлением и невозможностью вытравить «метки», думается, исчерпан. А исчерпанность невозможно скрыть ни за изобретательными версиями, ни за красочными фактами, которые на самом-то деле, возможно, и не факты, но лишь очередная версия, поданная как документ.
Не забудем, однако, что и письмо Цукермана, и сам Цукерман сочинены... Ротом. А стало быть, прозаику тоже ясна тупиковость ситуации, когда лишь «одушевленные тексты» взамен живых людей выходят из-под писательского пера.
Л-ра: Современная художественная литература за рубежом. – Москва, 1990. – Вып. 6. – С. 72-75.
Произведения
Критика