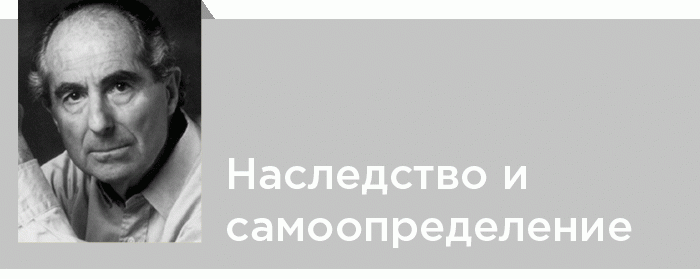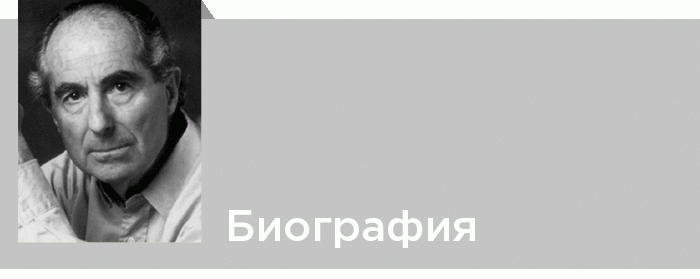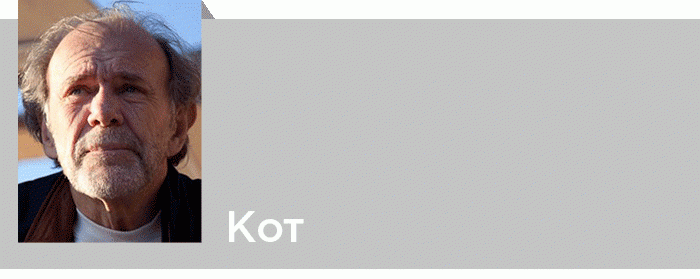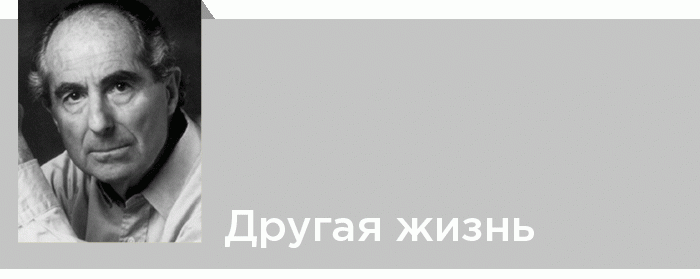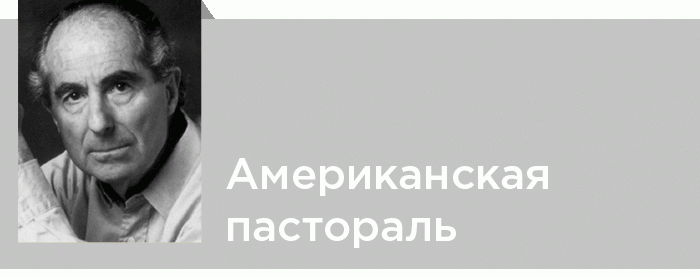Филип Рот. По наследству. Подлинная история
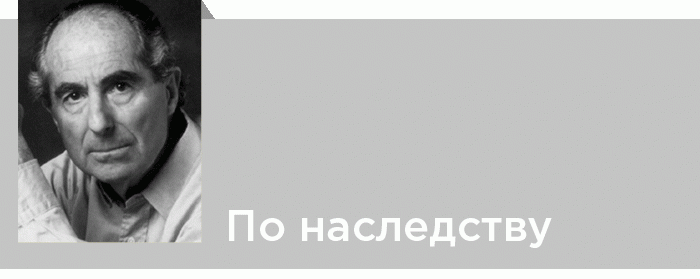
(Отрывок)
Нашей семье — тем, кто жив, и тем, кто умер.
1
Ну и что скажешь?
К восьмидесяти шести мой отец чуть не полностью ослеп на правый глаз, но в остальном отличался отменным для своего возраста здоровьем, и вот тут-то его и настиг недуг, который врач во Флориде диагностировал — ошибочно — как паралич Белла, вирусную инфекцию, вызывающую, по большей части временно, односторонний паралич лица.
Паралич нагрянул нежданно-негаданно на следующий день после того, как отец прилетел из Нью-Джерси перезимовать в Уэст-Палм-Бич — он снимал там квартиру на пару с семидесятилетней бухгалтершей на пенсии, Лилиан Белофф, жившей этажом выше в Элизабете: роман с ней у него завязался спустя год после смерти моей матери в 1981-м. В аэропорту Уэст-Палм-Бич он чувствовал себя настолько хорошо, что даже не посчитал нужным взять носильщика (вдобавок носильщику пришлось бы дать на чай) и сам донес свой багаж до стоянки такси. Ну а на следующее утро не узнал в зеркале ванной своего лица, во всяком случае с одной стороны. Еще накануне лицо было как лицо — сегодня это было бог знает что: нижнее веко подслеповатого глаза опустилось, вывернулось наизнанку, щека с правой стороны обмякла и обвисла, словно из-под нее извлекли кость, рот перекосился.
Он приподнял правой рукой правую щеку, чтобы она стала такой же, как накануне вечером, и, досчитав до десяти, подержал ее. И то и дело приподнимал щеку всё утро и все последующие дни, но, стоило ее отпустить, и она опять обвисала. Он пытался убедить себя, что отлежал ее во сне, что смятая щека расправится, но в глубине души считал, что его хватил удар. Его отец в начале сороковых перенес удар, и с тех пор, как отец сам состарился, он не раз говорил мне:
— Не хотел бы уйти, как мой отец. Не хочу лежать пластом. Меня это страшит больше всего.
Он рассказывал мне, что обычно заезжал к отцу в больницу с утра пораньше по дороге в контору и вечером по дороге из конторы домой. Два раза в день он прикуривал сигареты и совал их отцу в рот, а вечером присаживался к его постели и читал ему идишские газеты. Обездвиженный и беспомощный, сигареты — единственная радость в жизни, Сендер Рот протянул чуть не целый год, и все время, пока глубокой ночью 1942 года его не прикончил второй удар, мой отец ежедневно, утром и вечером, сидел у его постели и смотрел, как он умирает.
Врач, тот, который поставил диагноз — паралич Белла, заверил отца, что в скором времени паралич, если не полностью, то в основном пройдет. И всего за неделю этот прогноз подтвердили трое жильцов из одной только секции его огромного кондоминиума — они переболели тем же и выздоровели. Один из них промаялся почти четыре месяца, но в конце концов паралич прошел так же нежданно, как и пришел.
У отца он не прошел.
Вскоре он перестал слышать правым ухом. Флоридский врач обследовал его, измерил степень снижения слуха, но заверил отца, что потеря слуха никак не связана с параличом Белла. Явление чисто возрастное: по всей вероятности, он терял слух на правое ухо мало-помалу, так же, как терял зрение в правом глазу, а осознал это только сейчас. Отец спросил: долго ли придется ждать, пока паралич пройдет, врач сказал, что в тех случаях, когда паралич длится так долго, он, бывает, и вовсе не проходит. Послушайте, сказал врач, не гневите Бога: если не считать, что вы ослепли на один глаз, оглохли на одно ухо и у вас парализована половина лица, здоровье у вас такое, что человек и на двадцать лет моложе мог бы позавидовать.
Я звонил ему каждое воскресенье, и он говорил со мной — из-за перекошенного рта — все более невнятно и неразборчиво, а порой и вовсе так, будто только что встал с зубоврачебного кресла и у него еще не отошла анестезия; когда же я прилетел во Флориду повидаться с ним, его вид меня потряс: казалось, ему не под силу произнести ни слова.
— Ну, — сказал он, когда мы встретились в вестибюле моей гостиницы, куда я пригласил их с Лил на обед, — и что скажешь? — спросил, даже не дав поцеловать себя, когда я наклонился к нему. Он сидел рядом с Лил, утопая в обитом гобеленом диванчике, но лицо запрокинул, чтобы я мог оценить меру бедствия. Весь последний год он время от времени носил на правом глазу черную повязку: свет и ветер его раздражали, ну а при том, что к повязке прибавились еще и щека, и рот, и вдобавок он исчах, мне показалось, что с тех пор, как месяца полтора назад я видел его последний раз в Элизабете, он чудовищно переменился — превратился в немощного старика. Трудно было поверить, что всего шесть лет назад, в ту зиму после смерти мамы, когда он жил в Бал-Харборе у своего старого друга Билла Вебера, он заливал, и вполне успешно, богатеньким вдовушкам, своим соседкам — а они тут же закружились с определенными видами вокруг компанейского вдовца в щегольском полосатом пиджачке и светлых брючках, — будто ему только-только исполнилось семьдесят, при том, что прошлым летом родня в полном составе съехалась ко мне в Коннектикут: отпраздновать его восьмидесятилетие.
За обедом в гостинице до меня дошло, что паралич не только изуродовал его, но и сильно осложнил ему жизнь. Пить более или менее успешно он мог только через соломинку: иначе все вытекало из парализованной стороны рта. Жевать мог только кусочек за кусочком — процедура изматывающая и конфузная. Хочешь не хочешь, пришлось разрешить Лил, причем лишь после того, как он заляпал галстук супом, заткнуть ему салфетку за воротник; колени его она уже прикрыла салфеткой, кое-как предохранявшей брюки. Время от времени Лил тянулась к нему и своей салфеткой — что выводило его из себя — убирала кусочки, вываливавшиеся незаметно для него изо рта и прилипавшие к подбородку. Не раз она напоминала ему, чтобы он набирал на вилку поменьше и в рот отправлял тоже куски поменьше, чем обычно.
— Угу, — шамкал он, убито уставясь в тарелку, — угу, правда твоя, — но, проглотив три-четыре куска, забывался. Процесс еды стал тягостным испытанием — вот отчего он и похудел, и выглядел таким изнуренным.
К тому же жизнь его еще более осложнилась, так как катаракта на обоих глазах за последние месяцы созрела и зрение даже в здоровом глазу затуманилось. Уже несколько лет мой нью-йоркский офтальмолог Дэвид Крон следил за тем, как у отца развиваются катаракты, и кое-как поддерживал его зрение, и в марте, вернувшись в Нью-Джерси после злополучной поездки во Флориду, отец тут же отправился в Нью-Йорк — настоять, чтобы Дэвид удалил катаракту со зрячего глаза; раз уж с параличом ничего нельзя поделать, он решил во что бы то ни стало восстановить зрение. Но вечером после его визита мне позвонил Дэвид и сказал, что не решится оперировать отца, пока не определят, чем вызван паралич лица и потеря слуха, а для этого надо провести еще кое-какие обследования. Он не уверен, что причина в параличе Белла.
И был прав. Гарольд Вассерман, лечащий врач отца в Нью-Джерси, договорился, что отцу сделают МРТ, на чем настаивал Дэвид, тут же, в Нью-Джерси; получив снимок из лаборатории, Гарольд под вечер позвонил мне и сообщил результаты. У отца оказалась опухоль мозга, «гигантская», как он сказал, но по МРТ нельзя судить, доброкачественная она или злокачественная.
— В любом случае, — сказал Гарольд, — такие опухоли смертельны.
Далее нам следовало проконсультироваться с нейрохирургом: он определит, что это за опухоль и что можно, если вообще что-либо можно, предпринять.
— Я особых надежд не питаю, — сказал Гарольд. — И вам не советую.
Мне удалось отвести отца к нейрохирургу, скрыв от него, что обнаружила МРТ. Я соврал — сказал, что обследование ничего не показало, но Дэвид, прежде чем удалять катаракты, хочет перестраховаться и заручиться еще одним мнением. А тем временем договорился, чтобы снимок отправили в гостиницу «Эссекс-хаус» в Нью-Йорке. Мы с Клэр Блум остановились там, пока подыскивали квартиру: собирались поселиться в Манхэттене — последние десять лет мы разрывались между двумя домами, ее лондонским и моим коннектикутским.
Меж тем всего за неделю до того, как мне прислали в огромном конверте снимок отцовского мозга вместе с заключением рентгенолога, Клэр вернулась в Лондон — повидать дочь, посмотреть, как идет ремонт ее дома, и встретиться с бухгалтером на предмет затянувшейся тяжбы с английскими налоговыми службами. Она стосковалась по Лондону и уехала на месяц не только с тем, чтобы заняться практическими делами, но и с тем, чтобы хоть как-то притупить тоску по родине. Наверно, если бы опухоль у отца обнаружили раньше, когда Клэр еще не уехала, его болезнь не поглотила бы меня всецело, и, по крайней мере вечерами, я, по всей вероятности, не был бы так угнетен отцовской болезнью, как в одиночестве. Но даже и тогда я считал, что отсутствие Клэр — при том, что в гостинице я ощущал себя неприкаянным, бесприютным и был не в состоянии писать — пришлось, как ни странно, весьма кстати: ничто меня не отвлекало, и я мог полностью посвятить себя отцу.
Наедине я к тому же мог позволить себе отдаться горю — не было нужды прикидываться мужественным, зрелым или философичным. Оставшись один, я плакал, если мне хотелось плакать, — и никогда в жизни я не плакал так надрывно, как в ту минуту, когда вынул из конверта пачку снимков его мозга: и не потому, что без труда различил опухоль в его мозгу, а просто потому, что это был его мозг, мозг моего отца, мозг, побуждавший его думать так, как он думал, — прямолинейно, высказываться так, как он высказывался, — категорично, спорить так, как он спорил, — яростно, принимать решения так, как он их принимал, — сгоряча. Вот оно, это вещество, порождавшее в нем неотступную тревогу и поддерживавшее все восемь десятков лет его упорную самодисциплину, — источник всего, что так бесило меня, его сына, когда я был подростком: это оно управляло нашими судьбами в те далекие годы, когда он был всемогущ и решал все за нас, а теперь его теснила, смещала и разрушала «крупная опухоль, расположенная преимущественно в районе правого мостомозжечкового угла и околомостовых цистерн. Опухоль проникла в правый кавернозный синус с прорастанием в сонную артерию…» Я не знал, где находятся мостомозжечковый угол или околомостовые цистерны, но, когда прочел в заключении радиолога, что опухоль проросла в сонную артерию, я воспринял это как смертный приговор. «Наблюдается также явное разрушение правой каменистой части височной кости. И вследствие этого смещение и сдавление моста и правой ножки мозжечка веществом опухоли».
Я был один — мне не нужно было сдерживаться и, разложив снимки отцовского мозга, снятого со всех точек, на гостиничной кровати, я дал волю чувствам. Держи я его мозг на ладонях, не исключено, это потрясло бы меня еще сильнее, но и так потрясение было разве что ненамного меньшим. Господь явил волю свою из пламени куста, а воля Германа Рота — чудо не меньшего масштаба — являла себя из этого луковицеобразного органа. Я видел мозг моего отца, и мне открылось всё — и ничего. Мозг — тайна, едва ли не божественная, пусть даже это мозг страхового агента на пенсии, закончившего всего восемь классов ньюаркской школы на Тринадцатой авеню.
Мой племянник Сет отвез отца в Милберн на консультацию к нейрохирургу, доктору Мейерсону, — тот согласился принять отца в своем пригородном кабинете. Я договорился, что он примет отца там, а не в университетской клинике Ньюарка: приемная доктора, как я узнал, находилась в онкологическом крыле, и, мне казалось, уже одно это наведет отца на мысль, что у него рак, а ведь диагноз еще не поставлен, и отец даже не знает, что у него опухоль. А так еще какое-то время он не будет трястись от страха.
Позже, поговорив с доктором Мейерсоном по телефону, я узнал, что такие опухоли, как у отца, расположенные в передней части мозгового ствола, в девяноста пяти процентах случаев доброкачественные. По словам Мейерсона, опухоль могла расти уже лет десять; но, так как у отца парализовало половину лица и он оглох на правое ухо, есть основания предполагать, что «в сравнительно недолгом времени — как выразился Мейерсон — последует ухудшение». Тем не менее еще не поздно удалить опухоль хирургическим путем. Доктор Мейерсон сказал, что семьдесят пять процентов оперированных остаются в живых и их состояние улучшается; десять процентов умирают на операционном столе, а остальные пятнадцать или умирают вскоре, или состояние их еще ухудшается.
— Если он выживет, — спросил я, — как будет проходить послеоперационный период?
— Тяжело. Ему придется пролежать в санатории месяц, а то и два-три месяца.
— Иными словами, это адовы муки.
— Да, это тяжелое испытание, — сказал он, — но, если ничего не предпринимать, станет еще тяжелее.
Я не хотел рассказывать отцу по телефону о заключении доктора Мейерсона и поэтому назавтра позвонил ему часов в девять утра и сказал, что приеду в Элизабет — проведать его.
— Значит, дела плохи, — сказал он.
— Договоримся так: я приеду, и тогда мы все обсудим.
— У меня рак? — спросил он.
— Нет, у тебя не рак.
— Тогда что?
— Потерпи часок, я приеду и расскажу подробно, что и как.
— Скажи сейчас.
— Подожди всего час, меньше часа, — я был уверен: для него же, как бы он ни был напуган, лучше подождать — ведь выложи я ему все напрямик по телефону, он, пока я еду к нему, оставался бы один на один с этим ужасом.
При том, что мне предстояло, не приходится удивляться, что, свернув у Элизабета со скоростной магистрали, я пропустил развилку, которая привела бы на дорогу, ведущую напрямую к Норт-авеню, а там уже через несколько кварталов — и отцовский дом. Вместо этого я проехал до отрезка нью-джерсийской автострады, тянувшейся милю-другую вдоль кладбища, где семь лет назад похоронили мою мать. Ничего мистического я здесь не вижу, и тем не менее довольно странно, что поездка в Элизабет, занимавшая, как правило, минут двадцать, привела меня именно сюда.
На кладбище я был всего два раза, первый раз — в день ее похорон в 1981 году, во второй — на следующий год, когда повез отца посмотреть надгробие. Оба раза мы ехали не из Манхэттена, а непосредственно из Элизабета, поэтому я и знать не знал, что автострада ведет к кладбищу. Но если бы я в тот день и впрямь вознамерился найти его, я бы как пить дать заблуди лея в бесчисленных поворотах, ведущих к ньюаркскому международному аэропорту, элизабетскому аэропорту и назад к центру Ньюарка. И хотя в то утро, когда мне предстояло сообщить отцу, что у него смертельно опасная опухоль мозга, я — ни сознательно, ни бессознательно — не стремился попасть на кладбище, я проехал прямиком от манхэттенской гостиницы до могилы матери и участка рядом с ней, где суждено упокоиться моему отцу.
Мне не хотелось заставлять отца ждать ни минутой дольше, и тем не менее, оказавшись там, где я оказался, я не мог продолжать путь так, словно ничего из ряда вон выходящего не случилось. Я не ожидал, что, если выйду из машины и постою у материнской могилы, мне откроется нечто новое; не ожидал, что память о матери меня утешит, укрепит или наведет на мысль, как лучше помочь отцу в его беде; не думал я и что, увидев участок, предназначенный для отцовской могилы, вовсе паду духом. Я случайно свернул не туда — вот почему я оказался у ее могилы, — и я вылез из машины и прошел на кладбище, чтобы отдать дань неодолимой силе случайности, приведшей меня сюда. Моя мать и все, кто лежал здесь, были приведены сюда неодолимой силой — силой в конечном счете еще более невероятной случайности — силой своего рождения на свет.
На мой взгляд, стоя у могилы, все мы думаем примерно одно и то же, и мысли эти не слишком отличаются, за вычетом красноречия, от мыслей Гамлета над черепом Йорика. Ну что такого можно подумать или сказать, что не будет вариацией на тему «он тысячу раз носил меня на спине». Кладбище, как правило, напоминает о том, до чего мелки и затерты наши мысли на этот счет. Можно — почему бы нет? — попытаться поговорить с мертвыми, если надеяться, что от этого станет легче; можно, как я этим утром, сказать: «Так вот, мам…», но в глубине души от себя не скрыть — даже если удастся пойти дальше первой фразы, — что с таким же успехом можно поговорить со скелетом в кабинете костоправа. Можно давать мертвым обеты, рассказывать, что у вас нового, просить их понять, простить, любить тебя — ну а можно подойти к этому иначе, более действенно: выпалывать сорняки, подметать, обводить пальцем надписи на надгробье; можно даже опуститься на колени и прижаться руками к тому месту, где они закопаны, прикоснуться к земле, земле, где они лежат, закрыть глаза и вспоминать, какими они были, когда еще были с тобой. Но этим воспоминаниям ничего не изменить, кроме одного: мертвые кажутся еще более далекими и недосягаемыми, чем десять минут назад, когда ты вел машину. Если на кладбище никого нет и тебя не увидят, можно, чтобы мертвые не казались такими мертвыми, делать всяческие несуразности. Но даже если удастся взвинтить себя до того, что тебе почудится, будто они здесь, все равно ты уйдешь, а они останутся. Кладбище доказывает, во всяком случае, людям вроде меня, не то, что мертвые с нами, а то, что их с нами нет. Их нет, а мы, мы — пока еще — здесь. Таков закон жизни и, пусть с ним невозможно смириться, усвоить его легко.
2
Мама, мама, где ты, мама?
Отслужив свое, отец получил от компании «Метрополитен лайф» пенсию — ее более чем хватало, чтобы жить скромно, без излишеств, что, собственно, естественно и достаточно для человека, который вырос только что не в нищете и проработал как каторжный сорок лет, чтобы его семья могла жить безбедно, пусть и без затей, и не тянулся к престижным товарам, показухе или роскоши. В добавление к пенсии от «Метрополитен» — ему выплачивали ее уже двадцать три года — он располагал пенсией по социальному страхованию и процентами на скопленный за жизнь капитал: тысяч восемьдесят в сберегательном банке, банковских сертификатах и муниципальных облигациях. Невзирая на прочное финансовое положение, на старости лет он, тем не менее, стал огорчительно скареден во всем, что касалось его личных расходов. При том, что он не жался и щедро одарял двух своих внуков, когда у них возникала нужда в деньгах, он вечно экономил по мелочи, лишая себя вещей привычных или нужных.
Так, он отказал себе в «Нью-Йорк таймс» — и это было одним из самых тяжких для него результатов скаредности. Он обожал эту газету и имел обыкновение прочитывать ее поутру от корки до корки, теперь же он не покупал газету, а дожидался, когда кто-нибудь из соседей — это ж надо быть таким беспечным, чтобы выкладывать за нее тридцать пять центов! — не уступал ему свою. Прекратил он покупать и «Стар-леджер», ежедневную газету ценой в пятнадцать центов; ее вкупе с приказавшей долго жить «Ньюарк ньюс» он читал со времен моего детства, когда она еще называлась «Ньюарк стар-игл». Женщину, приходившую раз в неделю к маме для основательной уборки и стирки, он стал приглашать лишь раз в месяц, а в остальное время управлялся сам.
— Я что — очень занят? — вопрошал он.
Но так как одним глазом он практически ничего не видел, да и на другом тоже созревала катаракта, к тому же он был далеко не так подвижен, как ему хотелось бы думать, старайся не старайся — результаты его усилий были плачевными. В ванной стояла вонь, ковры были замызганные, кухонная утварь прошла бы санитарную инспекцию, только если сунуть инспектору взятку.
У отца была вполне ординарная трехкомнатная квартира, обставленная солидно, не сказать, что со вкусом, но и не безвкусно. В гостиной приятного темно-зеленого тона ковер, мебель под старину, на стенах две большие репродукции (лет сорок назад их выбрал для родителей мой брат: он учился в художественном училище) гогеновских пейзажей в эвкалиптовых рамах, а также отцовский портрет в экспрессионистской манере — брат написал его, когда отцу перевалило за семьдесят. Окна, выходящие на тихую, обсаженную деревьями улицу жилого квартала, были заставлены пышно разросшимися цветами, во всех комнатах по стенам развешаны фотографии детей, внуков, невесток, племянников, племянниц, немногочисленные книги на полках в столовой, в основном мои или по еврейской тематике. Если не считать ламп, несколько излишне затейливых и до крайности не характерных для строгих — всему-свое-место — эстетических пристрастий мамы, это была уютная, приятная, сверкающая чистотой квартира — при жизни мамы, во всяком случае, являвшая полную противоположность унылому вестибюлю и коридорам построенного тридцать лет назад здания, неприветливо голым и уже несколько подзапущенным.
С тех пор как отец остался один, я иногда, посетив у него ванную, заводился и вместо того, чтобы составить ему компанию в гостиной, начинал драить раковину, отмывать мыльницу, споласкивать стаканчик для зубной щетки. Отец упрямо стирал свое исподнее и носки в ванной сам, лишь бы не раскошеливаться на четвертак-другой на стиральную машину с сушкой в подвальной прачечной: каждый раз, когда я приезжал к нему, в ванной — на проволочных плечиках, на полотенцесушителях — висело его застиранное, растянувшееся бельишко. Хотя одевался он франтом и гордился этим: ему нравилось щеголять в хорошего кроя спортивной куртке или пиджачной тройке от «Хики-Фримэна»[7] (а уж если удавалось купить ее на распродаже в конце сезона, то-то было радости), он пристрастился выгадывать на предметах туалета, невидимых чужому глазу. Пижамы, носовые платки, а также исподнее и носки он после маминой смерти, судя по их виду, не обновлял.
В то утро, когда я нечаянно побывал на материнской могиле, приехав к нему, я наспех извинился и проскользнул в ванную. Сначала я проскочил поворот, а теперь еще и волынил, чтобы в последний раз прорепетировать, как бы получше сказать ему об опухоли. Я стоял над унитазом, а вокруг, как обноски, распяленные фермером на пугале, висело его исподнее. На полках над унитазом, где стояли разнообразные прописанные врачом лекарства, а также полидент, вазелин, аскриптин, коробки бумажных салфеток, ушных палочек и ватных шариков, мой взгляд привлек бритвенный прибор — точнее, кружка, некогда принадлежавшая моему деду, отец держал в ней бритву и тюбик мыльного крема. Бледно-голубая фарфоровая кружка с изящным цветочным орнаментом, обрамлявшим белый овал, внутри которого стояло написанное полустершимся готическим шрифтом имя деда «С. Рот» и дата «1912». Кружка, насколько мне известно, за вычетом пачечки старых фотографий, была единственным наследственным достоянием нашей семьи, единственным осязаемым предметом, который позаботились сохранить в память о нашей иммигрантской жизни в Ньюарке. Кружка эта вызывала во мне живейшей интерес с тех самых пор, как дед за месяц до моего дня рождения — мне должно было исполниться семь лет — умер; она проделала путь до нашей ньюаркской ванной еще в те времена, когда отец пользовался при бритье помазком и мыльным кремом.
Сендер Рот был фигурой далекой и загадочной — рослый мужчина с несоразмерно маленькой головой; с этим предком я более всего схож телосложением, а знаю о нем лишь, что он курил весь день напролет, говорил исключительно на идише и не был склонен тетешкать своих американских внуков, когда по вокресеньям родители водили нас к нему. После смерти деда бритвенная кружка в нашей ванной более зримо вызывала к жизни его образ не как деда, но в куда более интересном для меня в ту пору качестве: мужчина как мужчина, один из посетителей парикмахерской, где его бритвенный прибор держали на полке вместе с приборами окрестных иммигрантов. Сознание, что в доме, где, как я понимал, никогда не водилось свободного гроша, каждую неделю выкраивали десятицентовик, чтобы дед мог перед субботой пойти в парикмахерскую побриться, очень подбадривало меня в детстве.
Мой дед Рот учился в городишке польской Галиции неподалеку от Львова — хотел стать раввином, однако, приехав в 1897 году в Америку, один, без жены и троих сыновей (моих дядьев — Чарли, Морриса и Эда), поступил на шляпную фабрику, чтобы заработать деньги и перевезти семью, и проработал там чуть не всю жизнь. С 1890-го по 1914 год у него родилось семеро детей — шестеро сыновей и дочь, все они, за исключением двоих последних сыновей и единственной дочери, после восьмого класса бросили школу — поступили на работу, чтобы помогать семье. Бритвенная кружка с надписью «С. Рот», похоже, освобождала деда — пусть ненадолго, пусть всего на те несколько минут под вечер в пятницу, пока он сидел в парикмахерском кресле, где его никто не дергал, — от тяготевших над ним непреложных обязательств, которые, на мой взгляд, и обусловили его крутой и замкнутый нрав. Его кружка в нашей самой что ни на есть заурядной крохотной ванной имела ауру археологической находки, произведения искусства, свидетельствующего о неожиданно высоком уровне культурной утонченности, неожиданных излишествах в жизни, во всех других отношениях стесненной и трудной; для меня она была чем-то вроде греческой вазы — памятником легендарного происхождения нашего народа.
А вот в 1988 году меня больше всего поразило, что отец не выбросил кружку и не отдал ее. За годы своего самовластья он избавился практически от всех «ненужных» вещей, по всей вероятности дорогих каждому из нас как память. Хотя для таких приступов щедрости имелись, в общем и целом, веские причины, изначальными правами собственника при этом он пренебрегал. Он так рвался удовлетворить потребность (подлинную или мнимую) получателя, что не всегда утруждал себя мыслью о том, как скажется его порыв на невольном благодетеле.
К примеру, мою коллекцию марок, целых два альбома — а сколько сил я отдал ей в последние школьные годы, — коллекцию, на собирание которой меня в какой-то мере подвиг пример самого известного филателиста страны Франклина Делано Рузвельта и на которую уходили все мои средства, отец, едва я уехал в колледж, отдал внучатому племяннику. Узнал я об этом лишь десять лет спустя, когда мне пришло в голову использовать свой школьный опыт юного собирателя марок для эпизода в одном из моих сочинений, и я наведался в родительский дом в Мурстауне, чтобы взять альбомы с чердака. И только когда я перерыл все ящики, оставленные там на хранение, и ничего не нашел, мама до крайности неохотно и лишь после того, как мы остались одни, объяснила, почему их там нет. Мама заверила меня, что пыталась удержать отца, говорила, что марки — мои, и он не вправе ими распоряжаться, но он не желал ничего слушать. Отец сказал, что я уже взрослый, учусь в колледже и мне марки «решительно ни к чему», тогда как Чики, его внучатый племянник, напротив, мог бы отнести их в школу и т. д. и т. п. Наверное, я мог бы выяснить, сохранилась ли моя коллекция или хотя бы часть ее, связавшись с Чики, практически мне незнакомым и в ту пору уже давно женатым, но я предпочел ничего не предпринимать. Поступок отца до крайности раздосадовал меня, а когда я вспомнил, сколько трудов положил в отрочестве на эту коллекцию, и нешуточно задел, но, так как отец отдал коллекцию бог знает как давно и к тому же в ту пору у меня имелись неприятности и посерьезнее (я разводился — и весьма болезненно — с женой), я ничего ему не сказал. Ну а реши я выкорить его лицом к лицу, в двадцать восемь это мне было бы не легче, чем в восемнадцать или восемь, так как даже его вызывающе безрассудные выходки неизменно порождались искренним желанием поддержать, помочь, выручить, спасти, и толкало его на них убеждение, что он поступает — подарив, к примеру, мои марки — щедро, участливо и действенно с точки зрения нравственной или воспитательной.
Думается, двигали им и побуждения другого толка — постичь и обозначить их труднее: когда мы вернулись с похорон мамы в мае 1981 года и в нашу квартиру стали стекаться родственники и друзья, он скрылся в спальне и принялся опорожнять ящики комода и разбирать ее вещи в шкафу. Мы с братом стояли в дверях — встречали тех, кто вместе с нами вернулся с кладбища, поэтому я бы и не знал, чем он занимается, если бы мамина сестра Милли не выскочила из спальни и не кинулась ко мне за помощью.
— Тебе бы, милый, лучше пойти туда и как-то повлиять на отца, — шепнула она мне на ухо. — Он выбрасывает ее вещи.
Я вошел в спальню, властно сказал: «Пап, ну что ты делаешь?» — но и это его не остановило. На постели уже громоздилась груда платьев, пальто, юбок и блуз, вынутых из стенного шкафа, а сейчас он деловито выкидывал вещи из нижнего ящика комода в пластиковый мешок для мусора. Я положил руку ему на плечо, с силой сжал его.
— Люди приехали сюда ради тебя, — сказал я, — они хотят тебя видеть, поговорить с тобой…
— Все эти вещи… и кому они теперь нужны? Мне что — нужно, чтобы они тут висели? Их можно отослать в «Еврейскую взаимопомощь» — все вещи новенькие, как с иголочки.
— Остановись, прошу тебя, остановись. Спешить некуда. Позже мы с тобой этим займемся. Оставь это, — сказал я. — Соберись. Иди в гостиную — тебя там ждут.
Но он и так был собран. Судя по всему, поведение его нельзя было списать ни на помрачение сознания, ни на истерику — просто-напросто он вел себя так, как всегда: справившись с одной трудной задачей, брался за другую. Полчаса назад мы погребли мамин прах; значит, теперь нужно убрать ее вещи.
Я увел его из спальни, и, едва он оказался среди гостей, пришедших выразить нам соболезнование, как у него тут же развязался язык и он стал уверять всех и каждого, что чувствует себя отлично. Я вернулся в спальню — вынуть из мусорного мешка связку выброшенных им сувениров, тщательно и бережно хранимых мамой, и среди них мой ключ «Фи-бета-каппа»[8] в коричневом конвертике — маме очень хотелось его иметь, — пачечку программок выпускных торжеств по окончании членами нашей семьи того или иного учебного заведения, поздравительные открытки к дням рождения от брата и меня, стопку телеграмм, оповещающих о различных радостных событиях, газетные вырезки обо мне и моих книгах, присланные ей друзьями, снимки двух внуков в младенчестве — главные ее сокровища. Отец не мог вообразить, к чему теперь эти вещи, когда ее, так любовно их хранившей, не стало, к чему эти сувениры, дорогие сердцу той, чье сердце перестало биться два дня назад в ресторане «Дары моря», куда они по давно заведенному распорядку пошли воскресным вечером поужинать с друзьями. Маме только что подали суп из моллюсков — ее любимое блюдо, ко всеобщему удивлению, она сказала: «Что-то мне расхотелось его есть» — это были ее последние слова, еще миг — и она умерла от обширного коронаротромбоза.
Больше всего меня потрясла примитивность отца. Когда он, уединившись в спальне, опрастывал ящики ее комода и шкафа, казалось, на это его толкнул инстинкт, наверное, вполне естественный в диком звере или туземце, однако вопиюще противоречащий любому из погребальных обрядов, которые цивилизованное общество выработало с целью смягчить чувство потери у людей, переживающих утрату своих близких. При всем при том было нечто чуть ли не достойное восхищения в этой беспощадной трезвой решимости немедля признать, что отныне он старик и его удел — коротать остаток дней в одиночестве, так что никакие реликвии ни в коей мере не заменят подругу из плоти и крови, с которой прожито пятьдесят пять лет. Мне показалось, он решил, не мешкая, освободить квартиру от ее вещей, похоронить и их не потому, что опасался их призрачной власти, а потому, что не считал возможным уклониться от того, страшнее чего нет.
Ни разу в жизни, насколько я знаю, он не пытался уйти от удара, каким бы сокрушительным тот ни был, и все же, как мне стало позже известно, когда мама умерла, он бежал от покойницы. Случилось это не в ресторане, где она умерла, а в больнице, где признали, что она умерла, лишь после того как врачам «скорой помощи» не удалось вернуть ее к жизни по пути из ресторана в реанимацию. В больнице носилки с ее телом поставили в отдельную палату, и когда отец — он следовал за «скорой» на своей машине — вошел в палату посмотреть на нее, видеть то, что он увидел, оказалось выше его сил, и он бежал. Прошел не один месяц, прежде чем он заставил себя об этом рассказать, а когда заставил, то рассказал не мне, не брату, а Клэр — женщине, она могла по-женски отпустить ему грех, а без этого ему было не избыть стыда.
Сам он был не способен объяснить, почему сбежал, но я задавался вопросом — не потому ли он сбежал, что до него дошло: в ее смерти есть и его вина, ведь в то утро, хотя ей это было не под силу, он принудил ее совершить долгую прогулку. Она уже некоторое время страдала жесточайшей одышкой и — от меня это утаили — стенокардией; а прошлой зимой ее долго мучил артрит, что и вовсе ее подкосило. Ту зиму она практически провела в кресле, однако в день, когда она умерла, стоял погожий май, она наконец-то выбралась из дому — размять ноги, и они с отцом прошли три, причем очень длинных, квартала до аптеки, а потом — на этом настоял отец, утверждая, что такая прогулка пойдет ей на пользу, — вернулись домой пешком. Как говорила тетя Милли — мама позвонила ей перед тем, как идти в ресторан, — к тому времени, когда они дошли до аптеки, мама уже совершенно выдохлась. «Я думала, мне не вернуться домой», — доложила она тетке, но, вместо того чтобы остановить такси или подождать автобус, они недолго передохнули на ближайшей скамейке, и отец двинул ее в обратный путь.
— Ты же знаешь своего отца, — сказала тетка. — Он сказал, что она справится.
Остаток дня мама пролежала, стараясь набраться сил, чтобы пойти на ужин. Случилось так, что примерно за час до того, как они отправились на прогулку, я по заведенному обычаю позвонил им из Англии и в шутку сказал маме: когда они с отцом приедут этим летом ко мне, мы с ней, я уверен, пройдем километра два, не меньше, по деревенской дороге, пролегающей мимо моего дома. На что она ответила:
— Как тебе сказать, сынок, два километра мне вряд ли пройти, но попытаться попытаюсь.
В первый раз за многие месяцы голос ее звучал весело, бодро, и, не исключаю, в тот день она отправилась на прогулку в надежде подготовиться к нашей летней вылазке.
К слову сказать, когда на следующий же день я вернулся в Америку и приехал прямиком из аэропорта Кеннеди в Элизабет на такси, отец встретил меня словами:
— Вот так вот, Фил, ей уже с тобой не погулять.
Он сидел в мамином шезлонге — одряхлевший, лицо изможденное, убитое. Я тогда подумал (и, как оказалось впоследствии, не ошибся): «Вот так он будет выглядеть на смертном одре». Мой брат Сэнди и его жена Хелен приехали накануне из Чикаго и, когда я добрался до Элизабета, были уже у отца. Сэнди успел сходить в похоронную контору и назначить похороны на следующий день. Перед тем как Сэнди идти в контору, отец позвонил старику-директору конторы — мама училась с ним в Элизабетской средней школе в конце первой мировой войны. Заливаясь слезами, отец сказал ему: «Хиггинс, проследи, чтобы ее обрядили как надо, проследи, чтобы ее хорошо обрядили», — а потом весь день проплакал навзрыд в том самом шезлонге, где мама устраивалась после ужина, стараясь лечь так, чтобы ее меньше мучил артрит, пока они вместе смотрят телевизор.
— Она заказала суп-пюре из моллюсков по-новоанглийски, — сказал отец, когда я, как был в пальто, опустился у шезлонга на колени и взял его за руку, — а я по-манхэттенски. Когда суп принесли, она сказала: «Что-то мне расхотелось его есть». Я сказал: «Ешь мой, давай поменяемся», но она умерла. Просто подалась вперед. Даже не упала. Чтобы никому не причинить никаких неудобств. Как всегда.
Снова и снова отец рассказывал мне, как до предела прозаично протекала одна секунда за другой перед ее гибелью, а я тем временем думал: «Что же нам делать со стариком?» Случись так, что из этой престарелой четы первым умер бы отец, а не мама, мы бы знали, как о ней позаботиться, к тому же это было бы вполне естественно: именно она была хранительницей прошлого нашей семьи, летописцем нашего детства и зрелости и, как я теперь понял, именно она, ее несуетная энергия, скрепляла семью после того, как мы с братом — а это было не один десяток лет тому назад — уехали из дома. Отец был человеком более трудным, менее обаятельным, да и менее уживчивым; он неукоснительно отвергал с порога, и, по правде говоря, ни в малой мере не задумываясь, мнения, хоть отчасти расходящиеся с предубеждениями, которыми руководствовался. И тем не менее, пока я стоял на коленях и держал его за руку, мне стало ясно, как он нуждается в нашей помощи; неясно было одно — как пробиться к нему.
Своим безумным упрямством — упрямым безумием — он едва не довел маму до нервного расстройства в ее последние годы: после того как в шестьдесят три он ушел на пенсию, ее, некогда увлеченную, самостоятельную домоправительницу, чуть не полностью подавил его мелочный, гнетущий деспотизм. Долгие годы он свято верил, что его жена — само совершенство, и все эти годы не слишком ошибался: мама была из тех рьяных дочерей еврейских иммигрантов, которые подняли домашнее хозяйство в Америке на уровень искусства. (Не вздумайте рассказывать кому-нибудь из членов нашей семьи об уборке— нам досконально известно, что такое настоящая уборка.) Ну а потом отец ушел на пенсию — он работал в одном из крупных отделений «Метрополитен лайф» в Южном Джерси, где управлял штатом из пятидесяти двух сотрудников, — и умело, четко определенные границы обязанностей каждого из них, так способствовавшие успеху брака, постепенно начали стираться — и кем: конечно же им. Ему нечем было себя занять, она была очень занята, а куда ж это годится?
— Знаешь, кто я такой? — грустно поделился он со мной, когда ему исполнилось шестьдесят пять. — Муж Бесси.
А ни по характеру, ни по жизненному опыту всего лишь мужем Бесси быть он не мог. Итак, после года-двух добровольческой службы в ист-оринджском ветеранском госпитале, в организациях «Еврейской взаимопомощи», в Красном Кресте, и поработав — вот до чего дошло — подручным у приятеля, владельца скобяной лавки, он стал начальником Бесси и на этом успокоился, однако мама — так уж сложилось — в начальнике не нуждалась, она была сама себе начальником с тех самых пор, как в 1927 году — тогда родился мой брат — основала совершенно самостоятельно высококлассную компанию по домоправлению и взращиванию детей.
В последнее мамино лето они приехали к нам в Коннектикут на уик-энд, и, когда мы с ней, оставшись одни, пили чай на кухне, она объявила, что подумывает о разводе. Услышав от мамы слово «развод», я был так же ошеломлен, как если бы она грязно выругалась. Впрочем, сокрытые от всех сложные сопряжения совместной жизни отца и матери, трудности, разочарования, преодоление кризисов и впрямь остаются тайной, притом навек, в особенности, наверное, если растешь примерным мальчиком — и одновременно примерной девочкой — в крепкой семье с налаженным бытом. Мало кто осознавал, что мы, сыночки, которых вскармливали грудью и над которыми агукали матери, столь же поднаторевшие, как моя мать, в искусстве взращивания и домоправления, росли также и примерными девочками. Весь долгий и самый восприимчивый период мужчина, которого целый день нет дома, — куда более далекая и мифическая фигура, чем вполне осязаемая женщина необычайной сноровки, крепко-накрепко привязанная — в те годы, когда я рос, — к вкусно пахнущей кухне, где власть ее неограниченна, а авторитет непререкаем.
— Мам, ну подумай сама, — сказал я, — не поздно ли разводиться? Тебе семьдесят шесть.
Но она плакала, притом навзрыд. Это тоже меня ошарашило.
— О чем бы я ни говорила, он не слушает, — сказала она. — Вечно прерывает и заводит речь о чем-то другом. А когда мы куда-нибудь идем, ведет себя и того хуже. Не дает и слова сказать. Сразу затыкает мне рот. При чужих. Совершенно со мной не считается.
— Скажи ему, чтобы он так не поступал, — посоветовал я.
— Это ничего не изменит.
— В таком случае, повтори и, если и на этот раз не подействует, встань и скажи: «Я иду домой». И уйди.
— Ну что ты, сынок, я так не могу. Нет. Я не могу так его оконфузить. На людях.
— Ты же говоришь, что он тебя конфузит. На людях.
— Это совсем другое дело. Мы с ним разные. Ему не снести такой обиды, Филип. Он сломается. Его это убьет.
Через три месяца после ее смерти, в августе 1981 года, я приехал из Коннектикута, чтобы отвезти отца в «Плазу» — жилой комплекс Еврейской федерации в Уэст-Ориндже: мы собирались посмотреть там квартиры для пенсионеров и престарелых. Поселиться в этом комплексе отцу присоветовал старинный приятель моего брата, адвокат из Нью-Джерси, член совета директоров Федерации. Он сказал, что поможет отцу получить — если тот захочет — квартиру в «Плазе» без проволочек. Обитатели «Плазы» жили отдельно в двух- и трехкомнатных собственных квартирах, но при этом в тесном общении: каждый, без исключения, вечер сходились на ужин в столовую — ужин им готовили — и имели свободный доступ во всевозможные кружки в «Y» по соседству. Уэст-Ориндж по-прежнему оставался одним из самых приятных ньюаркских пригородов, а «Плаза», судя по описаниям, располагалась на зеленом склоне с видом на оживленную улицу всего в нескольких минутах ходьбы от торгового центра и от синагоги Б'най Абрахам, которую, как и «Y», перевели из хиреющего Ньюарка, и теперь она служила старикам не только синагогой, но и культурным центром. В общем, мне показалось, что в «Плазе» отец не будет испытывать недостатка в общении, и я надеялся, что, осмотрев «Плазу», он, глядишь, и переберется туда. Если же он и дальше будет торчать один как перст в своей элизабетской квартире, то, не ровен час, в самом прямом смысле умрет от тоски. Питался он, даже когда садился за стол и ел, преимущественно вареными сосисками и консервированными бобами, и, если я звонил ему посреди дня, нередко оказывалось, что он или спит, или льет слезы.
Заехав за ним в тот день, я понял, что он сидел в одиночестве и плакал. Не исключено, что он плакал с тех самых пор, как проснулся; и не исключено, что проплакал всю ночь напролет. Он провел несколько недель у нас в Коннектикуте — сначала в июне, потом в июле, и мне показалось, что он справился с самыми острыми приступами тоски, но, оставшись в квартире один, без мамы, снова загоревал, и горе его было безутешным. Стоял прелестный августовский денек, но он сидел в комнате с опущенными шторами, не зажигая света. Я заметил, что, хотя одежда на нем чистая, одет он нелепо — можно подумать, проснувшись, он напялил на себя первое, что подвернулось под руку. Я спросил, что он ел на завтрак, и он ответил:
— Ничего не ел. Что-то ел. Не помню.
— Я привез тебе подарок. — Включил свет и показал ему пластиковый пакет. — Тебе всегда хотелось это иметь. Закрой глаза.
К моему удивлению, он послушно, как ребенок в ожидании подарка, закрыл глаза, но на лице его не появилось и тени улыбки.
— Смотри, — я вынул из пакета ерш для уборной и бутылку лизола, купленные три часа назад в коннектикутском универмаге. Купил я также и пузырек двухмиллиграммовых таблеток валиума. Мне хотелось отучить его от пятимиллиграммовых таблеток, которые я же ему и привез: после смерти мамы он мучился бессонницей. — Ну же, — сказал я. — Я научу тебя одной штуке — в твоей школе на Тринадцатой авеню тебя такому не учили.
Он прошел вслед за мной в ванную, где на проволочных плечиках сушились огромные трусы, и я показал ему, как драить унитаз.
— Если уж ты во что бы то ни стало решил обходиться без уборщицы… — начал было я, но он резко оборвал меня.
— Я что, буду платить уборщице, раз отлично справляюсь сам? Я проснулся в пять и принялся пылесосить. Когда мама умерла, я обещал, себе обещал, что здесь будет такой же порядок, как при ней. — На этих словах он снова расплакался.
В гостиной я дал ему пузырек с двухмиллиграммовыми таблетками валиума и сказал, чтобы в случае бессонницы он принимал по одной такой таблетке, а все другие спустил в унитаз. Он сразу согласился, хотя прежде становился на дыбы, даже если ему предлагали принять аспирин. Однако когда я напомнил, что в час нам надо быть в «Плазе», он заартачился. Сказал — и вполне категорично, — что ему это ни к чему.
— Какого черта, — сказал он. — Мне и здесь хорошо. У меня все хорошо.
— Неужели?
— Какого черта, Фил… Не хочу я туда ехать.
— Послушай, ты же сам понимаешь: куда это годится? Не положено так. Сделай одолжение, поступай со мной не как с родственником, а так, будто ты все еще менеджер страховой компании. Если бы к тебе в «Метрополитен» пришел человек и предложил что-то, по его мнению, полезное для компании, ты по меньшей мере выслушал бы его. Сел бы поудобнее, дал бы ему изложить свое предложение, потом обдумал бы его и сообщил, к какому решению пришел. И уж точно не сказал бы «Какого черта» и не заткнул бы ему рот, раз уж сам его пригласил. Что я тебе предлагаю: всего-навсего поехать посмотреть на «Плазу», как мы с тобой неделю назад и договорились. Это не интернат и не дом престарелых — ничего подобного, это новый жилой комплекс, люди спят и видят, как бы туда попасть, подолгу ждут своей очереди, и устроен он так, чтобы жильцам было удобно, было с кем пообщаться — с мужчинами, с женщинами, людьми своего круга. Может статься, тебе это подойдет, может статься, не подойдет, но, если ты будешь упираться, нам этого не узнать. Прошу, веди себя, как менеджер страховой компании, а не так — не стану говорить, как ты себя ведешь, — и не исключено, мы к чему-то и придем.
Произведения
Критика