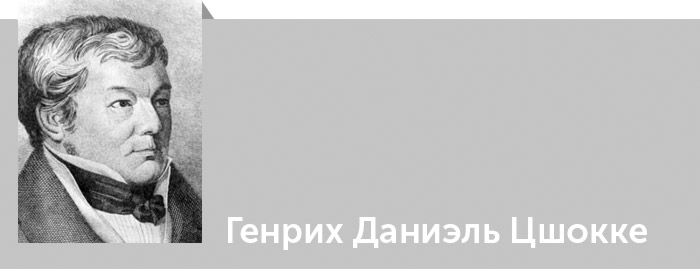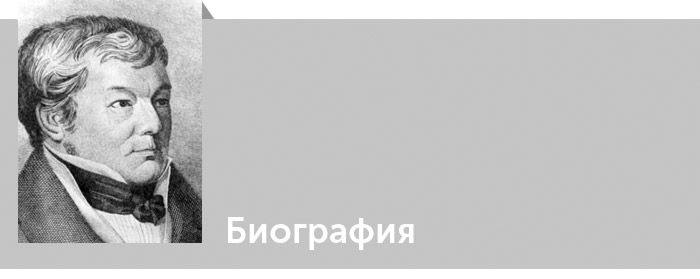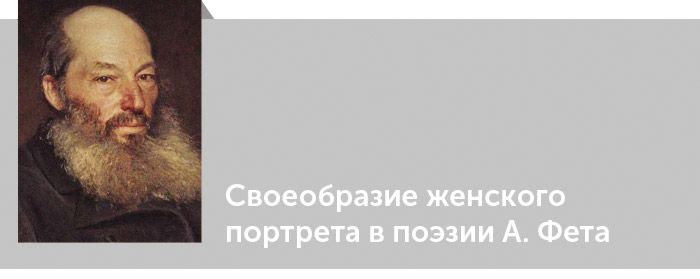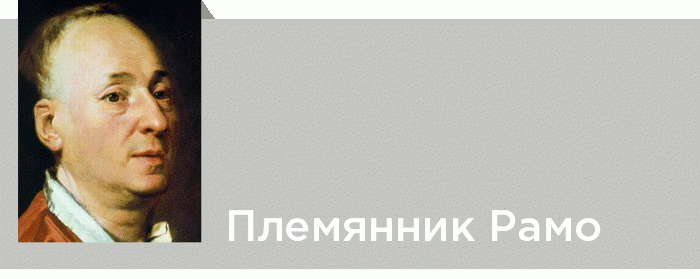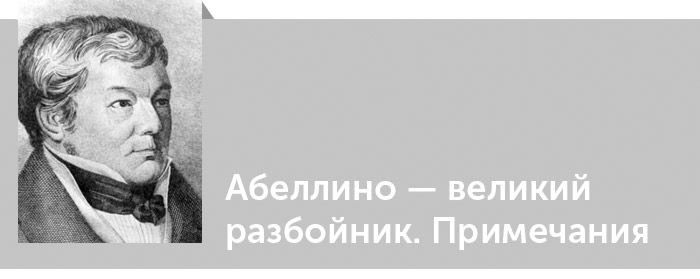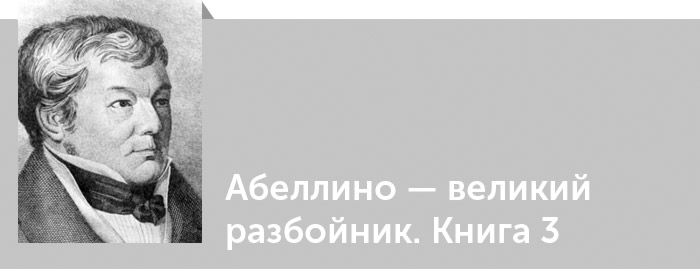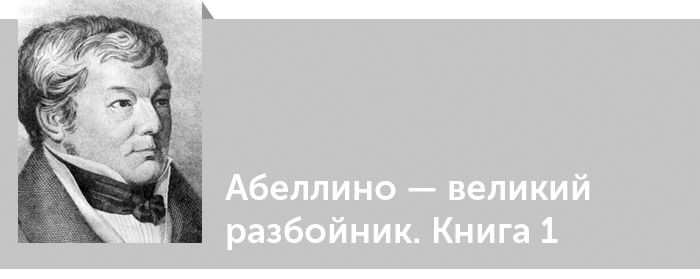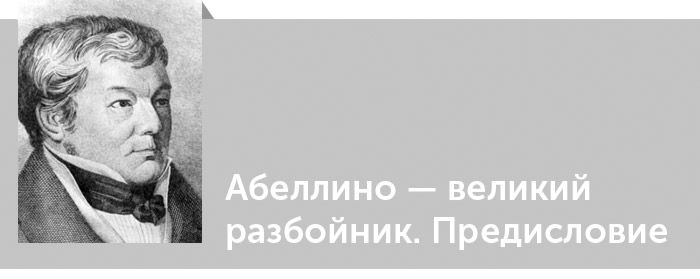Генрих Цшокке. Абеллино — великий разбойник. Книга 2
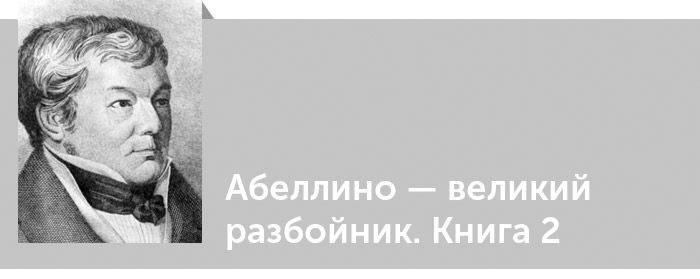
Глава первая
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Следующий день шайка провела в страхе и душевных муках. Двери и окна дома были накрепко заперты. Разбойники вздрагивали от малейшего уличного шума, а приближающиеся шаги приводили их в трепет.
Тем временем во дворце дожа царили великолепие и радость. Хозяин готовился отмечать день рождения своей племянницы. Самые достойные вельможи, посланники и иноземцы, находившиеся в Республике, — все спешили на этот славный праздник.
Дож ничего не пожалел, чтобы придать торжеству блеска. Каких только развлечений здесь не было. Лучшие поэты воспели этот день, и стихи их, вдохновленные красотою Розамунды, были под стать имениннице. Виртуозы музыканты старались превзойти друг друга, желая заслужить ее похвалу. Все веселились, даже лица стариков озаряла юношеская радость.
Редко бывал так весел и дож. Добрая улыбка не сходила с его уст. Предупредительный и ласковый с каждым, Андреа не давал повода вспомнить, что он — правитель Венеции. То говорил он приятные слова девушкам, украсившим собою праздник, то появлялся между масками, чьи смешные наряды веселили зрителей, то рассуждал о важных материях с главными лицами Республики; а потом забывал все, глядя, как танцует Розамунда, и слушая, как она поет. Сильвио, Канари и Дондоли, эти трое друзей и советников дожа, невзирая на свои седины, находились в кругу молодых людей и блистали остротой ума, которая сквозила во всех их речах.
Канари отделился от компании, чтобы подойти к дожу, который беседовал с племянницей в смежной зале. В комнате больше никого не было, и Андреа Григти завел с ним разговор:
— Канари, на моей памяти ты так не веселился даже в день, когда мы брали Скардону*),1 и победа доставила нам столь великое наслаждение.
Канари. О да, дож! Всегда помню и радость, и страх той ночи. Мы взяли город и сбросили полумесяц, его защищавший. Венецианцы дрались как львы2.
Гритти. Мы обязаны чтить их память! А ты разделил с ними победу; покой, которым мы теперь наслаждаемся, — это плод и твоей храбрости.
Канари. Ах! Приятно, конечно, почивать на лаврах, но не вам ли обязан я своей славой! Никто бы и не знал, что я есть на земле, если бы в Далмации и на Сицилии не сражался я под знаменами великого Андреа Гритти и не помогал всеми силами созидать вечный монумент во славу Республики.
Гритти. Дорогой Канари, у тебя слишком пылкое воображение!
Канари. Знаю, что эти хвалы и слово «великий», произнесенное в вашем присутствии, обидны для вашей скромности, но я слишком стар, чтобы остаток дней посвящать лести. Оставим сей труд молодым придворным, которые не сражались еще за Венецию и за вас.
Гритти. Умерь свой пыл!
Канари. Я горжусь тем, что живу в правление государя справедливого, а для врагов отечества — страшного. Венеции нечего их опасаться, пока Андреа управляет ею. Однако если вы и герои, воспитанные на вашем примере, будете оставаться в бездействии, то, боюсь, как бы благоденствию Венеции не пришел конец.
Гритти. К чему эти страхи! Разве нет у нас хороших молодых офицеров, подающих самые счастливые надежды?
Канари. Да кто они такие? По большей части «герои» своих канцелярий — люди изнеженные, обжоры и распутники! Простите моим летам эти бесполезные сетования! Когда говоришь с Андреа, невольно думается, что на свете существует только добродетель! Государь, у меня есть к вам просьба!
Гритти. Какая же?
Канари. Вот уже неделя, как прибыл сюда один молодой человек знатного рода из Флоренции. Его зовут Флодоардо, и все в нем говорит о благородном происхождении и храбрости. Отец его был моим искренним другом, но, увы! этого великодушнейшего из людей уже нет среди нас. Мы с ним вместе начали службу и несли ее на одном корабле. Не раз бивали мы турок — он не ведал страха.
Гритти. Выхваляя доблести отца, ты забываешь рассказать мне о сыне.
Канари. Сын приехал в Венецию и желал бы служить Республике. Прошу вас дать ему хорошее и выгодное место. Сей молодой человек еще прославит наше отечество — смею вас уверить!
Гритти. Тебе известны его дарования и ум?
Канари. Известны, государь! Он храбр и великодушен, как его отец. Угодно ли вам будет видеть его и беседовать с ним? Он здесь, хотя и под маской. Дабы показать вам его намерения, сообщу, что, услыхав о разбойниках, которые беспокоят Венецию, он задумал освободить ее от них и передать в руки правительства всех злодеев, которым удавалось пока избежать наказания. Это первая служба, какую он хотел бы сослужить Республике.
Гритти. Не думаю, чтобы такое было ему под силу. Однако ж передай, что я хочу с ним поговорить.
Канари. Вижу, просьба моя почти уже выполнена, ибо, увидев Флодоардо, нельзя не полюбить его. Наружность его привлекательна, и он расположит вас так же, как и меня.
Гритти. Сколько тебя знаю, Канари, никогда еще не видел, чтоб ты был так воодушевлен. Найди и приведи ко мне этого необыкновенного человека.
Канари. Спешу повиноваться! А вам, сударыня, придется остерегаться; вы слышали похвалы, которые я ему расточал.
Розамунда. Вы пробудили во мне любопытство. Ведите же поскорее вашего героя.
Канари ушел.
Гритти. Миленькая, отчего бы тебе не пойти в танцевальную залу?
Розамунда. Усталость и любопытство заставляют меня остаться с вами. Мне хочется увидеть этого молодого Флодоардо, которого Канари так превозносит; но, по правде сказать, любезный дядюшка, мне кажется, я его уже видела. На балу я заметила одну маску в греческом наряде3, такого прекрасного сложения, что самые равнодушные взоры не могли ее пропустить. Эта маска — высокого роста, чрезвычайно ловка и прекрасно танцует.
Гритти (улыбаясь). Розамунда!
Розамунда. Все сущая правда! Невозможно, чтоб этот грек не был графом Флодоардо! Но как его описал Канари... Вот он, любезный дядюшка! Вот тот, про кого я говорила.
Гритти. Он идет к нам — и с ним Канари. Розамунда, ты угадала!
Едва дож произнес эти слова, как в залу вошел Канари, держа за руку статного молодого человека, одетого в расшитое греческое платье.
— Государь, — произнес Канари, — позвольте представить вам графа Флодоардо, который покорнейше просит вашего покровительства!
Флодоардо в знак уважения снял головной убор и маску и низко склонился перед дожем.
Гритти. Я слышал, вы хотите служить Республике.
Флодоардо. Да, государь! Этого желает мое честолюбие, если ваша светлость сочтет меня достойным сей награды.
Гритти. Сильвио отзывается о вас очень хорошо. Если слова его справедливы, то отчего вы лишаете свое отечество достойного сына?
Флодоардо. Оттого, что им правит не Андреа.
Гритти. Мне сказали, вы собираетесь отыскать логово разбойников, заставляющих Венецию с некоторых пор проливать столько слез!
Флодоардо. Если соблаговолит ваша светлость поручить мне это, то отвечаю головой, что в скором времени передам их всех в руки правосудия.
Гритти. Дело это трудное, к тому же вы — иностранец4. И все-таки я предоставляю вам свободу действий.
Флодоардо. Вашего доверия для меня достаточно. Через два дня я выполню свое обещание!
Гритти. Вы меня удивляете! Разве вы не знаете, молодой человек, как опасны эти злодеи? Они рассеяны повсюду и обычно появляются там, где их меньше всего ожидают. Нет уголка в Венеции, который бы не был известен нашим шпионам, однако стражники тщетно искали, где прячется шайка.
Флодоардо. Знаю это и радуюсь! Я отыщу логово и так докажу вашей светлости, что мне можно доверять важные дела.
Гритти. Положитесь на мое покровительство и выполняйте свое обещание! А сейчас довольно об этом — ибо я не хочу, чтобы печальная мысль омрачала радость нынешнего дня. Розамунда, собери танцующих! Граф, препоручаю ее вам!
Флодоардо. Государь, это самое драгоценное сокровище!
В продолжение всего разговора Розамунда стояла облокотясь о кресло своего дяди. Она повторяла про себя слова Канари: нельзя, увидев Флодоардо, не цолюбить его. Глаза ее, устремленные на графа, убедились, что Канари сказал правду. Когда дож препоручил ее Флодоардо, легкий румянец покрыл щеки девушки, и она смешалась — принять или нет поданную графом руку.
Но какая бы тут не смешалась! Прекрасен был облик Флодоардо; кротость его лица запечатлевалась в сердце каждого, кто ни взглянет, а сам его лик мог служить образцом для живописца; горделивая походка свидетельствовала о героической душе. Ах, и меньшего довольно, чтобы лишить покоя нежное и неопытное сердце!
Флодоардо подал руку Розамунде и повел ее в танцевальную залу. Там все дышало радостью и удовольствием, пол дрожал под ногами танцующих. Молодые люди дошли до конца залы и остановились у открытого окна. Несколько минут прошло в полном молчании. Иногда взоры их встречались, иногда танцующие пары отвлекали на себя их внимание, иногда они, казалось, забывали обо всем вокруг и погружались в глубокую задумчивость.
— Есть ли большее несчастье?!— воскликнул наконец Флодоардо.
— Какое несчастье? — переспросила Розамунда смущенно, словно пробудившись ото сна. — Кто несчастлив, граф?
— Тот, кто осужден смотреть на благо, которого он никогда получить не сможет; тот, кто томим жаждой и видит бокал с водой, предназначенный другому!
— Не вы ли тот несчастный, лишенный блага, по которому он томится, — не в этом ли смысл ваших слов?
— Положим, вы угадали. Судите, не обделен ли я счастьем, любезная Розамунда?
— Что же это за благо, которое для вас недоступно?
— Есть ли на земле благо, равное с благом владеть Розамундой?!
Девушка покраснела и потупила взор.
— Не оскорбил ли я вас, сударыня? — спросил Флодоардо, взяв ее почтительно за руку. — Не рассердились ли вы на меня?
— Вы из Флоренции, граф, и, может быть, не знаете, что в Венеции не любят таких комплиментов. Мне, по крайней мере, они не могут быть приятны.
— Извините меня, сударыня! Однако я выразил искреннейшее свое желание, а никак не говорил комплимент.
— Дож входит в залу вместе с Канари и Сильвио — они будут искать нас среди танцующих, пойдемте!
Флодоардо последовал за ней в молчании. Они начали танцевать, и Розамунда была прелестна. С какою легкостью летала она по паркету! Грация и благородство проявлялись во всех ее движениях. Флодоардо не сводил с нее глаз. Он снял уже маску и шлем, но черные его кудри, вившиеся по воздуху, привлекали больше внимания, чем великолепные перья, украшавшие шлемы других мужчин. Все восхищались Флодоардо и Розамундой, но они не замечали этого, поглощенные только одним — желанием понравиться друг другу.
Глава вторая
ФЛОДОАРДО
Прошло уже два дня после праздника, устроенного дожем. Пароцци сидел запершись в комнате со своими друзьями Меммо и Фальери. Мрак покрывал предметы, светильник слабо их освещал, буря свирепствовала за стеной, и развращенные души молодых людей тяготил ужас.
Пароцци (после долгого молчания). Ну, друзья, о чем задумались?
Меммо. Не знаю! Кажется, сам ад вооружился против нас и вдохнул в наши души эту ужасную тревогу!
Пароцци. Чтоб их черт побрал!
Меммо. Кого? Разбойников?
Пароцци. Я никак не мог их найти. Досадно!
Фальери. А время уходит. Наши намерения могут рухнуть, и мы станем всеобщим посмешищем. Да еще вдобавок угодим в тюрьму. Жуть меня берет, когда обо всем подумаю!
Пароцци (ударив по столу). Этот Флодоардо!
Фальери. К двум часам велел мне прийти Гримальди — что же ему сказать?
Меммо. Пока еще нечего говорить. Полагаю, Контарино удалось что-то важное, недаром его так долго нет. Наверняка он принесет нам добрые вести.
Фальери. А я отвечаю головой, что Контарино лежит в эту минуту у ног Альмерии, начисто забыв и про разбойников, и про своих друзей.
Пароцци. Неужели никто не знает, кто такой этот Флодоардо?
Меммо (насмешливо). Мы тебе ничего про него не скажем, даже и того, что случилось в день рождения Розамунды.
Фальери. Кажется, ты, Пароцци, ему завидуешь.
Пароцци. Я — завидую! Да выйди Розамунда хоть за лодочника — мне все равно!
Фальери. Ты лжешь! Флодоардо, признаем, — первый красавец в Венеции, и не многие из наших девушек откажут ему в своем сердце. Говорят, старик Канари был коротко знаком с его отцом. Он, кажется, и сына очень любит.
Меммо. Канари дожу его и представил.
Пароцци. Кто-то стучится в ворота.
Меммо. Это, верно, Контарино. Теперь мы узнаем, нашел ли он разбойников. Да вот и он!
Отворилась дверь, и поспешно вошел Контарино, завернутый в плащ.
— Здравствуйте, друзья мои! — сказал он, сбрасывая накидку.
Товарищи его в ужасе отшатнулись.
— Боже мой! Что с тобой случилось? — воскликнули они. — Ты весь в крови!
Контарино. Да, я ранен! Вы, конечно, понимаете, что не сам я себя ранил. Жутко хочется пить! Налейте мне чего-нибудь!
Фальери принес стакан вина.
Пароцци. Сперва дай перевязать тебе рану. Не надо, чтобы кто-то знал об этом происшествии. Я сам буду твоим лекарем.
Контарино. О, не нужно, рана пустяковая! Налей-ка мне еще, Фальери.
Меммо. Я не могу опомниться от страха.
Контарино. Немудрено! И я бы испугался, если бы был Меммо, а не Контарино. Крови много, но это пустяки. (Раскрывает грудь.) Вот видите, рана неглубока.
Пароцци перевязал его.
Контарино. Прав Гораций: философ может быть и лекарем, и королем, и всем, кем захочет5. Смотрите, как искусно справился оратор Пароцци. Довольно, друг мой, благодарю тебя! Теперь садитесь послушайте. Сегодня вечером, после захода солнца, я завернулся в плащ и вышел из дома с намерением отыскать разбойников. Вы, может, скажете — намерение сие было безрассудным. Ни сам я не знал ни одного разбойника, ни они меня не знали. Но я хотел вам доказать, что для человека нет ничего невозможного. Мне описали некоторые их приметы, и я пошел. Случайно встретил какого-то лодочника, чья наружность вызвала мое любопытство. Я завел с ним беседу и вскоре выяснил, что ему известно логово шайки. За деньги я уговорил его отвезти меня туда. Мы сели в гондолу и плыли по каналу, пока не попали на окраину, которую я совсем не знал. Лодочник стал настойчиво требовать, чтобы я завязал себе глаза платком, и пришлось подчиниться. Через полчаса гондола причалила, и я, все еще с повязкой на глазах, сошел на берег. Пройдя несколько улиц и сделав несколько поворотов, мы остановились возле какого-то дома. Когда узнали, зачем я пришел, двери нам отворили — и меня провели внутрь. Повязку сняли, и я увидел, что нахожусь в небольшой комнате. Рядом оказались четыре человека, лица которых вы можете себе представить. Нечего было терять время. Я бросил на стол кошелек, пообещал золотые горы, назначил день, час и знак свидания и потребовал убить Дондоли, Канари и Сильвио.
Все. Браво!
Контарино. Пока все шло по моему желанию, и один из шайки собрался уже вести меня назад. Но тут нас неожиданно посетили.
Меммо (с беспокойством). Что случилось? Говори скорее!
Контарино. Мы услышали стук в двери. Один разбойник пошел посмотреть и вдруг поспешно вбежал в комнату, крича: «Бегите, бегите!»
Фальери. Что же произошло?
Контарино. Дом окружила толпа солдат и стражников. Предводителем их был — Флодоардо!
Все. Флодоардо?!
Фальери. Откуда он узнал?
Пароцци. Флодоардо? О, небо! Почему меня там не было?
Меммо. По крайней мере, теперь ты видишь, что этот Флодоардо — не трус.
Фальери. Досказывай.
Контарино. Мы оцепенели от ужаса. «Именем дожа и Республики, — крикнул Флодоардо, — сдавайтесь и сложите оружие!» — «Мы будем защищаться до последней капли крови!» — был ответ разбойников, схватившихся за ружья, которые стояли у стены. Я тотчас же задул огонь, чтобы солдаты нас не видели. Но, по несчастью, луна освещала комнату. «Берегись, Контарино! — говорил я себе. — Если тебя поймают, то повесят». Вместе с прочими я вынул шпагу и напал на Флодоардо, он отбил удар и защищался отчаянно. Но мое искусство не равнялось моей ярости — и я, раненный, отступил. В эту самую минуту при вспышке пистолетного выстрела я заметил незапертую дверь и ускользнул в другую комнату, там открыл окно и безо всякого вреда выскочил во двор. Перелезши через две или три садовые стены, я достиг канала. По счастливой случайности увидел лодку и добрался на ней до площади Святого Марка6, а оттуда прибежал к вам. Удивительно, как я остался жив. Не сам ли дьявол сыграл со мной эту шутку?
Пароцци. Я вне себя от ярости.
Фальери. Кажется, мы не приближаемся к нашей цели, а удаляемся.
Меммо. Мы должны внять предупреждению небес и отказаться от нашего замысла. Как вы думаете?
Контарино. Нечего так пугаться! Пусть этот случай придаст нам храбрости. Препятствия еще более укрепляют меня в моем намерении.
Фальери. Знают ли разбойники твое имя?
Контарино. Я им не сказал его, а назвался слугой одного знатного горожанина, обиженного друзьями дожа.
Меммо. Благодари небо, что оно спасло тебя от гибели. Фальери. Но как сумел Флодоардо отыскать пристанище разбойников? Ведь он лишь недавно в Венеции и не знает города!
Контарино. Черт его ведает! Может, так же случайно, как и я. Но клянусь, он дорого заплатит за мою рану.
Пароцци. Он должен заплатить своей жизнью.
Фальери. Мне хочется поближе познакомиться с этим человеком.
Контарино. Подумай, Меммо, о том, что нам нужны деньги. До каких же пор ты будешь откладывать отбытие твоего дядюшки в лучший мир?
Меммо. Завтра вечером все будет кончено.
Глава третья
НАПАСТЬ
После праздника дожа в Венеции у всех на слуху был иноземный красавец. О нем, только о нем говорили девушки, и многих он лишил покоя — вздыхали и кокетки, старавшиеся перед зеркалом загладить следы времени, и смиренницы, которые, позабыв строгость своих правил, выезжали гулять в сады и иные людные места в одной надежде увидеть Флодоардо.
Но когда венецианцы узнали, что, подвергнув опасности свою жизнь, он осмелился проникнуть в гнездо разбойников и всех их переловил, храбрец снискал всеобщее уважение. Все хвалили его смелость и рассудительность; все изумлялись, как сумел он найти разбойничье логово, когда стражники искали безуспешно.
Дож старался познакомиться покороче с этим необыкновенным человеком и, чем больше узнавал его, тем больше находил достойным всяческого уважения.
Важная служба, которую Флодоардо сослужил своему новому отечеству, была вознаграждена великолепным подарком и предложением самой высокой государственной должности.
Но граф не только не старался снискать эти милости — едва услышав о них, он почтительно и скромно просил у Андреа Гритти дозволения их не принимать. Пусть лишь в награду за деяние ему разрешат жить в Венеции без должности целый год, а затем он изберет такой род службы, к какому почувствует склонность.
Флодоардо остановился в доме своего старого друга Канари и зажил в полном уединении, проводя время за чтением книг. Часто он целыми днями оставался в своих покоях, лишь по праздникам появляясь на публике.
Флодоардо приняли в совет, состоявший из людей, прославивших Венецию: Андреа, Сильвио и Канари. Все они старались найти применение тем достоинствам, которыми природа одарила графа.
В кругу светил каждый мнил бы себя небожителем, однако сии проницательные мужи скоро заметили, что Флодоардо утратил свою веселость и тайная печаль снедает его сердце.
Напрасно Сильвио, питавший к нему отеческую нежность, старался узнать причину этой задумчивости. Напрасно почтенный Андреа желал рассеять туман, окутавший чело любимца. Флодоардо оставался печальным и молчаливым.
Что же делала в это время Розамунда? Могла ли она веселиться по-прежнему, когда Флодоардо предавался грусти? Девушка была очень удручена, слезы часто застилали ее печальные глаза. Прелестный цвет лица сменился бледностью. Дож, обожавший племянницу, начал беспокоиться о ее здоровье, и наконец Розамунда захворала на самом деле. День ото дня силы ее истощались, она уже не покидала спальни. Но ее болезнь не могли распознать даже самые искусные врачи.
И тут произошло нечто, отвлекшее Андреа и его друзей от тревоги за Розамунду и немало их озаботившее. Никто еще не отваживался в Венеции на столь дерзкий поступок.
Петрини, Струцца, Балуццо и Томмазо, пойманные Флодоардо, сидели в тюрьме, где их допрашивали каждый день, и каждый день они считали последним в своей жизни. Андреа и его советники надеялись, что спокойствие общества наконец-то восстановлено и Венеция полностью избавлена от тех злодеев, которых мщение или варварство могли нанять за горсть золота. Как вдруг в начале одной из улиц нашли следующую бумагу, прикрепленную к пьедесталу статуи:
Струцца, Петрини, Томмазо, Балуццо и Маттео пали жертвами несправедливых судей! Этих храбрецов, которые были бы героями, если бы командовали армиями, называют бесчестными убийцами! Их больше нет, венецианцы, — но я заменю их и посвящу свою жизнь тем, кому они помогали! Я смеюсь над тщетою стражников! Я проучу этого дерзкого чужестранца, который предал на казнь моих сотоварищей! Пусть ищут меня те, кто имеет во мне нужду, — и везде найдут меня! Пусть трепещут те, кто вознамерится предать меня в руки властей! Для них меня нет нигде! но я сумею отомстить им в ту самую минуту, когда они сочтут себя в полной безопасности! Слышите ли, венецианцы, — горе тому, кто попытается изловить меня! Жизнь его в моих руках.
Абеллино
— Сто цехинов тому, кто найдет логово этого изверга! — воскликнул дож в ярости, прочитав бумагу. — И тысячу тому, кто поймает его!
Но тщетно стража искала Абеллино, тщетно искали его и те, кого привлекла обещанная награда, — разбойника нигде не было.
Тут и там утверждали, будто видели его переодетым то в монаха, то в старика, то в женщину, — но никому не посчастливилось его схватить.
Глава четвертая
ФИАЛКА
Читателю уже известно, что Флодоардо впал в печаль, а Розамунда сделалась больна. Пора объяснить причины этих перемен.
Когда Флодоардо, приехав в Венецию и часто появляясь в обществе, пленил всех своей веселостью и умом, то, казалось бы, чего еще ему желать! Но он стал вдруг задумчив, и одновременно поползли слухи о болезни Розамунды.
Однажды Розамунда вышла прогуляться в сад своего дяди.
В размышлениях бродила она без цели по дорожкам. Иногда срывала досадливо листья с деревьев и бросала на дорогу; иногда вдруг останавливалась; потом быстро шагала взад и вперед, опять замирала и устремляла взор в небеса. Сердце ее сильно билось, и тщетно удерживала она вздохи, вырывавшиеся из груди.
— Нет! — шептала девушка. — Никто не может сравниться с ним в красоте.
И блуждающие взоры ее искали кого-то.
— Однако Идуэлла говорит правду! — промолвила она; и вновь досада отразилась на ее лице.
Идуэлла была воспитательницей и подругой Розамунды. Девушка потеряла родителей еще во младенчестве; мать ее умерла, не услышав лепета малышки; а отец, Гискардо де Корфу, еще цветущий, молодой человек, погиб спустя несколько лет в сражении с турками, командуя венецианским судном. Идуэлла, одаренная всеми добродетелями, за какие чтят женщин, приняла Розамунду как дочь — опекала ее с самого детства, и та делилась с ней всеми своими тайнами.
Задумавшаяся девушка остановилась, увидя Идуэллу, которая шла к ней из ближней аллеи.
Розамунда. Как! Это ты, милая Идуэлла? Что привело тебя сюда?
Идуэлла. Вы часто называете меня своим ангелом-хранителем. А раз так, я всегда должна быть с вами.
Розамунда. Я думала о твоих словах и хочу верить в их истинность, но...
Идуэлла. Но сердце ваше отвергает разумные советы?
Розамунда. Да, правда.
Идуэлла. Я не осуждаю различия наших мыслей — и даже признаюсь, что в ваши лета не смогла бы противиться чувствам такого человека, как Флодоардо. Согласна, у него много достоинств; согласна, что они могут произвести впечатление — когда дело идет о сердце, еще не тронутом страстью; согласна, наружность его привлекательна, обхождение благородно, но при всем этом — кто он? Дворянин без состояния, и можно ли надеяться, чтобы богатый и могущественный дож Венеции отдал свою племянницу за человека, который явился просить его покровительства? Нет и нет, Розамунда!
Розамунда. Я все это знаю, милая Идуэлла, и такое желание никогда не приходило мне на сердце — к Флодоардо я чувствую одну только дружбу.
Идуэлла. Вам только кажется; но вы увидели бы, что может сделать эта дружба, задумай Флодоардо жениться на какой-нибудь другой девушке.
Розамунда (с живостью). О! Я этого не боюсь, он ни на ком жениться не захочет!
Идуэлла. Вы так думаете, Розамунда? Поверьте, в сердце женщины чувство любви невольно соединено с желанием вечного союза. Вы знаете нежность вашего дядюшки к вам, но знаете также, что он должен повиноваться правилам политики и этикета. Питать даже малейшую надежду на союз с Флодоардо означало бы с вашей стороны уже обидеть дожа.
Розамунда. Знаю, Идуэлла, но повторяю — я чувствую одну только дружбу к Флодоардо, а не любовь, он ведь достоин моей дружбы!
Идуэлла. Остерегайтесь, Розамунда! Вы не знаете, как часто под личиной дружбы любовь покоряет те сердца, какие сама по себе покорить не смогла бы. Бойтесь ее коварства, помните, чем вы обязаны вашему дядюшке, и пожертвуйте ради вашего положения этой еще не окрепшей склонностью, бороться с которой вы окажетесь потом не в силах.
Розамунда. Изволь, милая Идуэлла, я обещаю тебе: Флодоардо будет изгнан из моей памяти. Пожертвовать им для меня легче легкого. Я ненавижу все, что противно моему долгу перед дядюшкой!
Идуэлла (улыбаясь). Хватит ли вам твердости?
Розамунда. Мои поступки тебе докажут. Да я терпеть не могу Флодоардо! Как бы мне хотелось, чтоб он уехал из Венеции!
Идуэлла. Как это — терпеть не можете?
Розамунда (потупив глаза). Ну, не в полном смысле слова. Я не желаю ему зла — ведь он мне ничего плохого не сделал.
Идуэлла. Мы еще поговорим об этом. Пока же должна вас оставить. Прощайте! Не изменяйте вашему благоразумию!
Идуэлла ушла, а красавица осталась в тревоге и задумчивости. Она строила планы — сердце ниспровергало их. Часто она оглядывалась и робела признаться себе, кого не находят ее глаза.
Солнце еще не село, и жара заставила девушку искать прохлады. Она направилась к источнику, над украшением которого потрудились природа и искусство. Рядом была дерновая скамья. Жасмин расточал в воздухе свое благоухание. Когда Розамунда подошла к источнику, румянец вдруг вспыхнул на ее лице: сквозь ветви она увидела Флодоардо, который сидел на скамье и внимательно читал пергаментный свиток.
Розамунда не знала, что делать — уйти или остаться. Но Флодоардо быстро разрешил ее сомнения, взяв почтительно за руку и подведя к скамье. Теперь уже было не убежать, не показав себя неучтивой. Флодоардо держал ее руку. Неужели отнять! Неужели явить такое бессердечие и лишить Флодоардо счастья, которым светится его лицо!
— Какой прекрасный вечер! — сказал он, желая прервать молчание. — Вы хорошо сделали, что вышли прогуляться.
— Это правда, — отвечала Розамунда. — Но я помешала вам читать.
— Совсем нет, — возразил Флодоардо.
На этих словах беседа их прервалась. Напрасно он озирался, ища повод продолжить разговор. Ни единая счастливая мысль не приходила в голову. В молчании прошло еще несколько минут.
— Какой прекрасный цветок! — воскликнула вдруг Розамунда, сорвав фиалку.
— Он чрезвычайно хорош, — сказал Флодоардо, досадуя, что не в состоянии ничего прибавить к такому краткому ответу.
— Как он красив! — продолжала девушка. — Розовый и голубой цвета вместе. Какая кисть изобразит это сочетание!
— Розовый и голубой! Первый — символ любви, второй — счастья. Ах, Розамунда! Каждый позавидовал бы уделу того, кому вы подарили бы этот цветок! Взаимная любовь всегда приносит счастье.
— Вы слишком дорого цените такую безделицу.
— Как бы мне хотелось узнать, кому Розамунда вручит когда-нибудь фиалку! Но я позабыл, что не имею права желать этого. Простите мою дерзость, сударыня!
Флодоардо умолк. Розамунда не говорила ни слова, но волнение их сердец совсем не вязалось с тишиной, царившей вокруг. Их уста строго хранили сокровенное. Флодоардо не сказал: «Розамунда, отдай мне этот цветок и с ним свое сердце!» Розамунда не сказала: «Только тебе, Флодоардо, отдам я его!» Но взоры их откровенно выражали то, чего молодые люди сами еще не знали.
Кротость и блаженство явила улыбка Розамунды, когда глаза ее встретились с глазами ее тайного избранника. Флодоардо не сразу понял, что значит эта улыбка. Страх и надежда разрывали его душу. Наконец он догадался — и сердце его забилось сильнее, глаза заблестели.
Розамунда вся дрожала. Она чувствовала то же, что и Флодоардо, и краска стыдливости заливала ее лицо.
— Розамунда! — взмолился он, упав на колени. — Розамунда! Отдай мне эту фиалку!
Розамунда по-прежнему сжимала цветок в руке.
— Отдай ее мне! Скажи, что ты за нее требуешь? Чинов, богатства, трона? Я на все готов: либо получу ее из рук твоих, либо погибну!
Розамунда бросила взор на умоляющего Флодоардо и тотчас потупилась, боясь встретиться с ним взглядом.
— От этого цветка зависят моя жизнь, мое благополучие, моя слава. Он для меня дороже всех сокровищ света. Я готов сделать все, чтобы получить его.
Фиалка уже выпадала из рук Розамунды.
— Неужели мольбы Флодоардо не тронут твоего сердца?
Эти слова напомнили девушке благоразумные советы Идуэллы.
«Что ж это я! — сказала она себе. — Я чуть не позабыла свои намерения. Уходи, Розамунда, уходи! Или остерегайся своей слабости!»
Она изорвала цветок и отбросила в сторону.
— Понимаю вас, — молвила она, — и довольно! Не смейте в другой раз обижать меня такой дерзостью. Прощайте!
Она удалилась с негодующим видом и оставила Флодоардо в изумлении и горести.
Глава пятая
АБЕЛЛИНО
Розамунда не дошла еще до дверей своих покоев, а уже досадовала на себя за жестокость. Она вспомнила свой грубый ответ, вспомнила взор Флодоардо, лишенный надежды; и тотчас вообразила себе, сколько слез прольет он. Ей казалось, она слышит его укоризны, слышит, как он призывает к себе смерть. Отчаявшийся Флодоардо представлялся ей на краю могилы.
Уже в душе ее раздавались страшные слова: «Флодоардо умер!», уже видела она слезы, проливаемые по нем жителями Венеции, — и горесть наполнила ее сердце.
— Увы! — воскликнула она. — Зачем хотела я показаться твердою; решимость уже меня покидает. Ах, Флодоардо! Сердце мое не согласно с моими словами. Да! Я чувствую, что люблю тебя и буду любить всю жизнь. Ни советы Идуэллы, ни ненависть Андреа не изгонят тебя из моего сердца.
Спустя несколько дней она заметила, что Флодоардо изменился — стал избегать общества, а если по просьбе друзей и появлялся на людях, то всегда был задумчив.
Нежная Розамунда огорчилась печалью Флодоардо — она заперлась в спальне и наедине с собой оплакивала свою жестокость.
Здоровье ее повредилось — никто не мог облегчить ее страданий, ибо никто не знал их причины. Дож крайне обеспокоился, заметив, что болезнь племянницы не поддается искусству врачей; Флодоардо же совершенно удалился от света, который ему опостылел с тех пор, как он потерял надежду видеть Розамунду. Затворник жил своею неодолимой страстью, которая изгнала все прочие желания из его сердца.
Но отведем пока взор наш от страданий Розамунды — и посмотрим, что делают заговорщики. Они быстрыми шагами приближались к исполнению своего замысла; с каждым днем увеличивались и число их, и опасность, угрожавшая дожу и Республике.
Зачинщики сего дерзкого предприятия Пароцци, Меммо, Контарино и Фальери собирались довольно часто у кардинала Гримальди.
Там рассуждали они о переменах, которые надобно произвести в правлении, — однако легко примечалось, что не столько общественное благо, сколько собственная выгода была их целью. Один мечтал избавиться от долгов, другой — удовлетворить свое безмерное честолюбие, третий действовал из корысти, четвертый пылал мщением за обиду, которую могла утолить только кровь его врага.
Столь ревностно желая ниспровержения Венеции или смены власти, они были уверены в успехе, ибо новый налог, которого как раз требовали обстоятельства, возбудил неудовольствие простого народа.
Подлые заговорщики, однако, не смели обнаружить свои намерения, не умертвив заранее некоторых влиятельных сановников и не избавив себя их смертью от возможных препятствий. Они надеялись на кинжалы наемных убийц. Сердца их дрогнули, когда зазвонил колокол, предвещая казнь четырех столь нужных им разбойников, когда глаза их увидели обезглавленные трупы негодяев. Но если потеря этих орудий злодейства огорчила заговорщиков, то можно себе представить, как они обрадовались, услышав, что Абеллино осмелился открыто объявить себя всей Венеции и кинжал его готов всегда служить преступлению.
— Вот такой человек нам нужен! — вскричали они в полном восторге.
С этой минуты ничего они не желали сильнее, как склонить Абеллино на свою сторону. Найти его не составляло труда, ибо он и не скрывался. Разбойник появился на их собрании, но обещания его были столь же безрассудны, как и требования.
Все заговорщики хотели смерти Сильвио — прокуратора Святого Марка. Зная его решительность и проницательность, они боялись, что он распознает их замысел. Дож питал к Сильвио особенное уважение и предпочитал его кардиналу Гримальди, но за умерщвление Сильвио Абеллино просил весьма большую сумму.
— Дайте мне цену, которую я прошу, — говорил он, — и я обещаю по чести, что сию же ночь прокуратор Сильвио перестанет вас беспокоить. Пусть даже он скроется в самом аду, я и там найду его и предам смерти!
Что было делать? Абеллино не соглашался ни на что иное. К тому же заговорщики опасались его разгневать. Кардинал не желал долго ждать, а смерть Сильвио ускоряла дело.
Абеллино получил свои деньги. На другой день ближайший друг дожа, ревностный защитник законов, почтенный Сильвио — исчез.
— Этот Абеллино ужасный, необыкновенный человек, — сказали заговорщики, услышав новость.
Ночью они собрались в доме кардинала и праздновали смерть прокуратора как свою победу.
Испуганный и удивленный дож обещал десять тысяч цехинов тому, кто узнает, чья рука поразила Сильвио. На сей счет была обнародована особая прокламация. Спустя несколько дней на одной из дверей дожеского дворца появилась следующая бумага:
Венецианцы!
Вы желаете знать, кто умертвил Сильвио? Это я! Два раза вонзил я кинжал ему в сердце и бросил его тело в море. Дож обещает десять тысяч цехинов тому, кто откроет убийцу Сильвио. А я обещаю двадцать тысяч тому, кто будет настолько хитер, чтобы поймать его. Привет!
Абеллино
Глава шестая
ОТКРЫТИЕ
Невозможно описать, какое действие произвела в Венеции новая дерзость Абеллино. Не было еще видано, чтоб с такой наглостью насмехались над могуществом дожа и над стражей. Но хотя ночные караулы удвоили, обыскали каждый уголок и во всей Венеции не осталось ни одного честного жителя, который не старался бы поймать разбойника, — его нигде не находили.
В церквах раздавались молитвы священников о небесной каре этому злодею. Одно имя Абеллино приводило женщин в ужас. Они трепетали, вспоминая приключение Розамунды. Старухи утверждали, будто Абеллино заключил союз со злым духом, который позволяет ему так долго испытывать терпение венецианцев и так глумиться над их справедливым негодованием. Кардинал и заговорщики, гордясь таким сообщником, не сомневались в успехе. Семейство Сильвио в отчаянии проклинало чудовище-убийцу. Дож с преданными людьми разделял горе родственников и клялся употребить все усилия, чтобы найти убежище Абеллино и предать негодяя примерной казни.
Однажды вечером, сидя в своем саду, Андреа Гритти задумался и проговорил вслух:
— Надобно признаться, этот Абеллино человек удивительный. Если б он командовал армией, то победил бы весь свет. Желал бы я увидеть его.
— Он перед тобой! — произнес рядом жуткий незнакомый голос, и дожа ударили по плечу. Андреа вздрогнул. Подле, завернувшись в черный плащ, стоял очень высокий человек. Лицо его было столь мерзко, столь отвратительно, что казалось, природа не производила доселе ничего подобного.
— Кто ты? — спросил дож.
— Ты глядишь на меня и спрашиваешь? Я Абеллино, друг Сильвио, верный слуга Республики.
Андреа, никогда не знавший страха в сражениях, утратил дар слова и воззрился на убийцу, который спокойно стоял пред ним.
— Абеллино, — вымолвил наконец дож, стараясь прийти в себя, — ты ужасен!.. Облик твой отвратителен!
— Ты считаешь меня ужасным — тем лучше; я рад. Отвратителен — может быть; наружность моя обещает мало хорошего. Послушай меня, Андреа. Мы с тобой равны, в Венеции нет никого выше нас. Мы величайшие в ней люди — каждый в своем звании.
Дож не мог не улыбнуться такой вольности.
— Нет-нет, — продолжал Абеллино, — оставь эту улыбку презрения. Не почитай себя униженным, когда я, разбойник, сравниваю тебя с собою. Мне, право, кажется, я не слишком себя превозношу, равняя с человеком, который сейчас в моей власти — и который, значит, ниже меня.
Дож встал с намерением удалиться.
— Постой, — заслонил ему дорогу Абеллино. — Редко случай сводит таких, как мы. Да, мне надо еще кое-что тебе сказать.
— Абеллино, — молвил Андреа со всей степенностью дожа, — природа одарила тебя великими талантами; зачем ты употребляешь их на такое ненавистное дело? Даю верное слово простить тебя и быть твоим покровителем, если скажешь мне, кто подкупил тебя убить Сильвио, и перестанешь разбойничать. Поступай на службу Республике — или, по крайней мере, удались из ее пределов.
— Ого! — прервал Абеллино. — Ты говоришь о прощении и покровительстве! Давно уже мне неведомы эти слова. Абеллино сам себе покровитель; а что до прощения — смертные не могут очистить меня от моих злодейств. Придет день, когда обнаружатся все людские поступки, — и тогда только будут судить о деяниях Абеллино. А пока они сокрыты. Явится и имя того, кто подговорил меня убить Сильвио, но теперь еще не время. Ты хочешь, чтобы я покинул Венецию. Зачем мне это? Неужели я страшусь наказания? Нет! Абеллино не боится Венеции. Ты хочешь, чтоб я оставил свое занятие! Может быть, с некоторым условием я на это и соглашусь.
— С каким условием? — немедля спросил дож. — За какую сумму ты покинешь Республику?
— И ты мог подумать, что Абеллино ценит себя столь низко? Нет, Андреа! Я прошу у тебя то, что дороже всех твоих сокровищ. Я люблю Розамунду. Отдай мне ее.
— Как дерзаешь ты, чудовище?!
— Не торопись! Согласен ли ты на мое предложение?
— Назначь сам сумму, которую требуешь, чтобы освободить Венецию от твоего присутствия. Будь это хоть миллион цехинов, все равно Республика останется в выигрыше.
— Миллион цехинов, не так-то много! Знаешь ли ты, Андреа, что я получу половину того, если убью Канари и Дондоли? Отдай мне Розамунду — и я их не трону.
— Боже! И громы твои спят! И гнев твой не поразит такого злодея!
— Итак, ты отказываешь! Тогда слушай: в двадцать четыре часа Канари и Дондоли последуют за Сильвио. Поверь Абеллино. Прощай!
С этими словами он выхватил пистолет, спрятанный под плащом, и выстрелил. Оглушенный, с опаленным лицом, дож отступил назад и упал почти без чувств. Он скоро пришел в себя и позвал телохранителей, чтобы схватить Абеллино, но того уже не было в саду.
Этим же вечером Пароцци и его сообщники собрались у кардинала Гримальди. К столу подавали изысканные кушанья, и заговорщики за стаканом вина рассуждали об участи Венеции. Кардинал рассказывал, как сумел заслужить благосклонность Андреа и как упросил его отдать главарям заговора самые важные государственные должности. Контарино говорил, что надеется скоро стать прокуратором. У Пароцци на уме было получить руку Розамунды и занять место Сильвио или Дондоли, когда те сгинут. Ударила полночь. Дверь отворилась, и вошел Абеллино.
— Вина, и поскорей! — крикнул он. — Я исполнил свое обещание. Сильвио и Дондоли ужинают сейчас с сатаной.
Возгласы радости и удивления раздались в зале.
— Да и самого дожа я так припугнул, что он надолго меня запомнит. Ну, довольны ли вы Абеллино?
— Довольны! — отвечал Пароцци. — Теперь дошла очередь до Флодоардо.
— Флодоардо? — проворчал сквозь зубы Абеллино. — Гм, это трудно.
Конец второй книги