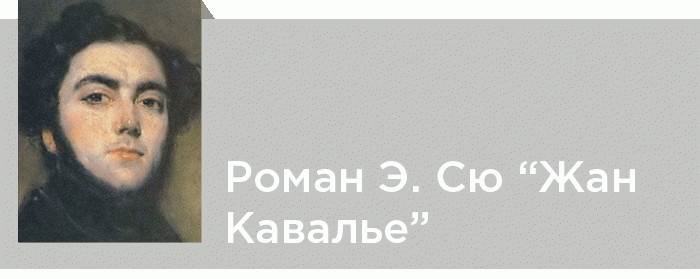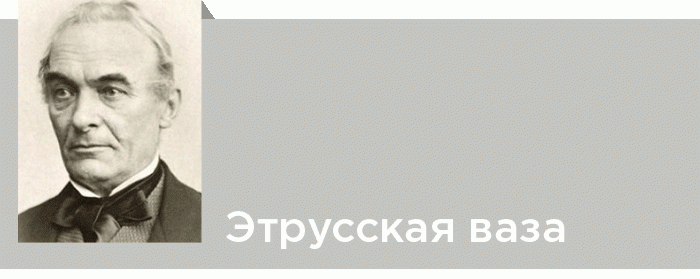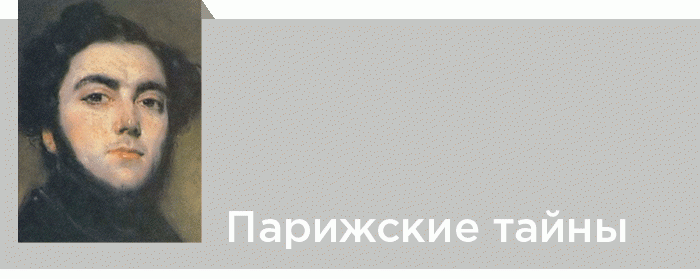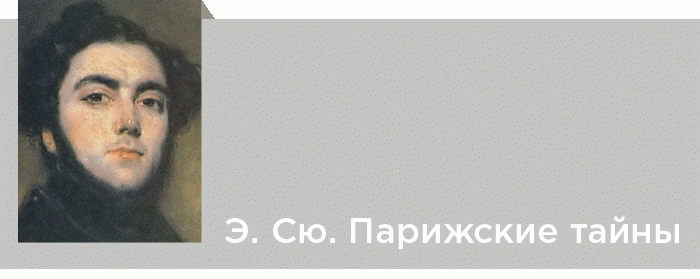Готическая традиция в раннем творчестве Эжена Сю
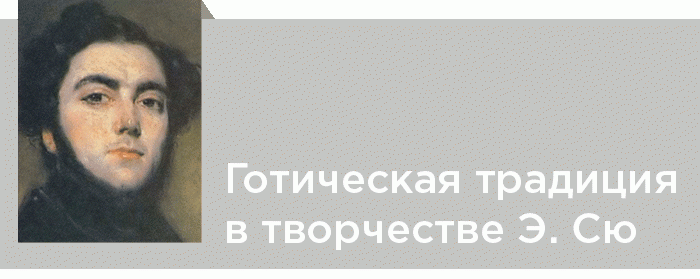
К. А. Чекалов
Романы Эжена Сю прочно заняли свое место в истории паралитературной продукции XIX в. Собственно, они являют собой важную веху на пути становления паралитературы (некоторые исследователи, особенно немецкие, предпочитают пользоваться термином «тривиальная литература»). Истоки ее обычно усматривают в романе второй половины XVIII в., в то же время есть все основания считать первым подступом к паралитературе барочный роман предшествующего столетия. В любом случае опыт романтической прозы оказывается весьма существенной питательной средой для эволюции наиболее значимых паралитературных жанров. Как пишет Л. О. Мошенская, «присущие поэтике романтизма контрастность, противостояние добра и зла оказали огромное влияние на приключенческую литературу». И это обстоятельство с большой отчетливостью иллюстрируют произведения Сю.
Войдя в литературу как бы случайно, скуки ради, Сю сумел - во многом неожиданно для себя - снискать колоссальный успех у публики. Увы, в дальнейшем ситуация изменилась: в отличие от сочинений «его ближайшего сверстника и соперника», по определению Боборыкина, Александра Дюма, произведения Сю (кроме «Парижских тайн») ныне почти забыты широким читателем и явно недостаточно изучены критиками. Это объясняется, конечно же, масштабом дарования: идейная поверхностность, изъяны стиля и ходульность многих из персонажей Сю были ясны уже его современникам. Разумеется, это вовсе не означает, что произведения Сю недостойны литературоведческого осмысления.
Монографии о творчестве Сю весьма немногочисленны. Вместе с тем на русском языке имеется несколько статей, посвященных его различным сочинениям. Творчество писателя чрезвычайно обширно и многообразно; нельзя не согласиться с дореволюционным русским критиком: «...у него мы найдем, по меньшей мере, по одному образцу каждого из направлений, которого держались другие замечательные его соперники и друзья».
В данной статье мы обратимся к сочинениям Сю, написанным до его opus magnum - «Парижских тайн». При этом мы не ставим себе целью дать исчерпывающий анализ всех проблем, связанных с эволюцией раннего Сю, и ограничимся только одним, но зато весьма важным аспектом этого периода его творчества, имевшим существенное значение для «Парижских тайн» и «Вечного жида». Речь идет о проблеме «Ранний Эжен Сю и традиция готического романа». Надо сказать, изучена она мало. В разделе «Сочинения французских писателей, испытавших воздействие “черного” романа», библиографического указателя, приложенного к обстоятельной монографии А. Киллен «Роман ужаса, или черный роман, от Уолпола до Анн Радклиф», из романов Сю мы встречаем всё те же «Парижские тайны» и «Вечного жида»; с момента опубликования монографии мало что изменилось.
Между тем в раннем творчестве Сю зависимость от клише готического романа прослеживается повсеместно. Она становится своего рода навязчивой, от нее писателю очень трудно избавиться. Фактически полного освобождения от этой зависимости так и не происходит. Под пером Сю постепенно кристаллизуется модель «популярного романа», для которого манипулирование упомянутыми элементами - в различных, подчас гомеопатических дозах - становится жанровой закономерностью.
Важно подчеркнуть, что в первой половине XIX в. рефлексы классического готического романа еще воспринимаются по-иному, как приметы живой связи с романтической прозой. Подчас трудно провести четкую грань между готическими (предромантическими) и собственно романтическими романными структурами. Симптоматично, например, что такой видный представитель английского романтизма, как Шелли, начал свой творческий путь с двух готических романов - «Застроцци» (1810) и «Сент-Ирвин, или Розенкрейцеры» (1811). Весьма значимы готические мотивы и для романов Вальтера Скотта, высоко ценившего творчество Уолпола, Льюиса и Радклиф. Что же касается Франции, то Бальзак в 1820-е гг., как известно, был серьезно увлечен готическим романом; влияние готики ощутимо и в «Сен-Маре» Виньи, и в «Гане-Исландце» Гюго, не говоря уже о Нодье и других «неистовых». Наконец, Дюма заимствует интерес к готическим структурам у своего учителя Нодье и не только внедряет их в авантюрные романы («Граф Монте-Кристо»), но и создает вполне полноценные образцы готической прозы («Замок Эпштейн»).
Говоря о традициях готики у Сю, мы не ограничиваем их собственно манипулированием сверхъестественными мотивами. На страницах романов Сю почти не встретить ни привидений, ни скелетов в сундуках, ни кровавых рук на стене. Фантастики как таковой в сочинениях Сю очень мало; для автора «Парижских тайн» она не более чем «один из регистров, где он дает волю своему воображению». Вполне понятно поэтому, что и проблема рационального объяснения таинственного (несомненно, приобретающая в готическом романе парадигматический характер) отступает у Сю на второй план - за исключением романа «Жан Кавалье». С другой стороны, характерное для романтиков соотнесение фантастического с фольклорной традицией - они допускали чудесное «только в том случае, если это было мнение народа, то есть культурно-исторический факт, а не традиционно-формалистическое украшение» - обретает у Сю сугубо декоративный вид («Тереза Дюнуайе»). Речь скорее идет об атмосфере таинственности, нагнетании ужасного, а также об особого рода построении сюжета и типологии героев.
В этой связи обратим внимание на определение, данное ранним романам Сю Белинским в статье о «Парижских тайнах» (опубликована в
Оставляя в стороне присущие Белинскому особенности стилистики и заостренный этический пафос, выделим эпитет сатанинские романы. Как представляется, критик справедливо акцентирует важную особенность ранних произведений писателя, хотя связывать ее с одним только влиянием байронизма можно лишь с некоторой натяжкой.
Ранний Сю экспериментировал, в первую очередь, с морским романом, которым он увлекся под влиянием чрезвычайно высоко ценимого во Франции Ф. Купера. И этот жанр в его интерпретации - в отличие, скажем, от начинавшего одновременно с Сю Капитаном Марриэтом в Англии - оказался весьма созвучен готической традиции. Имеется в виду прежде всего устойчивый тип героя, «демонического» персонажа, исповедующего мизантропию, стремление властвовать над людьми, мстить человечеству. Такого рода герои встречаются у Сю начиная с его первого прозаического произведения - повести «Кернок-пират» (1830). Начало «Кернока» прямо отсылает к образности и тональности, характерных для готического романа или прозы «неистовых». К тому же дело происходит в Бретани, и это сразу заставляет вспомнить родившегося в Сен-Мало и неоднократно обыгрывавшего бретонскую тему в «Замогильных записках» Шатобриана. В предисловии к этому своему сочинению Шатобриан акцентирует «симпатическую» связь моря и могилы; своеобразный (тривиализованный) парафраз того же мотива мы встречаем у Сю.
Холодная, темная ноябрьская ночь, сильный северо-восточный ветер, берег моря. Убогая хижина. Рядом с ней куча костей и останков животных - дело в том, что обитатель хижины по профессии живодер. Тут же играет с костями его слабоумный сын. К макабрической эстетике «неистовых» Сю примешивает аромат бретонских легенд (позднее писатель снова обратится к этим мотивам в начальных и заключительных главах романа «Тереза Дюнуайе» (1842), причем там его проза выглядит еще более терпкой). К матери ребенка, гадалке, приходит Кернок, матрос с невольничьего судна, волей случая принявший командование кораблем и сделавший его пиратским. Портрет и поведение жестокого, но и вполне «романтически» настроенного героя отмечены всеми приметами излюбленного Сю инфернально-демонического персонажа. В описании морского боя немало жутких натуралистических подробностей. Созерцая происходящее, Кернок не только спокоен, но и смеется (этот сатанинский смех, нередко звучащий на страницах сочинений Сю - ср. хотя бы Роден в «Вечном жиде», - сродни «демоническому смеху» Мельмота-Скитальца, Гана-Исландца, Клода Фролло и многих других персонажей готической и романтической литературных традиций). В заключительной главе происходит отпевание «заблудшего агнца» и почти что сакрализация Кернока.
Первая повесть Сю, при всей ее очевидной незрелости и вторичности, вызывает в памяти одну фразу Г. Башляра: «Не была ли смерть первым мореплавателем?». В «Керноке» на первом плане оказывается инфернальное начало, сопричастность миру смерти и уничтожения, демонизм. И это обстоятельство напрямую связывает Сю с традицией готического романа, подлинный герой которого - «злодей, к которому сходятся все нити повествования и от которого зависит развитие действия». Протагонист «Кернока» как раз и воплощает в себе это начало.
Более сложная ситуация характерна для романа Сю «Атар-Гюлль» (1831), где готические мотивы переплетаются не только с морскими, но и с аболиционистскими. Главный герой романа - африканец, проданный на Ямайке плантатору Тому Уиллю и одержимый идеей мести своему белому хозяину за смерть отца. Сюжет «Атар-Гюлля» прочитывается как эскалация зла, как нисхождение в ад - не истинный, откуда является Люцифер в «Монахе» Льюиса, а метафизический, нравственный. Родственный по структуре многочисленным триллерам XIX-XX вв., роман становится настоящей энциклопедией «черных» мотивов: здесь и племя каннибалов, которому жестокий корсар хочет в буквальном смысле слова «отдать на съедение» экипаж невольничьего судна; и секта отравителей с Антильских островов (впоследствии отравители сыграют большую роль в «Вечном жиде»); и смертельный укус ядовитой змеи, которую Атар-Гюлль натравил на дочь Виля; поджоги, убийства и т. д.
В предисловии к роману Сю признает, что несколько злоупотребил «бросающимися в глаза жуткими преступлениями», ссылаясь при этом на «фатальное влияние избранного... ужасающего сюжета»; в качестве основной причины страшной череды событий Сю называет рабовладение (и, со свойственным ему позитивистским пафосом, приводит надлежащие «цифры и факты»). Между тем аболиционистская тема артикулирована здесь значительно менее внятно, чем в написанном четырьмя годами ранее «Бюг Жаргале» Гюго. С другой стороны, отметим, что иных примеров размышлений Сю по поводу готической и черной составляющих его творчества мы не встречаем. В отличие, скажем, от Нодье, Сю избегал какой бы то ни было теоретической рефлексии.
Особенностью «Атар-Гюлля» следует считать дробление образа демонизированного героя. В самом деле, финальный акт «Мести негра» (английский перевод романа, опубликованный в
Наиболее удачным из морских романов Сю следует, на наш взгляд, считать «Саламандру» (1832). Судно с таким названием плывет по Средиземному морю из Сен-Тропе в Смирну. Капитан - фигура вполне комическая, маркиз, в годы Революции владевший табачной лавкой; после реставрации Бурбонов ему доверили командовать судном. В «Саламандре» ни капитан, ни другие «люди трезубца», как метафорически именовал моряков Шатобриан, с готическими героями ничего общего не имеют. Соответствующие мотивы персонифицированы в образе персонажа, которого лодка доставляет на борт ближе к середине романа; его имя - Шаффи. Он молод, красив, элегантен и бледен; порывист и переменчив; прекрасно осведомлен в разных областях знания, но неизменно холоден; сирота, но благородного происхождения и наследник большого состояния (как и сам Сю). Главная побудительная причина его действий - месть человечеству. Шаффи во многом сходен с Жаном Сбогаром Нодье (исследователь творчества Сю Н. Аткинсон сравнивает его также с байроновским Манфредом) и другими романтическими героями, одержимыми стремлением властвовать над людьми, презирать опасность и наслаждаться одиночеством. Сю именует своего героя «духовным убийцей», растлителем душ; Шаффи разочарован в жизни, не верит в любовь, хотя и наделен поэтическим воображением (здесь есть несомненное сходство с протагонистом более позднего романа Сю - «Артюр»). Жизнь его до конца романа остается окутанной тайной, и это вполне соответствует традициям как Купера («Красный корсар»), так и Нодье (ведь читатель так и не узнает никаких подробностей относительно прошлого Сбогара и его политических взглядов).
Симптоматично, как представлено само появление Шаффи на страницах романа. Оно совпадает по времени с сильнейшим, но кратковременным тайфуном и непосредственно следует за рассказом одного из моряков о легендарном Зеленом Лоцмане, фигуре совершенно сказочной (так, палуба его корабля сделана из серебра, пушки - из золота, а сам корабль таких колоссальных размеров, что киль его чуть не упирается в океанское дно). «Небывальщина», тайфун и явление незнакомца в непременном черном плаще поставлены Сю в один ряд, и этим лишний раз подчеркнута демоническая сущность героя. Ведь и сам тайфун сопровождается не только рокотом грома и ударами молний, но и зловещим красноватым освещением, и запахом серы - сходные явления сопутствуют известным еще со времен Средневековья «колодцам ада» наподобие Липарских островов. Шаффи облачен в черный плащ, также маркирующий собой инфернальное начало; шаг его тяжел, «как у статуи Командора в «Дон Жуане». Его задача - «причинить людям как можно больше зла». «Так ты - Сатана», - прямо заявляет ему юный и романтичный Поль Юэ. «Дай-то Бог», - с демонической улыбкой отвечает ему Шаффи. Явившись из тьмы, в финале романа Шаффи «исчезает», - не забывает отметить Сю.
Между тем в предисловии к «Саламандре» автор утверждает в качестве одного из своих эстетических принципов демонстрацию привлекательности порока и неприглядности добродетели. Контраст между ними способен заставить всплакнуть «самого заядлого скептика, самую очерствелую душу». С одной стороны, Сю открывает путь к доминированию мелодраматических структур (вообще говоря, органически свойственных готической традиции), а с другой - к демонстрации заурядности порока, что важно для последующих романов Сю.
В «Артюре» и «Жане Кавалье» готические мотивы присутствуют в превращенном виде. «Артюр» (1838; его высоко оценил Сент-Бёв) начинается с загадки, окончательное разрешение которой относится к финалу пространного 4-томного романа. Рассказчик отправляется на юг Франции и лицезреет необычный по архитектуре cottage - загадочный заброшенный загородный дом с красивой зеленой лужайкой, который местный аббат продает рассказчику. Внутри дом выглядит так, как будто он только что покинут: брошенное шитье, пюпитр с нотами, флакон духов и платочек, мольберт с наброском детского портрета... Рядом лежит открытая книга: это «Оберман» Сенанкура. Итак, читатель подготовлен к таинственному злодеянию, в одночасье прервавшему размеренное существование обитателей «коттеджа». Далее его вниманию предлагается дневник хозяина дома, графа Артюра. Собственно, из дневника и состоит роман. Здесь также можно усмотреть связь не только с романтической, но и с готической традицией: так, в «романе о Лесе» Радклиф искусно нагнетается suspens, возникающий при чтении рукописи (в ответственный момент чтение прерывается из-за погасшей свечи). В «Артюре» Сю в тех же целях прибегает к якобы имеющимся в дневнике героя пробелам.
На протяжении всего жизнеописания Артюра - в котором критики не без основания усматривают автобиографические мотивы, а то и влияние «Исповеди» Руссо - ему то и дело встречается некий инфернальный персонаж. Он возникает под разными личинами: то как пират, едва не прикончивший главного героя; то как лоцман, коварно посадивший на мель его корабль; то, наконец, как соперник Артюра в любви, Бельмон, спасаясь от которого Артюр с молодой супругой бегут в провинцию. Но им не удается избежать мести со стороны злодея (погибают Артюр, Мари и их малолетний сын).
«Артюр» стоит на перепутье между медитативным романтическим романом (архетипом которого для Сю становится упоминавшийся уже «Оберман»), моралите, облеченным в готические одежды, и социально-психологическим романом бальзаковского типа. Холодный до цинизма, не доверяющий чувствам протагонист «Артюра» становится воплощением худших сторон «байронизма». Его возлюбленная превозносит Вальтера Скотта и не выносит Байрона, «чей стерильный и разочаровывающий скептицизм оставляет лишь горечь во рту».
Появления Бельмона в романе нечасты, но фактически он выступает в роли скрытого демиурга происходящего, что вполне соответствует жанровому канону готического романа, о котором уже говорилось. Сю наделяет его внешность одной отличительной особенностью, которая позволяет Артюру безошибочно узнавать его в разных обличьях - это белые, острые, далеко отстоящие один от другого зубы. Хищный облик Бельмона дополняют густые черные брови (ср. портрет Брюлара в «Атар-Гюлле»),
Если в сложном жанровом целом «Артюра» готическая структура выступает как своего рода закваска, то в историческом романе «Жан Кавалье» (1840) готические элементы, напротив, выглядят не более чем орнаментом. Они сконцентрированы в образе алхимика и гипнотизера, «дворянина-стекольщика» дю Серра, а также его замке Мас-Аррибас. Дю Серр - один из вождей камизаров, ведущих после отмены Нантского эдикта Людовиком XIV неравную борьбу с правительственными войсками. Гугеноты представлены Сю в несколько театральном демонизированном виде. В связанные с дю Серром эпизоды вводится столь любимый Сю и отшлифованный им в морских романах мотив инфернальной, предвещающей некие судьбоносные события грозы: «Черные облака с пурпурными крапинками тяжело нагромождались над башнями замка, которые, бледные и тусклые, возвышались словно призраки... С верхушки одной из башен замка поднялся громадный огненный столб». Нет нужды говорить о том, сколь значим топос замка для готического романа - начиная с первого образца жанра, «Замка Отранто» Уолпола. Фактически именно он выступает в роли звена, организующего всю структуру повествования. Но в «Жане Кавалье» соответствующий эпизод выглядит необязательным с точки зрения логики повествования; он может быть безболезненно изъят из романа. Дю Серр в чем-то сродни готическим злодеям, ибо он, подобно кукловоду, подчиняет себе волю маленьких детей, делая их основными участниками фанатических религиозных церемоний (глава под названием «Чудеса»). Попавшие в замок Селеста и Габриэль Кавалье, брат и сестра главного героя романа, проходят ряд страшных «готических» испытаний. Но все эти чудеса - на самом деле плод ухищрений самого дю Серра, который одурманивает опиумом маленьких детей, смазывает им волосы фосфорическим составом и заставляет пророчествовать, используя их слова в интересах камизаров. Полностью развенчивая иррациональное - и значительно углубляя в этом смысле тенденцию, устойчиво присутствующую в романах Анны Радклиф, - Сю действует в русле вообще присущего ему позитивистского мышления; не случайно в предисловии к одному из романов он с одобрением называет свою эпоху «исключительно позитивистской». И в этом отношении Сю предстает как оппонент Нодье, который как раз протестовал против «позитивистского принципа». Добавим, что данный пассаж «Жана Кавалье» вызвал сильное и вполне обоснованное раздражение у Бальзака - ранее, в
«Матильда» (1841) - не самый удачный у Сю образец «салонного» романа, хотя он и снискал одобрительную оценку вообще-то весьма скептически воспринимавшего творчество Сю Т. Готье; его высоко ценил и даже собирался перевести на русский язык Достоевский, зато Бальзак, крайне болезненно восприняв вторжение Сю на уже освоенную им жанровую территорию, без обиняков назвал книгу «глупостью». В центре внимания - история брака юной, много страдавшей в детстве Матильды и Гонтрана, первоначально безоблачная, а затем всё более драматичная. Гонтран, сначала предстающий любящим, заботливым мужем, на поверку оказывается транжирой и повесой, полностью зависимым от своего друга Лугарто. Именно этот персонаж и связывает роман с готической традицией. Речь идет о весьма распространенном в готическом романе - начиная со Скедони и Монтони у Анн Радклиф - типе криминального итальянца. Вообще итальянская тема играла существенную роль во французском романтизме (а Ламартин, Стендаль и Гюго подолгу жили на Апеннинах), но Сю усваивает только один аспект темы: ощущение смутной, разлитой повсюду угрозы. Авантюрист Лугарто - один из наиболее колоритных демонических персонажей у Сю. Ему 22 или 23 года, он мулат (внук раба из Бразилии), унаследовавший огромное состояние и неизвестно как раздобывший себе титул графа и герб. Сю подчеркивает преждевременное созревание героя («он лишь формально молод»), утомление его от жизни. В этом смысле он сближен с романтическими героями. И при этом Лугарто совершенно лишен морали, «веры, смелости, доброты; он привык высокомерно презирать людей...». Важно, что своим могуществом - он даже располагает своего рода персональной тайной полицией - Лугарто целиком обязан деньгам; его демонизм переходит из сферы метафизической в социальную, и в этом просматривается бальзаковское начало.
Лугарто воспламеняется бешеной страстью к Матильде, преследует ее своими домогательствами, идет на прямой шантаж. В одной из наиболее эффектных сцен романа Лугарто, чтобы овладеть Матильдой, подсыпает ей парализующее зелье. Однако в последний момент на выручку жертве спешат друзья. Этот эпизод вполне соответствует духу и букве готической традиции, и не исключено, что Сю ориентировался здесь на «Монаха» Льюиса. Однако готическое влияние сочетается в данном случае с заимствованием из одного их самых знаменитых сентименталистских романов. Речь идет о «Клариссе Гарлоу» Ричардсона, где обольститель Ловелас действует теми же методами, дабы добиться близости с Клариссой, и достигает своей цели (интересно, что ее имя носит одна из эпизодических героинь «Паулы Монти»).
Романы «Паула Монти» и «Чертов холм», написанные незадолго до «Парижских тайн» (1842) или даже одновременно с ними, некоторыми из исследователей вполне определенно связываются с готической традицией. Между тем в «Пауле Монти» (журнальный вариант именовался «Отель Ламбер») готические мотивы значительно потеснены нравоописанием бальзаковского толка (подзаголовок романа - «Современная история»). Своеобразие романа с точки зрения использования готических структур заключается в том, что читатель далеко не сразу может уяснить себе, кому же уготована сюжетная функция злодея-демиурга. Фактически выбор осуществляется между тремя персонажами. Это, во-первых, француз - но подвизавшийся в Италии! - Бреванн, «мрачный, часто жесткий и даже жестокий». По масштабу своей личности он сильно уступает Лугарто. Более того, по ходу развития сюжета его демонизм отчасти оказывается преувеличенным в результате навета. Он в первую очередь выглядит как жертва роковой страсти (к Пауле Монти) и неоправданной ревности (собственной жены). Обстоятельства его смерти отсылают не столько к готической, сколько к мелодраматической романной структуре. Если злодей Лугарто, любивший устраивать тайники в домах своих жертв, в конце концов оказывается заживо замурованным в одном из таких тайников (мотив погребения заживо, хорошо известный по новеллам По «Бочонок амонтильядо» и «Черный кот», также был освоен ранее готическим романом), то «инфернальный Бреванн» кончает с собой, убив по ошибке вместо ненавистной супруги возлюбленную.
Законно претендовать на роль инфернального злодея может и сама Паула Монти, принцесса Хансфельд (итальянка, прекрасная, как античная статуя, и вынашивающая - по наущению своей преданной служанки - планы убийства собственного мужа), и особенно - сама эта служанка, цыганка Ирис, которая предпринимает три неудачные попытки расправиться с принцем.
Другая важная особенность «Паулы Монти», заставляющая считать ее своеобразной прелюдией «Парижских тайн», - эффектные картины сумрачного, промозглого (часто ночного) Парижа (с точными топографическими выкладками). Есть все основания говорить о том, что позаимствованный из готического романа топос мрачного, таинственного, скрывающего в себе всякого рода чертовщину замка отчасти переносится здесь на Париж. К тому же действие происходит в крайне неблагоприятное время года, когда в результате зимних дождей Сена выходит из берегов и даже чуть не становится причиной смерти одного из героев (он в темноте падает в воду). Так, на авантюрный лад в «Пауле Монти» преломляется важный для романтического «внутреннего пейзажа» мотив «жидкой среды».
В «Чертовом холме» готическим мотивам уделено значительно больше места. Но все-таки они составляют только один из слоев романа и к тому же явно преподнесены в ироническом плане. Действие «Чертова холма» разворачивается в
Впрочем, как вскоре выясняется, главная тайна впереди. Речь идет о легенде о Синей Бороде, которую рассказывают шевалье моряки. Тут Сю допускает небольшую хронологическую погрешность, ведь сборник сказок Перро, куда вошла и «Синяя Борода», вышел в свет в
Готические мотивы развиваются и в другом ответвлении сюжета: англичанин Ретлер и его спутник Джон пытаются проникнуть в логово Синей Бороды через подземный ход. И здесь их ожидает серьезное испытание: встреча со змеёй, от ядовитых укусов которой погибает Джон. Здесь Сю недвусмысленно отсылает читателя к своему уже упоминавшемуся роману «Атар-Гюлль», в одном из наиболее колоритных эпизодов которого невольник натравливает на юную и прекрасную дочь своего хозяина змею, и девушка гибнет буквально на глазах у родителей. Нет нужды говорить о том, сколь важными для дальнейшей эволюции массовой культуры являются мотивы, связанные с подземным ходом, пещерой и змеями. Но именно в английском готическом романе («Подземелье» Софии Ли и первый роман Радклиф «Замки Этлин и Денбейн») и родственных ему произведениях г-жи де Жанлис во Франции («Адель и Теодор») происходит кристаллизация топоса. Из того же «Атар-Гюлля» переходит в «Чертов холм» и мотив каннибализма. Один из «поклонников» Синей Бороды, местный житель Йумале - людоед; его пирогу украшают мумифицированная голова и руки съеденного им миссионера.
Однако в дальнейшем первоначально заявленная в «Чертовом холме» мрачная готическая атмосфера тает как дым, и сквозь нее проступает насыщенный переодеваниями авантюрно-исторический сюжет в духе Дюма. В финале романа прежняя ироническая интонация внезапно сменяется плоским нравоучением и искусственным «хеппи-эндом» (как раз не чуждым готической традиции). Та же морализация цветет пышным цветом и в пятой части «Парижских тайн», делая, по язвительному замечанию У. Эко, чтение романа совершенно невыносимым.
Наконец, в еще одном романе
Связь с готикой просматривается и в другом сюжетном мотиве романа. Известно, что Сю начинал как живописец (он был учеником парижского художника Гюдена) и в некоторых из своих романов (особенно в «Терезе Дюнуайе» и «Артюре») уделял большое внимание портретным изображениям. При этом он актуализирует и подвергает частичной ревизии мотив ожившего портрета, часто встречающийся как в готической, так и в романтической прозе (начиная с «Замка Отранто» и «Монаха», через Гоголя и Бальзака вплоть до «Золотого руна» Готье). Сю если не пародирует его - таких задач, по отношению к готике он вообще перед собой не ставил, за исключением разве что «Чертова холма», - то во всяком случае снижает его экспрессию, обытовляет мотив, обезвоживает тайну. Эвен в начале «Терезы Дюнуайе» подолгу разглядывает хранящийся в его замке старый портрет, на котором изображена женщина необычайной красоты. Он демонстрирует портрет аббату, тот приходит в страшное смятение, пинает картину ногами: некогда вместе с бароном Кер-Эллио-старшим он предал этот «дьявольский портрет» огню; его повторное появление совершенно необъяснимо. Затем, отправившись в Париж, Эвен встречает девушку (Терезу), как две капли воды похожую на портрет (включая родинку над бровью), и сразу роковым образом пленяется ею. Более того, оказавшись в доме отца Терезы, Эвен принимает застывшую на пороге девушку за портрет, и приходит в ужас, когда изображение вдруг начинает двигаться. Если мать Терезы, изображенная на портрете, сыграла роковую роль в жизни барона, то сама Тереза приносит несчастье его сыну Эвену.
Готические мотивы у Сю на свой лад соотносятся с темой Великой французской революции. И в этом он не одинок. Нодье, по его собственному признанию, в детстве глубоко потрясло зрелище гильотины; сюжет готической новеллы Дюма «Женщина с бархаткой на шее», якобы подсказанный писателю Нодье, как раз и отражает это впечатление (хотя действие там разворачивается в Германии, на «родине фантастического»). Есть и другие примеры того, как литературная традиция, пришедшая во Францию через Ла-Манш, оказалась реанимирована и поддержана «великим страхом», сопутствовавшим революции. Автором «Парижских тайн» эта тема не могла не восприниматься обостренно, хотя бы в силу того, что его отец, доктор Жан-Жозеф Сю, выступил в
Л-ра: Вопросы филологии. – 2001. – № 2. – С. 107-115.
Произведения
Критика