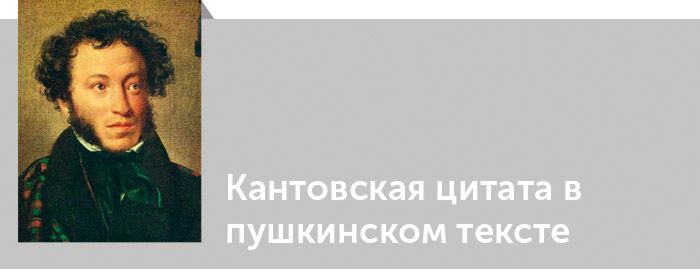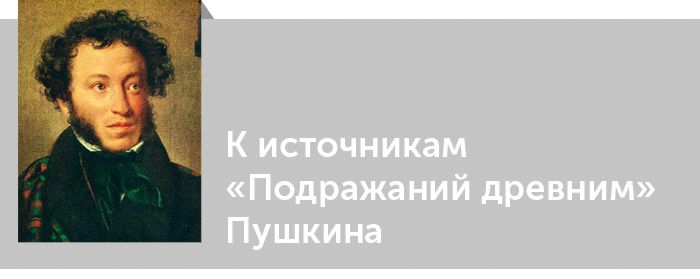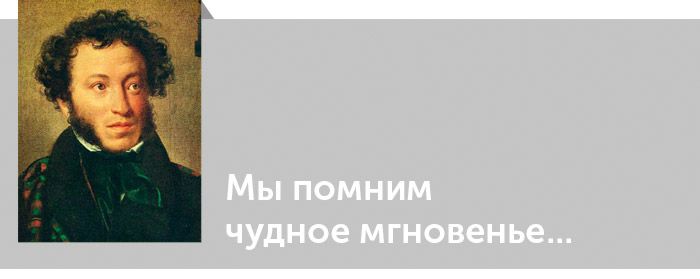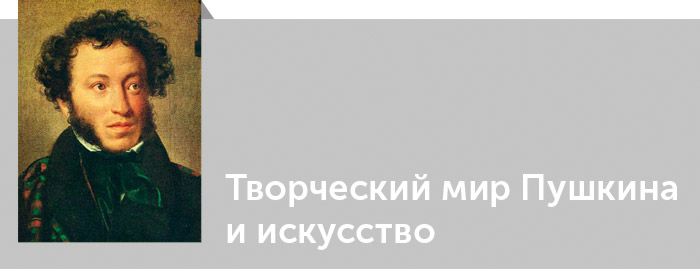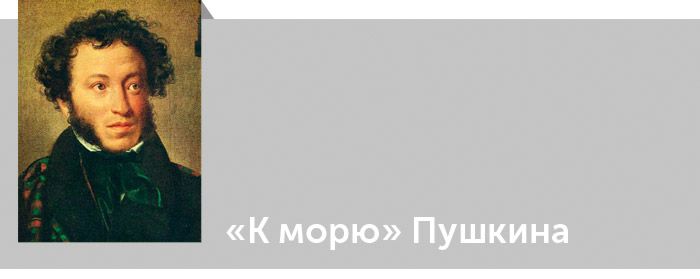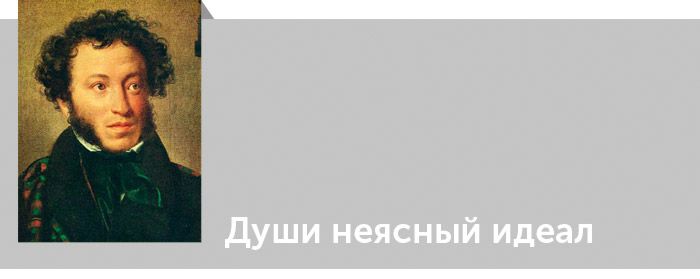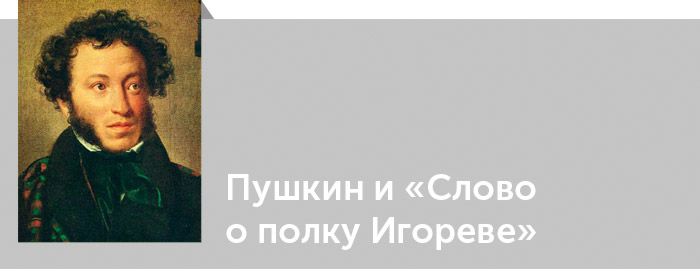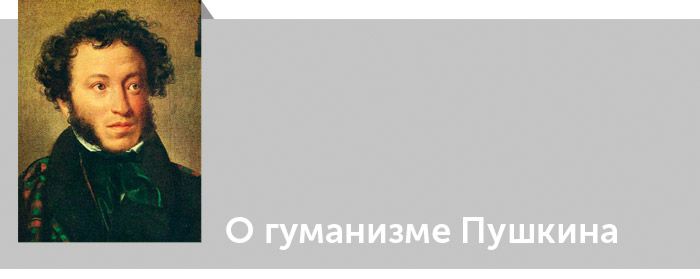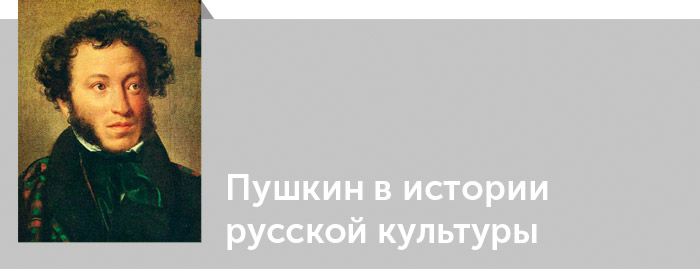Характеристика творчества Пушкина
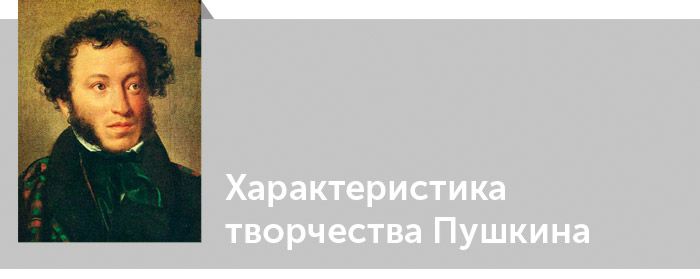
Тынянов Ю. Н.
Характеристика творчества Пушкина // Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат. — 7-е изд. — М., 1929. — Т. 34. — Стр. 188—215.
Два факта останавливают прежде всего внимание исследователя П.: 1) многократное и противоречивое осмысление его творчества со стороны современников и позднейших литературных поколений и 2) необычная по размерам и скорости эволюция его как поэта. Переосмысление литературных произведений — факт общий. Таков же факт борьбы младших литературных поколений со старшими. Но и борьба с П. и переосмысление его имеют не общий характер. П. побывал уже в звании „романтика“, „реалиста“, „национального поэта“ (в смысле, придаваемом этому слову Аполлоном Григорьевым, и в другом, позднейшем), в эпоху символистов он был „символистом“. Надеждин боролся с ним, как с пародизатором русской истории по поводу „Полтавы“, часть современной П. критики и Писарев — как с легкомысленным поэтом по поводу „Евгения Онегина“. Самая природа оценок, доходящая до того, что любое литературное поколение либо борется с П., либо зачисляет его в свои ряды по какому либо одному признаку, либо, наконец, пройдя в начале первый этап, кончает последним — предполагает особые основы для этого в самом его творчестве. Эволюционный диапазон П. нередко в понимании XIX века подменялся понятием широты и универсальности его жанров: лирики, эпоса, стиховой драмы, художественной прозы и журнальных жанров. Между тем, жанровая универсальность была общим признаком литературы 20-х годов. Понятие жанровой широты по отношению к П. оказывается менее существенным, нежели быстрая, даже катастрофическая эволюция его творчества: „Руслан и Людмила“ отделена от „Бориса Годунова“ всего пятью годами. Оба основных факта находят об’яснение в самых писательских методах П.
У П. не было ученичества в том смысле, как оно было, напр., у Лермонтова. Интерес последних лет XIX в. и символистов к его так наз. „лицейским стихотворениям“ вполне оправдан, и если все же в конце концов преобладает мнение, выраженное Брюсовым, что „лицейские стихи“ представляют интерес более исторический и биографический, нежели художественный — это проистекает от неправомерного сопоставления лицейской лирики с позднейшею. П. никогда не отказывался от лицейских стихов. Будучи уже зрелым поэтом, работая над „Евгением Онегиным“ и „Борисом Годуновым“, в 1825 г. П. подготовляет к печати лицейские стихи. Подробный анализ этой позднейшей редакторской работы П. над его лицейской лирикой не произведен, и выводы не сделаны. А между тем они могли бы выяснить многое.
Самые приемы и результаты переработки указывают, что П. не относился к ним как к сырым материалам, которые можно использовать для новых задач и в новых жанрах, а, напротив, применил новые средства, чтобы наиболее ясно проявились старые задачи. Жанр лицейских стихов оставлялся им в неприкосновенности. В лицейских стихах он является совершенно законченным поэтом особого типа. То была условная лирика, ставившая себе задачей стилизацию, то, что в Германии принято называть Konventionell-Lyrik. Лирика этого типа неразрывно связана с периферией литературного течения, назыв. „карамзинизмом“. Стилизация совершалась эклектически на основе результатов, достигнутых к тому времени Дмитриевым, Батюшковым и Жуковским.
Ко времени лицейского П. „сентиментализм“ уже был отчасти тем, чем он остался для позднейших поколений. Младшее поколение лириков — Жуковский и Батюшков, расходясь по генетической основе своего искусства между собою и вовсе не совпадая с Карамзиным и его товарищами по жанрам, обновило течение. „Мудрец“ и „мечтатель“ — литературные герои карамзинистов, получили новые черты. К 1814 г. определилось и сконструировалось течение старших архаистов — „Беседы любителей российской словесности“, борьба с которою дала новый материал для тем и для теории. Возникает „Арзамас“ — шуточное и даже шутовское об’единение, имеющее характер пародии на „Академию“, с того времени уже сделавшуюся нарицательным именем литературной косности, и на воинствующий отряд старого поколения, проповедующего ломоносовские и державинские принципы — „Беседу“.
Литературная борьба и разнородные элементы поэзии, связанной с карамзинизмом, дают материал для П.-стилизатора — „лицейского П.“.
По поводу лицейской лирики П. обычно говорят о ее эротической тематике, в особенности, о влиянии легкой франц. поэзии, „poèsie fugitive“. Но если мы вспомним, что к 1816 г. относится знаменитая речь Батюшкова „О влиянии легкой поэзии на язык“, в которой теоретически обосновано значение „легкого рода“ (жанра) и в частности эротического, — станет ясно, что вопрос о французских влияниях есть прежде всего вопрос о материале, а не о литературном стимуле, что вопрос о влиянии poèsie fugitive — общий вопрос того времени, а не частный вопрос изучения П.
П. двигался по пути уже известному в русской поэзии. Как поэт-стилизатор, лицейский П. эклектически развивает все упомянутые жанры, стилизуя последовательно условно-античную и оссиановскую окраску Батюшкова, „рыцарскую“ и „идиллически-ужасную“ окраску Жуковского по соответствующим жанрам и вне жанров.
К 1826—1828 гг. относится внимательная стилистическая критика П. по отношению к Батюшкову. „Главный порок в сем прелестном послании („Моих Пенатах“) есть слишком явное смешение древних обычаев мифологии с обычаями жителя подмосковной деревни. Музы — существа идеальные: христианское воображение наше к ним привыкло; но норы и кельи, где лары расставлены, слишком переносят нас в греческую хижину, где с неудовольствием находим стол с изорванным сукном и перед камином — суворовского солдата с двухструнной балалайкой. Это все друг другу слишком противоречит“.
То, что отмечал П. в Батюшкове, наличествует еще в большей мере в его лицейской лирике: противоречивость лексических рядов (она, гл. обр., и изгонялась П. при редактировании). После „седеющей на холме тьмы“ из элегических рядов Жуковского, его же „мирной неги“ и „нагоревшей свечки“ следует батюшковский „богов домашний лик в кивоте небогатом“ и „бледный ночник пред глиняным пенатом“ (с тем же смешением рядов); эклектизм лексический дает в результате даже простое семантическое противоречие:
И тихий, тихий льется глас,
Дрожат златые струны:
В глухой, безмолвный мрака час
Поет мечтатель юный;
Исполнен тайною тоской,
Мечтаньем вдохновенный,
Летает резвою рукой
По лире оживленной.
(„Мечтатель“).
Лирический сюжет развивается прямо и исчерпывающе. Нужны были особые условия, чтобы прервать порочный круг этой эклектической, стилизаторской лирики. Кризис относится к 1817—1818 гг., годам окончания лицея и распада „Арзамаса“.
К этим годам в лицейской лирике П. оказались уже замаскированными, загримированными под оссиановские, античные и шуточно-карамзинистские тона, „любовницы“, друзья, товарищи и профессора-адресаты, — сам поэт и лицейский быт. (Этот грим впоследствии создал легенду о бурных лицейских кутежах, которых на самом деле не было). К этим годам „Арзамас“, пародически загримированный в балладу, проделал большую разрушительную работу: самое шутовство общества (все члены его назывались по героям и словам баллад Жуковского) похоронило обязательность литературных масок, из которых оно выросло, и поставило вопрос — либо о прорыве литературы в общественность (речь Орлова-Рейна, 1818), либо о новом поэтическом рупоре, о новом поэте.
Для П. биографически кончился лицейский грим. К 1818 г. относится его послание Юрьеву, где поэт сбрасывает его. Именно листок с этим стихотворением, по преданию, судорожно сжал в руках уходящий из литературы Батюшков и проговорил: „О, как стал писать этот злодей“ (Анненков).
А я — повеса вечно праздный,
Потомок негров безобразный,
Взрощенный в дикой простоте...
Я нравлюсь юной красоте
Бесстыдным бешенством желаний.
Исключительно биографическими причинами эту смену „лирического героя“ объяснить, конечно, нельзя: „взрощенный в дикой простоте“ — мотив, противоречащий и лицейской лирике и биографии одновременно. Но смена „поэта“ совершилась, выступает „поэт с адресом“: „потомок негров безобразный“.
Это было и новым речевым рупором, новым лирическим героем, от имени которого велась стиховая речь, — и новою темою, „литературною личностью“ одновременно. И герой-рупор и герой-тема в течение позднейшей деятельности П. варьировались. Так, „негр“ позже явился руслом для подхода к историческому материалу и для выяснения социальных отношений поэта („Арап Петра Великого“, „Моя родословная“). В середине 20-х годов в тему героя вступают черты, подготовленные деятельностью любомудров („высокий поэт“ — ср. „Поэт и Чернь“); тогда же в эту тему вступают новые черты столкновения с промышленным веком и подчинения ему („Разговор книгопродавца и поэта“).
Эта смена лирического героя (речевого рупора) сказывается в лирике отрывом от условной интонации, ориентировавшейся у карамзинистов на „разговор хорошего общества“, и в переносе внимания на индивидуальную интонацию. (В стиховых черновиках П. эта выправка интонаций занимает большое место). Вместе с тем, при конкретности „автора“ и неминуемо связанной с нею конкретности „лирических героев“ и „адресатов“, — появляется та индивидуальная домашняя семантика, которая не терпит „пояснительных“ мест и развитых описаний. Лирические стихотворения П. с 20-х гг. не только ведутся от имени конкретного „поэта“, но, например, жанр посланий этим совершенно преобразуется: он полон той конкретной недоговоренности, которая присуща действительным обрывкам отношений между пишущим и адресатом.
Вместе с тем, резко порвав с лицейским гримом, П. не занимается в позднейшем „упорядочением“ и „сглаживанием“ ошибок стилизатора, а, напротив, меняя самое отношение к поэтическом слову, доводит до крайних выводов свою стилизаторскую работу и использует их. Исследователями отмечается тематическая и стилистическая связь между его лицейской и позднейшей лирикой. Лицейские темы и жанры не исчезают, они преобразуются. В итоге эклектического отношения к предметным рядам, — несовместимость их обнаружилась, и в ясное поле выступило не предметное значение слова, а его лексическая окраска. Античное имя и слово остается у П., изгоняется отношение к нему как к предметному обозначению; то же и с „бытовыми словами“ и именами, противоречиво связывавшимися в лицейской лирике.
Маскировка предмета перешла в лексический тон, окрашивающий весь текст. „Женское имя, — по свидетельству Смирновой, говорил Пушкин в позднейшую пору, — так же мало реально, как и все эти Хлои, Лидии или Делии XVIII века. Это только „название“. В итоге эти слова — лексические тона — не влекут за собой развитых картин и описаний. Одного слова-„названия“ достаточно, чтобы вызвать соответствующие ассоциации и заставить читателя двигаться в определенном плане. Слово стало заменять у П. своею ассоциативною силою развитое и длинное описание.
Это отношение к слову, как к лексическому тону, влекущему за собой целый ряд ассоциаций, дает возможность П. путем тонкой организации словесных лексических рядов передавать „эпохи“ и „века“ вне развитых описаний одним семантическим колоритом. Это искусство достигает, например, в одном посланнии к „Вельможе“ совмещения английского, французского, испанского и латинского колоритов и двух веков на несложной лирической фабуле. Утоньшение и обогащение семантического колорита стоит в связи его с фонетикой стиха: так, в стих „Стамбул гяуры нынче славят“ — два противополагаемых семантических ряда — „Стамбул“ и „Арзрум“ проведены не только в различных лексических планах, но и на различных фонетических средствах (на разной инструментовке стиха, играющей, т. обр., смысловую роль). Это отношение к слову не как обозначающему предмет, не в его номинативной функции, а только как к вызывающему ассоциативные ряды, лексически окрашенные — делают слово у П. двупланным.
Семантическая двупланность стихотворения „Аквилон“, 1824 г. („Недавно дуб над высотой В красе надменной величался, Но ты поднялся, ты взыграл... И дуб низвергнул величавый“), семантическая связь его с революцией декабристов не подлежит сомнению, так же как двупланный смысл стихотворения „Арион“ („Нас было много на челне... Погиб и кормщик и пловец. Лишь я, таинственный певец, на берег выброшен грозою“). В стих. „Герой“, где изображается Наполеон, обходящий и ободряющий чумных больных, и где этот „возвышающий обман“ опровергается „низкой истиной“ прозаического примечания о том, что этого не было — было написано во время холеры в Москве и посещения Москвы Николаем. Неудачи польской кампании совпадают с воскрешением 1812 г. в стихотворении „Перед гробницей святой“, посвященном Кутузову: „Иди, спасай, ты встал и спас“, при чем последние строфы, явно обнаруживавшие современный смысл, — П. не печатал.
Подобным же образом безупречно выдержанная в стиле „подражания латинскому“ ода „На выздоровление Лукулла“, относящаяся к тому же 1835 г., является пасквилем на гр. С. С. Уварова. („Пасквиль“ в 20-х — 30-х годах был совершенно законным жанром, имевшим такого славного представителя, как сатира „На Временщика“ Рылеева. Ср. „Опыт Науки изящного“, Галича, 1825 г., где сатира делится на сатиру личную (пасквиль), частную и общую). Но не следует думать, что нужно просто подставлять предметных героев в стихотворения; предметный герой сосуществует со своим стиховым двойником. Вся суть в колебании этих двух планов.
Стих. „К Н.***“ („С Гомером долго ты беседовал один“), выдержанное в высоких антично-библейских лексических рядах, вызвало, например, легенду об „адресате“, изложенную Гоголем: „адресатом“ Гоголь назвал Николая. В последнее время доказано, что стихотворение относится к Гнедичу. Но Гнедич оказывается только „предметным“ адресатом, стоящим вне стихотворения. Он не лезет в текст, в силу непроницаемой семантической окраски стихотворения. Предметный герой не дан, а задан. Семантическая система П. делает слово у него „бездной пространства“, по выражению Гоголя. Слово не имеет поэтому у П. одного предметного значения, а является как бы колебанием между двумя и многими. Оно многосмысленно. Послание Катенину „Напрасно, пламенный поэт“ может быть воспринято как дружеское и даже в известной части комплиментарное, тогда как на самом деле в нем есть два плана: „предметных“ укоризн и насмешек, лексически преобразованных в противоположное.
Семантика П. — двупланна, „свободна“ от одного предметного значения, и поэтому противоречивое осмысление его произведений происходит так интенсивно.
Легко заметить результаты эволюции: тогда как лицейский П. движется почти исключительно в лирических жанрах, П. после перелома, окончательные результаты которого мы только-что очертили (но процесс которого углублялся и расширялся хотя и с катастрофической быстротой, но, разумеется, последовательно) является поэтом большой формы. Лицейская лирика, так. обр., была как бы опытным полем для эпоса, так же как естественно и органически эпос повел впоследствии П. к стиховой драме. Позднейшая лирика уже не имеет этого характера.
К 1815 г. относится первый серьезный эпический опыт П. „Бова“. „Батюшков, который в то время уже решился изменить эпикурейское направление своей поэзии и настаивал на том, чтобы Жуковский занялся поэмой о Владимире Святом, подал и юноше П. совет посвятить свой талант важной эпопее“ (Л. Майков). Свидетельство о том сохранил нам сам П. во втором своем послании к Батюшкову, относящемуся к 1815 г., где он отказывается от предложения Батюшкова.
Неудача Жуковского и отказ П. в деле создания важной героической эпопеи понятны: работа карамзинистов слишком изменила характер литературы и опорочила грандиозные жанры. Пушкинский „Бова“ начинается с того же, чем кончается послание к Батюшкову: с отказа от эпопеи и ее тем и от всего строя старой литературы, которая ее позволяла осуществлять. Выбор фантастически-народной темы был вполне понятен в ту пору: „легкие“ эпические произведения XVIII века и карамзинистов его подсказывали. „Бова“ остался незначительным и недоведенным до конца опытом.
Это об’ясняется тем, что П. не наткнулся еще на разрешение важнейших вопросов поэтического стиля. Условная маска карамзинистского поэта — „causenr’a“ была достаточно выработана уже Карамзиным („Илья Муромец“) и Херасковым („Бахариана“). (Поэма является близким подражанием „Илье Муромцу“ Карамзина). Стиль поэмы представляет неорганическое смешение предметных рядов, характерное для всей его лицейской продукции. Главным элементом, который повлек за собою всю систему, был здесь метр. Метр, которым написана поэма (4-стопный безрифменный хорей с дактилическим окончанием), употреблялся ранее Карамзиным, Херасковым („волшебная“ повесть „Бахариана или неизвестный“), — это был метр легкой сказки, conte, метр сугубо говорный, „козёрский“.
„Руслан и Людмила“ задумана в лицейское время. П. работал над нею в годы перелома, окончена она в 1820 г. Ни одна поэма, по свидетельству Анненкова, не стоила П. столько труда, и не одна не вызвала такого негодования и восхищения. Этою поэмою П. совершает жанровую революцию, и вне понимания ее не может быть осознан пушкинский эпос.
Карамзинисты и теоретически, и практически уничтожили героическую поэму, но вместе с ней оказался уничтоженным эпос, большая форма вообще: несмотря на размеры, иногда довольно значительные, „сказка“, „conte“, воспринималась как младший жанр, — как мелочь.
В „Руслане и Людмиле“ П. принимает жанр сказки, но делает ее эпосом, большой эпической формой. Связь с „Бовой“ в „Руслане и Людмиле“ сказывается как тематическим, фабульным материалом сказки (ср. даже деталь: напр., „чох“ немца лекаря в „Бове“ со знаменитым „чохом“ головы в „Русл. и Люд.“), так и наличием и характером авторского лица. И то и другое, однако, изменилось.
Поэма написана 4-стопным ямбом. 4-стопный ямб, с которым связаны главные поэмы П., представлял ряд условий, важных для смысла, слова и жанра поэмы. Прежде всего, с ним не была связана определенная жанровая окраска: четырехстопным ямбом писались в XVIII—XIX веках и оды торжественные, и оды „горациански-анакреонтические“ (Капнист), и бурлескно-пародические поэмы XVIII века („Энеида“ Осипова), и „conte“, сказки („Сон“ Козодавлева), и, наконец, послания. Всё, за исключением героической поэмы. Ко времени написания „Руслана и Людмилы“ 4-стопный ямб был по преимуществу лирическим стихом, а в посланиях очень быстро исчезла определенная замкнутая строфа, чем стих этот стал удобен для неравномерных стиховых абзацев и чем он получил большую свободу в чередовании, количественном и качественном, — строк с мужским и женским окончанием.
Эта неопределенная жанровая функция метра освобождала П. от ассоциаций с готовыми эпическими жанрами как старшими, так и младшими и давала возможность легкого перехода от повествования в собственном смысле к лирике.
В „conte“ с говорным стихом авторское лицо, лицо рассказчика, доминировало и окрашивало всю ткань: в „Бове“ перед нами чистое явление стихового сказа, подсказанное самым метром поэмы. В „Руслане и Людмиле“ авторское лицо появляется и исчезает. Оно дано в виде обращений к читателю, риторических вопросов, замечаний и, наконец, выделено в особые группы, так наз. „отступления“. „Отступления“ были характерны и для эпоса карамзинистов, но благодаря говорному стиху не осознавались как отступления: все было в одинаковой мере „рассказом“ (так называли тогда „сказ“).
Гибкий четырехстопный ямб, как губка, впитывал в себя лирику, и лирика была ощутительна, как „отступление“. Таковы элегические „отступления“ в песне I, песне V, таков же элегический зачин VI песни. Зачины же песен II—IV были как бы посланиями, переселившимися в поэму, а песня дев в IV песне поэмы — вставным романсом. И автор, и читатель меняются в продолжение поэмы в зависимости от самого материала. Автор — то эпический рассказчик, то иронический болтун-causeur, забывающий, о чем идет речь (песнь V, „Да впрочем дело не о том“. „Но полно, я болтаю вздор“). Это происходит оттого, что жанр поэмы оказался комбинированным: в „младший эпос“, в conte, замешалась лирика (элегия, послание, а в картине боя — и ода).
П. остается в пределах conte — по отношению к теме (волшебная народная сказка) и по вытекающей из темы сложной фабуле (ср. сложность фабулы в „Бахариане“ и др.), но гибкость и переменность материала, а вместе и способа его подачи, (авторское лицо) выводит его на новую дорогу. Оставаться в кругу лексического однообразия „среднего штиля“, выработанного карамзинистами, П. не мог. Оно есть в поэме кусками. Но переход из одного тона в другой требовал нового стиля.
К 1818 г. относится кризис карамзинизма, к тому же году относится сближение П. с архаистом Катениным. Элементы „высокого и низкого“ штилей взамен нормативного однообразия „среднего штиля“ были использованы П. для различной окраски материалов, а „низкий“ словарь — для новой трактовки „народности“. В итоге поэма перестала быть „легкой сказкой“, на основе „младшего эпоса“ вырос комбинированный жанр с использованием других лирических жанров, что еще подчеркнуто лирическим эпилогом, и с частичным переходом в героический эпос (знаменитый „бой“ в VI песне, послуживший образцом для Полтавского боя в „Полтаве“ и для лермонтовского „Бородина“; Кюхельбекер ставил его выше, чем бой в „Полтаве“).
Поэма, будучи по тематической основе „легкой сказкой“, имела все притязания стать новым большим эпосом. Это было подлинной жанровой революцией. Озлоблены были вовсе не старшие архаисты, как это обыкновенно изображается, а либо „беспартийные консерваторы“, либо те же старшие карамзинисты и близкие к ним. Воейков, описательный поэт, писавший в стиле старших карамзинистов и близкий к ним, нападал на „подлость“ слов в поэме. „Житель бутырской слободы“ возмущался тем, что „народная сказка“ преподнесена серьезно. Вожди старших карамзинистов не поняли, не увидели поэмы: Карамзин назвал ее „поэмкой“, т.-е. принял за мелочь, Дмитриев сравнивал ее с пародическим бурлеском XVIII века — „Энеидой“ Осипова и осуждал ее эротизм.
П. был, разумеется, неравнодушен к этой словесной войне. Уже в 1828 г., переиздавая 2 м изд. поэму, он написал к ней предисловие, в котором бесстрастно выписал все бранные отзывы, оставив их без возражения. Тем явнее была ирония. К одной критике отнесся П., однако, особо внимательно — это была статья, которая вышла из круга Катенина и которую П. сначала приписывал Катенину, и состояла в ряде вопросов о фабульных невязках в поэме („слабость создания поэмы“). С последним П. был согласен („Заметка о „Рус. и Люд.“).
Вместо того, чтобы „увязывать“ фабулу, он начинает строить свой эпос вне фабулы. Полный отказ от „conte“, разрыв с этой традицией, влечет за собою отказ от сложной, развитой фабулы и развитие всех результатов комбинированного жанра „Рус. и Люд.“. В „Рус. и Люд.“ обнаружились как бы два центра „интереса“, динамики: 1) фабульная, 2) внефабульная. Сила отступлений была в переключении из плана в план. Выступало значение этих „отступлений“ не самих по себе, не статическое, а значение их энергетическое: переключение, перенесение из одного плана в другой само по себе двигало. Подобно этому сравнение и вообще образ у П. в этой поэме перестал быть уподоблением, сравнением предмета c предметом: он тоже стал средством переключения. Похищение Людмилы сравнено с тем, как похищает коршун у петуха курицу. Переключение из „страшного замка колдуна“ в курятник — огромной силы, удавшееся вовсе не из-за слабого слова „так“ („Так видел я“), а благодаря стилистической образной связи: петух — „султан курятника спесивый“, „трусливая курица“, — „подруга“, „любовница“, коршун — „цыплят селенья старый вор“, „приявший губительные меры“, „злодей“. Что это оказалось устойчивым результатом в применении образа, явствует из подобного же образа-отступления в „Онегине“ — „о волке и ягненке“ и в „графе Нулине“ — „о кошке и мыши“.
При этой внефабульной динамике сами герои оказались переключаемыми из плана в план. Остались, в сущности, только амплуа героев, на которые нагружается разнообразный материал. Самым широким по захвату фабульного материала и самым невесомым оказался главный герой.
„Кавказским пленником“ сразу же после „Рус. и Люд.“ открывается ряд „южных“ поэм П. Есть ряд литературных условий, при которых исторический и современный национальный материал становится литературным, в частности поэтическим. „Руслан и Людмила“ была сказкой, в которой была подновлена (относительно) „народность“, что и выразилось в противоречивом эпитете П. „русский Ариост“, который носится в 20-х гг. Выход в экзотику, как это ни странно, совпадал с теоретическим требованием „народности“ в новой литературе, назвавшей себя „романтическою“: так, О. Сомов в трактате о романтизме 1823 г. указывает на живописность национальных материалов, в которые зачисляет и Сибирь, и Украину, и Кавказ, и Крым. Так, экзотические поэмы П. были в сознании современников романтическими не только в силу их построения, рвавшего со старой эпической традицией, но и по материалу. В „Кавказском Пленнике“ этот переход на „национальность“ и на „современность“, в фабуле закреплен эпилогом, который Вяземский называл „славословием резни“ (кавказской). В соответствии с этим „Кавказский Пленник“ уже не „поэма“, а „повесть“, по пушкинской терминологии (на которой он впрочем не настаивал). Принципы новой вещи были яснее всего указаны самим П.: „повесть, поэма или что вам угодно“; „описание нравов черкесских не связано с происшествием и есть не иное что, как географическая статья или отчет путешественника“. „Черкесы, их обычаи и нравы занимают большую и лучшую часть моей повести, но все это ни с чем не связано и есть истинный hors d’oeuvre“. Примат материала, вытесняющего фабулу, ведет к простоте плана: „Простота плана близко подходит к бедности изобретения... Легко было бы оживить рассказ происшествиями, которые сами собой истекали бы из предметов. Черкес, пленивший моего русского, мог быть любовником его избавительницы; мать, отец и братья ее могли иметь каждый союз роль, свой характер; всем этим я пренебрег: во-первых, от лени; во-вторых, оттого, что разумные эти размышления пришли мне на ум тогда, когда обе части поэмы были уже кончены, а сызнова начинать не имел я духа“.
Главный герой — герой лирический. Он был неудачной пока попыткой П. обратить свободного героя в характер, попыткой — психологизации, удавшейся значительно позднее: „Кавказский Пленник“ — первый неудачный опыт характера, с которым я насилу сладил. Он был принят лучше всего, что я ни написал, благодаря некоторым элегическим и описательным стихам“. „Характер пленника неудачен. Это доказывает, что я не гожусь в герои романтического стихотворения“. И, однако, это все же попытка создать характер на основе „свободного героя“, а не оставить „амплуа“: „Зачем не утопился мой пленник вслед за черкешенкой? Как человек, он поступил очень благоразумно, но в герое поэмы не благоразмие требуется“. Перевес „человека“ над героем был у П. намеренным.
Повесть была снабжена примечаниями. Примечания пояснительные к неизвестным словам и названиям — прием общий и прозе и стихам того времени. Некоторые примечания к поэме носят уже характер дополнительных сведений, замечаний путешественника о климате Грузии и ее песнях. Примечания эти интересны как прямой ввод читателя в методы работы, как обнаружение прозаических материалов и связывание стиха с ними. Но особенно любопытны примечания П., касающиеся литературных источников поэмы. П. приводит длинную выписку из державинской „Оды к графу Зубову“ и из послания Жуковского к Воейкову; последнее было действительно пушкинским источником. Дело было, м. б., в том, что, „заимствование“ вовсе не считалось в 20-х гг. грехом, и ему противопоставлялась самая обработка мотива, при чем упор на точность описания выделял пушкинскую обработку материала, а кроме того — дело было и в жанровой разнице источников и поэмы. С этой точки зрения — „Послание к Воейкову“ Жуковского особенно любопытно: немногим по размерам уступая поэме П., оно остается посланием, между тем как тот же описательный материал, поставленный в сюжет и играя там роль сюжетную (временных перерывов, торможения, замены фабульных мотивов), давал ощущение большой формы (хоть он и был „hors d’oeuvre“, по выражению П., но вся вещь на нем и держалась).
Главным результатом этого упора на описание была
новая трактовка сюжета. Основными для изображения героев и положений стали
описательные детали1). Описание означает временные перерывы, и,
наконец, самая сюжетная развязка дана не прямо: „Вдруг волны глухо зашумели и
слышен отдаленный стон... И при луне в водах плеснувших струистый исчезает
круг“.
В связи с упором на описание, авторское лицо, по сравнению с „Русл. и Людмилой“, — в поэме спрятано (единственное прямое авторское отступление в I части 1—8 строк: „не вдруг увянет наша младость“), а элегия дана монологом героя и точкой зрения, раккурсом героя оправданы описания.
По поводу „Кавк. Пленника“ и южных поэм существует обширная литература о байроновском влиянии. Эту тему необходимо, конечно, ограничить: принципы конструкции этих поэм развились как результаты, ставшие ясными П. после „Рус. и Людмилы“, и связаны исторически со „сказкой“, conte. Знакомство с Байроном могло их только поддержать и усугубить. В области же героя влияние Байрона, несомненное, впрочем, сильно осложняется тем, что герой по самому своему положению в поэме был рупором современной элегии, — стало быть, конкретизацией стилевых явлений в лицо. В итоге внефабульного развития сюжета поэма по размерам получалась значительно меньше „Рус. и Люд.“, а в итоге оперирования описательным материалом, как временными сюжетными элементами, она оказалась фрагментарной, с большой ощутимостью абзацев (характерен вставной номер, „Черкесская песнь“, со сложной строфой).
Этот путь последовательно довел П. до поэмы-фрагмента в „Братьях-разбойниках“. Основанный на действительном происшествии, свидетелем которого был сам П. в Екатеринославе, сюжет есть дальнейшее углубление непосредственной связи с конкретным материалом, и если он оказался „tour de force“, виною этому — полное исчезновение авторского лица и ведение рассказа через героя: для лирического сказа от имени героя не оказалось еще соответствующего стиля. Он колеблется в поэме между „низким стилем“ („харчевня“, „острог“, „кнут“) и стилем байронической элегии. „Снижение“ героя, взятого с натуры, не удалось из-за этого. Но в этой поэме П. делает попытку добиться интонации действующих лиц, и этот опыт краткой прерывистой речи героя используется им позднее.
В „Бахчис. фонтане“ П. точно так же использовал материал путешествия, но впервые в эпосе прикоснулся к историческим материалам, правда, в виде предания: он „суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины“. Материал восточного предания дан условно и намеренно условно: „Слог восточный был у меня образцом, сколько возможно нам, благоразумным, холодным европейцам... Почему я не люблю Мура? Потому что он чересчур уж восточен“.
Автор — лирический проводник-европеец по Востоку, и эта его роль дала материал для лирического конца поэмы. В соответствии с этим авторское вмешательство в действие выражается в вопросах и ответах, описывающих самые действия. Метод „описания“ обратился в полное завуалирование фабулы, даже самое разрешение фабулы поставлено под знак вопроса. Вместе с тем в поэме продолжались те же методы работы, что и в „Кавк. Пленнике“. П. привлекает к изучению материалы („Histoire de Crimèe“, „Тавриду“ Боброва). Вяземский говорит со слов П., что он „пишет поэму „Гарем“ о Потоцкой, похищенной которым-то ханом, событие историческое“. Посылая поэму Вяземскому, П. в качестве материала для предисловия приложил „полицейское послание“. Рисунок фонтана не был приложен к изданию только потому, что все это „верно описано в поэме“; к изданию были приложены примечания документального характера из книг Муравьева-Апостола — „Путешествие по Тавриде“ (в 1823 г.). Однако, документ противоречит фабуле поэмы.
Условная фабула в сочетании с условными героями вытравили „документальность“. Может быть, в том обстоятельстве, что самые методы работы не развились, причина того, что сам П. ставил „Бахчис. Фонтан“ ниже „Кавказск. Пленника“.
Невязка условной фабулы с историческим материалом, заставляла либо отказаться от исторического материала, либо от условной фабулы и условных героев. Первое происходит в „Цыганах“, второе — в „Борисе Годунове“. „Цыганы“ завершают первый период эпоса и разрушают его. Экзотический (и вместе национальный) материал южных поэм здесь сугубо снижен, как и герои. „О Цыганах одна дама заметила, что во всей поэме один только честный человек, и тот — медведь. Покойный Рылеев негодовал, зачем Алеко водит медведя и еще собирает деньги с глазеющей публики. Вяземский повторил то же замечание. Рылеев просил меня сделать из Алеко хоть кузнеца, что было бы не в пример благороднее. Всего бы лучше сделать из него чиновника или помещика, а не цыгана. В таком случае, правда, не было бы и всей поэмы: „ma tanto meglio“. „Помещик“ и „чиновник“ еще впереди; но в „Цыганах“ снова перед П. возник вопрос о „герое“ и „характере“. П. становится перед вопросом об изменении героя под влиянием появления второстепенных героев, „страдательной среды“ (термин Салтыкова), к которой герой прикреплен. Полное отсутствие „авторского лица“, перенесенного в эпилог, и оживление второстепенных героев — повлекло за собой своеобразное положение лирического „героя“ среди эпических „характеров“. Алеко оказался лицом другого жанрового измерения в ожившей „среде“, оторванным от роли и ремесла, которое дано ему автором, и сюжетная катастрофа была в сущности катастрофой литературной: столкнулся лирический, эпический „герой“ с эпическими „характерами“. Отсюда замечание дамы, Вяземского и Рылеева. „Цыганы“ переросли жанровые пределы поэмы, развитие сюжета не только фрагментарно, но и распределились роли автора и героев: автор — эпик, он дает декорацию и нарочито краткий, „сценарный“ рассказ, — герои в диалоге, без авторских ремарок, ведут действие. Стиховая ткань эпоса разорвана драматическим диалогом и вставными нумерами. (Разорваны диалогом даже строки). Вместе с тем, она оказалась разорванной и метрически, — впервые в ямбической поэме появились во вставных нумерах другие метры. Так П. оказался перед поэмой, переросшей одновременно „героя“, жанр и метр, — очутился перед стиховой драмой.
Подготовительные изучения П. к „Борису Годунову“ превосходят по размаху и характеру своему все, практиковавшиеся им до этой поры. Изучения ведутся одновременно и теоретические и материально-документальные.
В области теоретической П. ищет выхода из законов трагедии, связанных с героями и фабулой; в исторически-документальной — более обязательной и новой связи с фактом. „Свободное и широкое развитие характеров“ является его задачей. В „Цыганах“ оно явилось результатом оживления „страдательной среды“. В „Борисе Годунове“ — следующий этап: приравнение главных героев к второстепенным.
Русская стиховая трагедия имела две традиции: княжнинскую героическую трагедию и так наз. „романтическую“, озеровскую, которую поддерживали карамзинисты. Пересмотр общих вопросов, связанных с карамзинизмом, заставил П. уже в начале 20-х гг. критически отнестись к озеровской драме, основанной на любовной интриге, влекшей неизбежно за собою соответствующую трактовку героев.
Целиком присоединяясь к отрицательной позиции архаистов по отношению к озеровской трагедии и будучи близок к ним в вопросе о „массовой“ трагедии, П. обращается не только к материалам национальной истории, но и к национальным источникам этой истории. За жанровую основу он избирает шекспировскую хронику, привнеся в нее, однако, черты и трагедии фабульной, классической: „Вы меня спросите: трагедия моя — трагедия ли характеров или костюмов? Я выбрал наиболее удобный род, но стараюсь соединить их оба“. Фабульная интрига вошла в трагедию линией Дмитрия: „С удовольствием мечтал я о трагедии без любви; но кроме того что любовь составляла существенную часть романтического и страстного характера моего авантюриста, Дмитрий еще влюбляется у меня в Марину, чтобы мне лучше высказать странный характер этой последней“. Таким образом, фабульная сторона трагедии играет роль подчиненную, роль предлога, свободного поля для того же „вольного и широкого изображения характеров“.
В итоге, однако, и жанр „хроники“ и жанр „трагедии“ оказался снова смещенным. П. называет ее то „трагедией“, то „драмой“. По тонкому замечанию Л. Поливанова, само пушкинское название — „Комедия о настоящей беде“ и т. д. — есть „термин пиес старого русского театра XVII в., далекий от всякой претензии различать виды драматической поэзии, в роде „Комедии о крепости Грубетоне, в ней же первая персона Александр, царь Македонский и т. д.“ П. называет ее романтической, во-первых, потому, что в ней он обращается к „мутным, но кипящим источникам народной поэзии“, и, во-вторых, потому, что жанр самой вещи — комбинированный. Главными чертами „романтизма“ для П. являлась „народность“ (что было общим взглядом) и новизна или комбинированность жанров (что было далеко не общим взглядом).
„Борис Годунов“ при появлении (1831) был встречен враждебно критикою своего времени; причинами были: новый комбинированный жанр и новая стилистико-стихотворная структура, целью которой было „характерное“ и которая, развив интонационную сторону поэтической речи, была лишена „картин, игры слов, эффекта в мыслях и выражениях“ (отзыв современника). По-новому, под углом характерного разрешался вопрос о поэтических диалектах: „Есть шутки грубые, сцены простонародные. Поэту не должно быть площадным из доброй воли, если можно их избежать; если ж нет, то ему нет нужды стараться заменять их чем-нибудь иным“. „Народная“, „площадная драма“, рассчитанная на идеальные массы зрителя, не удалась. „Простонародные“ и комические сцены Надеждин назвал фарсом. П. придавал совершенно особое значение успеху и неуспеху своей трагедии: „С величайшим отвращением решаюсь я выдать на свет „Бориса Годунова“. Успех или неудача моей трагедии будет иметь влияние на преобразование драматической нашей системы“... „Признаюсь искренно, неуспех драмы моей огорчил бы меня; ибо я твердо уверен, что нашему театру приличны законы драмы шекспировой, а не придворный обычай трагедии Расина...“ Диалектическим результатом „Бориса Годунова“ была для П. выяснившаяся жанровая роль фрагмента. Драматическая эпопея, в которой личная фабула была оттеснена на задний план широкой, фактически-документальной исторической фабулой, вызвала массу действующих лиц и была дана монтажем характерных сцен (в „Борисе Годунове“ их 24). Важность для П. изображения характеров при массе действующих лиц обострила выбор положений и точку зрения автора в каждой данной сцене. Обнаружилась самостоятельная роль каждой сцены.
Неудача „Бориса Годунова“ явилась результатом переоценки „социального заказа“. Искренно признаюсь, что я воспитан в страхе почтеннейшей публики, — пишет он, предугадывая неуспех трагедии, — и что не вижу никакого стыда угождать ей и следовать духу времени. Это первое признание ведет к другому, более важному: так и быть, каюсь, что я в литературе скептик (чтоб не сказать хуже) и что все ее секты для меня равны, представляя каждая свою выгодную и невыгодную сторону“. Дело идет здесь о „романтизме“, а стало быть о материалах и жанрах. Вопросы эти, после неудачи „Б. Год.“, с обычным литературным скептицизмом (а вернее, свободой) П. разрешает в диаметрально противоположную сторону. Не характеры, а амплуа (а иногда маски: „Фауст“, „Дон-Жуан“). Не площадная драма, а трагедия „костюмов“. И вместе тем, при учете результатов „Бориса Годунова“ — преобразование фрагментов в большие жанры. С полной силой эти методы преобразования сказываются уже в „Сцене из Фауста“, где насыщенный, сжатый диалог не обращается в отдельные лирические стихотворения, а является подлинной драмой именно благодаря выбору драматического положения. Пространственные и декоративные драматические элементы здесь не даны, а введены в самую речь героев, как жесты.
Совершенно естественен второй этап стиховой драмы П., так называемые (и неправильно называемые) „маленькие трагедии“ на основе сценарно сжатого диалога. Черновые заглавия П. — „Зависть“, „Скупой“, указывают на переход к классической трагедии. Установка на фрагмент сталкивает П. с фрагментарной английской трагедией Барри Корнуоля и Вильсона. В итоге и здесь П. дает новый жанр: классической трагедии, преобразованной техникой фрагмента. Любопытны в этом отношении проекты названий П. для драматического цикла: „Драматические сцены, драматические очерки, драматические изучения, опыт драматических изучений“. Первые два подчеркивают жанрообразующую роль фрагмента, вторые два указывают, что стиховой жанр был не только новым, но и теоретически нащупывался. Сила драматических аксессуаров, введенных в самую речь, как элемент ее (ср. знаменитую реплику Лауры: „Приди — открой балкон“), так велика здесь, что П. не нуждается в настойчивом проведении одного какого-либо лексического тона, и такие имена, как „Иван“ (слуга), такие обращения, как „барин“ не разрывают лексической иноземной окраски произведения и вместе c тем доводят ее до минимума, до прозрачности. Так могли пригодиться как материал автобиографические черты в „Каменном Госте“ (ссылка П.) и в „Скупом Рыцаре“ (скупость отца и известная стычка с ним).
На „Моцарта и Сальери“, благодаря его семантической двупланности, обиделся Катенин (П. полемизировал здесь с Катениным), а „Пир во время чумы“ написан во время холерной эпидемии.
Трагедия костюмов, данная на иноземном материале, была полна современным автобиографическим материалом.
Между тем работа над „Борисом Годуновым“ привела П. к целому ряду общих последствий, и в этом отношении эволюционная роль этого произведения для второй половины творчества П. может быть уподоблена роли „Руслана и Людмилы“ для первой.
Работа эта в совершенно новом виде поставила перед П. вопрос о материале. Материал стал для П. здесь обязательным, художественное произведение приблизилось к нему, был исключен момент авторского произвола по отношению к материалу, — и этим самым художественное произведение приобрело совершенно новую, внелитературную функцию. Недаром „Борис Годунов“ вызвал в критике не только эстетические оценки, но и исторические штудии.
Работа над подлинным историческим материалом необычайно обострила вопрос о методах современной обработки исторического материала: должно ли быть художественное произведение, построенное на историческом материале, археологически-документальным, или трактовать вопросы исторические в плане современном. Уже сличение летописей с историей Карамзина должно было поставить эти вопросы, а внимание П. к Пимену, — этому персонифицированному методу идеальной летописи — доказывает их важность. „Граф Нулин“, написанный непосредственно вслед за „Борисом Годуновым“, является, совершенно неожиданно, методологическим откликом, реакцией на работу поэта над документами: „В конце 1825 г. находился я в деревне и, перечитывая Лукрецию, довольно слабую поэму Шекспира, подумал: что, если бы Лукреции пришла в голову мысль дать затрещину Тарквинию? Быть может, это охладило бы его предприимчивость, и он со стыдом принужден был бы отступить. Лукреция бы не зарезалась, Публикола не взбесился бы — и мир и история мира были бы не те. Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась; я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть“. Легкая повесть, примыкающая по материалам и стилю к „Евгению Онегину“, оцененная критикой как скабрезный анекдот, была методологическим экспериментом. Частая игра словом „нуль“ в современной критике в применении к поэме едва ли не совпадает намеренной игрой самого П. на имени героя.
Крайне любопытно, как Надеждин связывает „Графа Нулина“ с „Полтавой“. В статье о „Полтаве“ он пишет: „Поэзия П. есть просто пародия... П. можно назвать по всем правам гением на каррикатуры... По-моему, самое лучшее его творение есть „Граф Нулин“. В соответствии с этим, „Полтаву“ он называет „Энеидой на изнанку“, повторяя упрек Дмитриева по отношению к „Руслану и Людмиле“.
Это не только странное непонимание. Причина этого отзыва, может быть, глубже, чем кажется, а упоминание о „Нулине“ в связи с „Полтавой“ у критика, не знавшего истории возникновения „Графа Нулина“, поразительно. „Нулин“ возник диалектически в итоге работы с историческим материалом, в итоге возникшего вопроса об историческом материале, как современном.
Дальнейшие шаги в этом направлении сделаны П. в „Полтаве“ и „Медном Всаднике“. „Двойственность“ плана и создания „Полтавы“ неоднократно указывалась критикой. Первоначальный интерес к романтико-исторической фабуле (Мазепа — Матрена Кочубей) вырос при исторических изучениях в интерес к центральным событиям эпохи. Это обусловило как бы раздробление центров поэмы на 2: фабульно-романтич. и внефабульно-истор. Поэма, основанная на этих двух центрах, имеет как бы два конца: фабула оказывается исчерпанной во второй песне, а третья песня представляет собой как самостоятельное развитие исторического материала с остатками исчерпанной фабулы, играющими здесь роль концовки. Материал перерос фабулу. Поэма является смешанным комбинированным жанром: „стиховая повесть“, основанная на романтической фабуле, соединяется с эпопеей, развернутой на основе оды. (Ср. в особенности бой: „И он промчался пред полками“, и начало эпилога).
Историческая поэма П. после „Бориса Годунова“ двупланна: современность сделана в ней точкой зрения на исторический материал. Обстоятельствами, предшествовавшими появлению „Полтавы“ (1829), были: подавление восстания декабристов, недавняя казнь революционеров, а обстоятельствами современными — персидская и турецкая кампании, как возобновление национальной империалистической русской политики. (В „Путешествии в Арзрум“ П. не забывает отметить совпадение „взятия Арзрума с годовщиною Полтавского боя“). При этом аналогия Николай I — Петр, данная уже П. в знаменитых „Стансах“ („В надежде славы и добра“) и впоследствии разрушенная в сознании П. — была еще в полной силе. Прямого политического смысла поэма не имела, слишком документальны были изучения П., и слишком ограничен бы был замысел, — но современен был выбор материала и стилистическая трактовка его. Эпилог: „Прошло сто лет“ подчеркивал современного поэта-рассказчика и не случайно перекликался с той же фразой из пролога к „Медному Всаднику“. Это и объясняет отзыв Надеждина.
„Медный Всадник“ является последней „исторической поэмой“ П. и вместе высшей фазой ее. Исторический материал не играет роли самодовлеющей, документально-археологической, современной только по выбору: он становится современным, активным, введенным в поэму в виде „мертвого героя“, идеологического современного образа. Перевес материала над главным героем оттеняется в пушкинском эпосе названиями: „Бахчисар. фонтан“, „Цыганы“, „Комедия о настоящей беде Московскому царству и т. д.“, „Полтава“. Эти названия подчеркивают эксцентрическое положение героя. Название „Медного Всадника“ того же типа. В „Цыганах“ было столкновение „героя“ с ожившей „страдательной средой“, второстепенными героями. В „Борисе Годунове“ главные герои отступили, приравнены к второстепенным. В „Полтаве“ имеем рецедив главных героев, „сильных, гордых сих мужей“. В „Медном Всаднике“ „главный герой“ (Петр) вынесен за скобки; он дан во вступлении, а затем сквозь призму второстепенного. Процесс завершился: второстепенный герой оказался ведущим действие, главным. „Главное“ положение второстепенного героя, ведущего действие, несущего на себе исторический и описательный материал, — несовместимо с жанром комбинированной поэмы. П. дает в „Медном Всаднике“ чистый жанр стиховой повести. Фабула низведена до роли эпизода, центр перенесен на повествование, лирическая стиховая речь вынесена во вступление. Стиховое повествование, опирающееся на документы (П. обставляет и эту поэму, как все предшествующие — примечаниями), сохраняя все признаки стиха, во фразеологическом отношении опирается на прозу. Изменилось и литературное время, не прикрепленное к фабульному эпизоду; это уже не время поэмы, соединенное с моментом завязки и катастрофы. Это — широкое время повести. На это жанровое преобразование, несомненно, повлияла работа П. над прозаическими жанрами.
Эволюция пушкинского эпоса как бы в сокращенном виде отражена в „Евгении Онегине“: это произведение, эволюционирующее от главы к главе. „Онегина“ П. писал больше 8 лет, и отдельные главы его выходили в свет от 1825 по 1832 г. Анненков пишет по этому поводу: „Евг. Онег.“, кроме всех других качеств, есть еще изумительный пример способа создания, противоречащего начальным правилам (!) всякого сочинения“.
Сам П., как всегда понимавший свои вещи лучше современных критиков, дал два положения, два термина, необходимых для уразумения „Евгения Онегина“.
Первое сообщение П. о „Евгении Онегине“ такое: „Я теперь пишу не роман, а роман в стихах — дьявольская разница!“ (4/XI, 23 г.).
Последняя строфа последней главы:
...Даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще неясно различал.
Итак: „не роман, а роман в стихах“ и „свободный роман“.
Борьба П. против фабульной скованности поэмы была борьбой за внесюжетное построение; внесюжетное построение — это развертывание вещи на материале, будь то лирический или описательный. В „Евгении Онегине“ это разрешается опытом „свободного романа“ и связанного с ним „свободного героя“. И фабула и характер не задуманы во всех чертах, а предоставлены развертыванию, развитию. В начале „Евгений Онегин“ задуман как сатирическая поэма, в роде „Дон-Жуана“ Байрона, не для печати, в которой поэт захлебывается желчью. А в 1825 г. он пишет Бестужеву: „Где у меня сатира? О ней и помина нет в „Евгении Онегине“. Фабула должна была быть достаточно свободной и емкой для включения материала деревни, города, света, литературы и развивалась, подталкиваемая собственной инерцией. Онегин, по первоначальному варианту, влюблялся в III главе в Татьяну. Вычеркнутая строфа (после XXI) главы II, первоначально относившаяся к характеристике Ольги, затем, по намерению поэта, должна была относиться к Татьяне. Подобно этому расширялись амплуа героев. Евгений был вначале задуман как герой под стать Алеко (черты „Демона“, прообраз Н. Раевского). При развертывании романа не только расширяются материалы героя (внесение автобиографических черт), но он и осмысляется пародически. Ленский должен был быть „крикуном и мятежником странного вида“ (с чертами Кюхельбекера), он становится элегиком, по контрастной связи с Онегиным и по злободневности вопроса об элегиях, что дает возможность внедрения злободневного материала. Герои, которые в позднейшей критике были названы типами, были свободными, двупланными амплуа для развертывания разнородного материала. (Ср. отвлеченные названия П. для глав: „Поэт“, „Барышня“).
„Свободный роман“, „панорама“, по выражению П., строит материал на переключении из плана в план, из одного тона в другой. Это переключение (так называемые „отступления“) явилось главным сюжетным средством и уничтожило однотонность героя-амплуа. Исключительной двупланности достигает П. в самых ответственных фабульных пунктах (высокий и иронический план смерти Ленского), совершенно изменяя этим роль фабулы. Внесюжетная „свобода“ романа подчеркнута его концом. Роман как начат, так и окончен — внезапно. Прощание с Онегиным дано на напряженном фабульном моменте. Но и последняя глава (1832) и первое полное издание „Евгения Онегина“ (1833) кончалось „отрывками из путешествия Евгения Онегина“, которые и являются, таким образом, подлинным концом Онегина, подчеркивающим его „бесконечность“. Эти отрывки не только подчеркивают внесюжетное построение, но как бы стилистически символизируют его. Последние 140 стихов написаны в виде отступлений от одной фразы: „Я жил тогда в Одессе пыльной“.
И весь „Евгений Онегин“ кончается неоконченной фразой:
„Итак, я жил тогда в Одессе“.
Свобода романа была в его развертывании, не только сюжетном, но и стилистическом.
Собранье пестрых глав,
Полусмешных, полупечальных,
Простонародных, идеальных.
Сравнить подоснову стиховой речи I главы (установка на светскую речь и отсюда галлицизмы) с подосновой последней главы (разговорные интонации прозаического типа, напр., „А он не едет“.., „А Татьяне и дела нет...“, „А он упрям“). Свободным оказался в результате самый жанр. Вследствие непрестанных переключений из плана в план, жанр оказался необязательным, разомкнутым, пародически скользящим по многим замкнутым жанрам одновременно. Он скользит по жанру прозаического романа, типа вальтер-скоттовского романа и романа сантиментального.
Одновременно, в силу того, что это не роман, а „роман в стихах“, выплывает пародия на героическую поэму:
„Пою приятеля младова (гл. VII)“.
Попутно П. использует пародически малые стиховые жанры (элегию).
Для всего этого нужны были особые стиховые условия. Бесстрофический четырехстопный ямб, употребляемый П. в его эпосе, не мог удовлетворить его. Отсутствие строф не давало сюжетной меры авторским отступлениям. Эта мера отчетливо выступает в строфе, где стиховое время и энергия равномерно уделяется каждой строфе, будь то отступление, или рассказ, или речь героя. Строфа „Евгения Онегина“ есть в данном случае открытие П. и является такой же законченной строфической формой, как сонет, напр. В ней есть целый ряд смысловых условий для разнообразия авторского тона.
Работа над документальным материалом истории, возникновение чисто научных методологических вопросов и сомнений по поводу него, постепенное вовлечение в стих огромных современных материалов, напряженные теоретические изучения, — вся эта черновая, подготовительная работа поэта уже к концу 20-х годов склоняет П. к испробованию прозаических жанров.
Общее достижение литературной науки XIX и XX веков по отношению к прозе П. — это утверждение, высказанное еще Шевыревым и затем подтвержденное исследователями позднейшими, что проза П. стоит особняком по своим стилистическим особенностям в современной П. литературе. Роль карамзинской прозы, как традиции прозы П., еще не изучена, а связь его прозы с западно-европейскими явлениями не уясняет специфического положения ее в русской литературе.
Подобно тому, как самое веское слово по отношению к семантике пушкинского стиха было сказано Гоголем: „бездна пространства“, так самое веское слово по отношению к пушкинской прозе было сказано Львом Толстым. В письме к Голохвостову от 1874 г. он пишет: „Давно ли вы перечитывали прозу П.?.. прочтите сначала все повести Белкина. Их надо изучать и изучать каждому писателю... Изучение это чем важно? Область поэзии бесконечна, как жизнь; но все предметы поэзии предвечно распределены по известной иерархии, и смешение низших с высшими или принятие низшего за высший есть один из главных камней преткновения. У великих поэтов, у П., эта гармоническая правильность распределения предметов до совершенства... чтение Гомера, П. сжимает область и, если возбуждает к работе, то безошибочно“.
Толстой изучал фразеологическую систему, и его утверждение в первую очередь относится к единицам построения пушкинской прозы. Пушкинская проза преобразовывалась не внутри какого-либо одного прозаического жанра. Таким жанром не могли быть письма П., сами проделавшие сложную эволюцию от карамзинистской шуточной перифразы его ранних писем до фразеологической простоты и вместе обилия намеков („домашняя семантика“) его позднейших писем. Эпистолярный жанр был устойчивым, достигшим большой культуры у карамзинистов, и эволюция его у П. сама должна была быть вызвана какими-либо причинами. Жанр иронических предисловий, заметок и статей П., несомненно, должен быть изучен, но пока рано говорить о значении его, как двигателя пушкинского стиля в прозе. Ранние заметки его о Шаховском доказывают, что лицейский П. движется здесь по периферии карамзинистской прозы, и нужны были какие-то дополнительные условия, чтобы совершился сдвиг и в этом жанре. Условия эти следует искать в стиховой работе П. Уже Сенковский в 1834 г. отметил близость пушкинской прозы к его стиху (в личном письме к П.). В наше время заново поднял вопрос о родстве пушкинской прозы со стихом Б. М. Эйхенбаум, проанализировавший фонетическое строение пушкинской прозаической фразы.
Верно отмеченное сродство возбуждает, однако, вопрос об условиях, при которых стих мог до такой степени повлиять на прозу. Дело разъясняется, если мы обратимся не столько к стиху как результату, сколько к самой стиховой работе П.
Стиховая работа П. с опубликованием черновиков совершенно разрушила ходкую в первой половине XIX века (когда рукописи его были недоступны) легенду о П.-экспромптере. Прозаические планы — прозаические программы — стиховые черновики, — вот краткий перечень этапов и методов его стиховой работы. Вместе с тем, при изучении массы его черновых материалов возникло противоположное убеждение, что пропасть лежит между ними и окончательным результатом — стихом. Однако, анализ его прозаических планов и программ для стихов указывает, что этой пропасти не существует. П. намечает в планах и программах опорные фразовые пункты, выпуская между ними то, что предоставляется дальнейшему развитию стиховой речи. При этом в планах условные обозначения — „то и то“, „etc“ — указывали на эти свободные места, а в программах эти свободные места не обозначены, и фразовые отрезки синтактически спаяны.
Эта фраза не явилась в итоге простым отражением стиховой фразы и не была, в то же время, прозаическим периодом. Огромные пространства, оставленные для свободного развития стиховой речи, сказывались в большом временном обхвате фразы. Слова, как воссоединенные опорные пункты стиховой речи, уже не служили для заполнения прозаического периода, а являлись емкими обозначениями. „Иерархия предметов“ явилась результатом программного назначения прозы. Отсюда перенос центра тяжести не на период, а на краткую фразу; отсюда же — учет веса, „иерархия слов“, синтактически воссоединяемых, и учет веса, „иерархия фраз“, соединяющихся в период.
Как зыбка грань, отделяющая пушкинские черновые программы от его чистовой прозы, видно из того, что иногда эти черновики становились сами по себе чистовой прозой. Так, „Сцены из рыцарских времен“ являются, по-видимому, распространенным сценарием драмы (они носят у П. название „План“), а „Кирджали“, напечатанный самим П., является точно так же программою большого произведения.
Так, не стерта грань между программою и произведением в „Путешествии в Арзрум“, где „NB“ перед фразами „и проч.“, обрывающие фразы, дают непосредственность речи путешественника.
„Иерархия предметов“ от этого нейтрального фразеологического построения получается совершенно своеобразная. Действия и события перечисляются, а не рассказываются; они не педализированы. Нейтральная сценарная фраза вырастает в нейтральную позу рассказчика.
Здесь были методы овладения внелитературными и литературными материалами: запись исторических анекдотов (table talk), пересказ литературных материалов („Джон Теннер“, „Записки бригадира Моро де Бразе“) становились сами по себе литературными произведениями. Анекдот, как своеобразная программа, является сюжетною основою его новелл („Повести Белкина“, „Пиковая Дама“).
Этот же метод наличествует и в тех прозаических жанрах, которые достигли во время П. значительного распространения и известной степени культуры: в исторической повести, разбойничьем романе и т. д. („Арап Петра Великого“, „Дубровский“, „Капитанская дочка“). Насколько нейтральный стиль пушкинской прозы помогал ему использовать документальные материалы, видно хотя бы из того, что главою „Дубровского“ является подлинный современный судный документ и что введение его в ткань романа не вызвало никакого стилистического разнобоя. Это делает у П. совершенно нейтральным лицо автора и позволяет в ряде случаев разделить его на два лица: выдвинуть вымышленное лицо рассказчика, а себе взять роль издателя („Повести Белкина“, „История села Горюхина“, „Капитанская дочка“).
Отношение к материалу историческому для П. вытекает из его работы над стиховым эпосом — материалы „вызываются“ современной точкой зрения. Так, в „Арапе Петра Великого“ П. разрабатывает материалы своей родословной, бывшие актуальными для него сначала как составная часть его „поэтического лица“, а затем актуализованные социальными вопросами („Моя родословная“). Так, работа над „Капитанской дочкой“ совпадает с исторической работой над Пугачевским бунтом, работой, также выдвинутой актуальными социальными проблемами, а „История села Горюхина“ является экспериментом писателя-историка, — пародическим осмыслением „Истории Государства Российского“ Карамзина (Н. Страхов).
Работа поэта, а затем и прозаика все больше сталкивает П. с документом. Его художественная работа не только питается резервуаром науки, но и по возникающим методологическим вопросам близка к ней.
Отсюда — диалектический переход на материал, как на таковой; П. становится историком. Его этнографическая собирательская работа (народные песни, историч. анекдоты и т. д.), „Пугачевский бунт“, предварительная работа над „Историей Петра Великого“, планы его работы над историей кавказских войн и намерение заняться историей французской революции — доказывают, что П. постепенно, но неукоснительно шел к концу своей литературной деятельности, к широкому раскрытию пределов литературы, к включению в нее и научной литературы.
С этим совпадало и изменение авторского лица. Все более вырисовывавшаяся в его художественно-прозаической работе нейтральность авторского лица, лицо автора-издателя материалов, будучи явлением стиля, постепенно перерастало свою чисто стилистическую роль.
Когда Сенковский, воспользовавшись вымышленным именем и обликом Белкина, напечатал за подписью Белкина несколько своих повестей, П. так об этом писал Плетневу: „Радуюсь, что Сенковский промышляет именем Белкина; но нельзя ль (разумеется из-за угла и тихонько, например, в М. Набл.) объявить, что настоящий Белкин умер и не принимает на свою долю грехов своего омонима“ (1835).
Так вымышленное лицо „циклизатора“, которое было сродни многим зап.-европ. явлениям (вымышленные циклизаторы у Вальтер-Скотта, Вашингтон-Ирвинга, ср. с русскими явлениями Гомозейки, казака Луганского, Пасичника рудого Панько и т. д.) у П. дорастает до явлення журнала.
Стремление к собственному журналу растет у П. постепенно, оно сочетается со сложными условиями литературной работы (борьба против монополии Булгарина и Греча), но к 30-м годам журнал становится для П. необходимостью, вызванной эволюцией его литературной деятельности. Это доказывает хотя бы несостоявшееся журнальное предприятие, в котором П. шел на соглашение и сотрудничество с Булгариным. „Литературная газета“, издававшаяся Дельвигом при ближайшем сотрудничестве П., по небольшим своим размерам и узким задачам не могла удовлетворить П. (Мешали сотрудничеству в ней и биографические условия тогдашней его жизни — разъезды) Журналом П. становится „Современник“. При том широком объеме и содержании понятия „литература“, которое в ту пору созрело у П., журнал его представляет собою любопытное явление. Несомненен его упор на чисто фактический, документальный материал. (В. Шкловский). Сношения с лицами, не являющимися профессиональными литераторами, но много видевшими и любопытными: Н. А. Дуровой, В. А. Дуровым, Сухоруковым и т. д. — характерны для П.—журналиста, так же как и попытки вызова литераторов из соседних с художественной литературою рядов — не даром последнее письмо П. предлагает конкретное литературное сотрудничество в журнале детской писательнице Ишимовой.
Бесполезны догадки о том, что делал бы П., если бы в 1837 г. не был убит. Литературная эволюция, проделанная им, была катастрофической по силе и быстроте. Литературная его форма перерастала свою функцию, и новая функция изменяла форму. К концу литературной деятельности П. вводил в круг литературы ряды внелитературные (наука и журналистика), ибо для него были узки функции замкнутого литературного ряда. Он перерастал их.
Сноски
1) Здесь можно говорить о влиянии приемов Байрона.