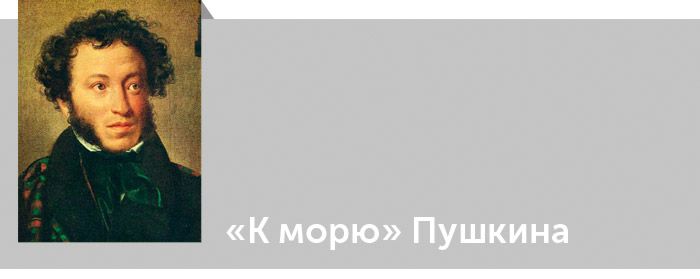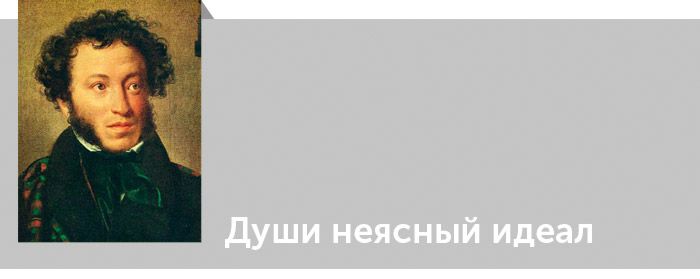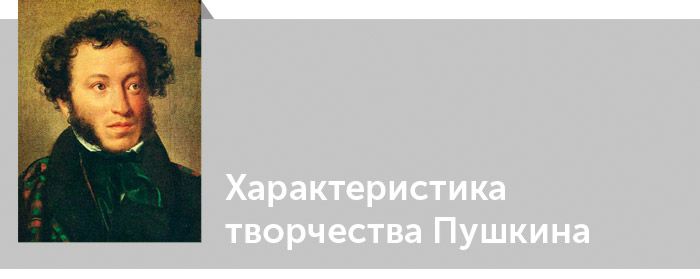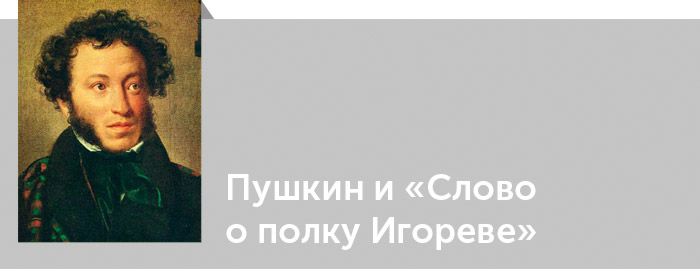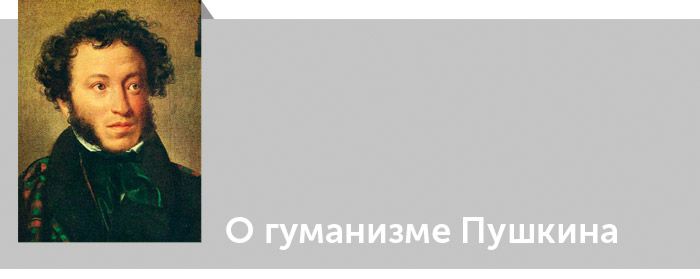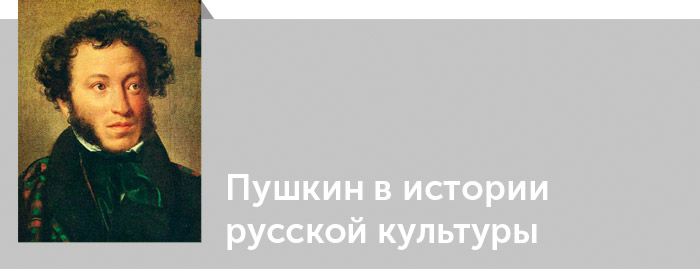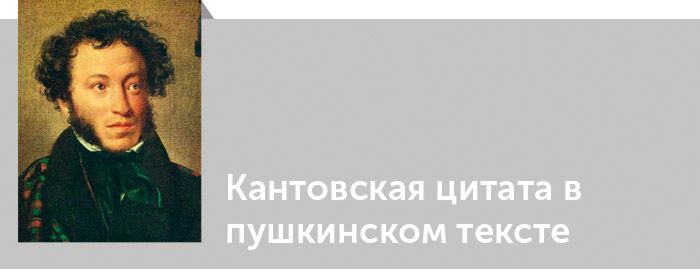Творческий мир Пушкина и искусство
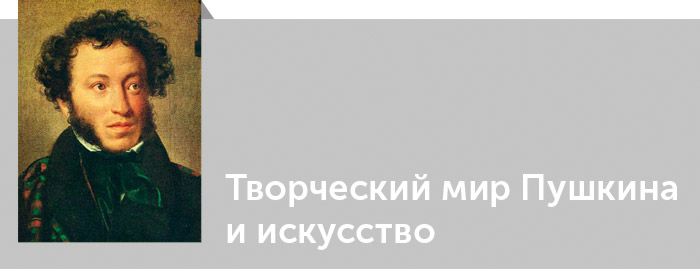
Берестовская Д.С.
Творчество А.С. Пушкина неразрывно связано с русской художественной культурой XVIII – XIX веков. Окруженный с детских лет произведениями русского и мирового искусства, Пушкин впитал в себя самый дух искусства, которое обогащало его внутренний мир и оказывало во многом определяющее влияние на формирование его таланта. По свидетельству К.А. Полевого, “он страстно любил искусства и имел в них оригинальный взгляд”. I Общение с искусством способствовало углублению образного видения поэта; созерцание живописных полотен, произведений скульптуры, архитектуры, посещение драматических и музыкальных театров его времени, общение с деятелями русского искусства, сама атмосфера русской художественной жизни I половины XIX века – все это нашло гениальные поэтические отклики на страницах пушкинских творений, определило своеобразие художественного мышления Пушкина, оказавшего впоследствии могущественное воздействие на развитие русского искусства. Эту роль Пушкина отметил уже И.А. Гончаров: “Пушкин – отец, родоначальник русского искусства, как Ломоносов – отец науки в России. В Пушкине кроются все семена и зачатки, на которых развились потом все роды и виды искусства во всех наших художниках”.II
В течение жизни и творческого пути Пушкина перед ним постепенно раскрывались различные пласты европейской художественной культуры. В салоне Сергея Львовича в раннем детстве он слышал стихи Расина и мольеровские диалоги, в библиотеке отца, по словам брата Льва, он проводил бессонные ночи и “пожирал” книги, так что к одиннадцатому году был хорошо знаком с французской литературой, сравнительными жизнеописаниями Плутарха, “Илиадой” и “Одиссеей” Гомера.
В то же время он познакомился с копиями и гравюрами с произведений мирового искусства. Эти впечатления расширились и получили новые импульсы в Царском Селе, парк которого славился своими скульптурами, монументами, павильонами.
Здесь каждый шаг в душе рождает Воспоминанья прежних лет, – писал в своей юношеской оде Пушкин.
В Царском Селе лицеисты видели подлинные памятники античности, привезенные из Италии. Их взоры и души поражали дворцы, созданные Кваренги и Камероном в духе классицизма второй половины XVIII века.
В центре пруда была воздвигнута на гранитном основании Чесменская колонна, увенчанная победным русским орлом. Поразительно, что уже в то время юный поэт обладал способностью отметить особенности памятника, увидеть его своеобразие, точно описать детали поэтическим языком:
... Окружен волнами
Над твердой, мшистой скалой
Вознесся памятник. Ширяяся крылами,
Над ним сидит орел младой.
И цепи тяжкие, и стрелы громовые...
Тут же, в парке, лицеист видел Кагульский обелиск, воздвигнутый в честь победы русской армии под предводительством графа Румянцева, “российское воинство числом семнадцать тысяч – обратило в бегство до реки Дуная турецкого визиря Галиль-Бея – силою полуторастотысячной”, – читал он на бронзовой арке. В своей лицейской оде Пушкин отметил величавую простоту этой колонны: В тени угрюмых сосен Воздвигся памятник простой.
Знаменательно, что именно сюда привел Пушкин Машу Миронову на встречу с императрицею Екатериной II (“Капитанская дочка”): “Утро было прекрасное, солнце освещало верхушки лип, пожелтевших уже под свежим дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди важно выплывали из-под кустов, осеняющих берег. Марья Ивановна пошла около прекрасного луга, где только что поставлен был памятник в честь недавних побед графа Петра Александровича Румянцева”. Видел ли Пушкин картину В. Боровиковского, изобразившего Екатерину II на прогулке около этого обелиска?
В Царскосельском парке перед юным поэтом открывался вид на Морейскую колонну, воздвигнутую в честь победы русских войск над турками; на бронзовой доске поэт читал и имя своего предка – Ивана Абрамовича Ганнибала. Знаменитая Камеронова галерея с открытой террасой спускалась вниз, к самому пруду. Величественный Екатерининский дворец, творение В. Растрелли; более строгий Александровский дворец с классической колоннадой, созданный по проекту Д. Кваренги, – вот те замечательные произведения высокого искусства, которые окружали юношу и формировали его эстетические вкусы.
В лицее из лекций И.К. Кайданова, А.И. Галича, Н.Ф. Кошанского он узнавал о великих творениях прошлого, с Д.И. де Будри говорил о французской литературе. “Все волновало нежный ум...” – скажет он впоследствии.
В лицейский период Пушкин познакомился с альбомом гравюр с лучших картин Эрмитажа, изданным в 1805-1809 гг. В нем содержались их описания и биографии художников. Именно из этого издания поэт мог узнать историю реставрации картины Рафаэля “Святое семейство с безбородым Иосифом”, нашедшую отражение в стихотворении “Возрождение” (1819):
Художник – варвар кистью сонной
Картину гения чернит И свой рисунок беззаконный
Над ней бессмысленно чертит.
Но краски чуждые, с летами,
Спадают ветхой чешуей; Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой.
В этом же альбоме Пушкин мог прочитать об итальянском живописце Франческо Альбани: “Ничья кисть не изображала с таким превосходством прелести любви и юности”.III Альбани имел в виду Пушкин-лицеист, когда обращался “К живописцу” (1815):
Дитя харит и вдохновенья,
В порыве пламенной души,
Небрежной кистью наслажденья
Мне друга сердца напиши;
Красу невинности прелестной,
Надежды милые черты,
Улыбку душеньки небесной
И взоры самой красоты.
С обзором выставки русских художников Пушкин познакомился еще в Лицее из “Прогулки в Академию художеств” К.Н. Батюшкова, опубликованной в 1814 году, где воздается хвала Кипренскому, “любимцу моды легкокрылой”, как назовет его впоследствии Пушкин. Поэт-лицеист мог видеть и самого Кипренского: в 1813 г. он приезжал в Царское Село, где рисовал и писал акварелью портреты товарища Пушкина Бакунина и Натальи Кочубей, ей и сестре Бакунина посвящены многие стихотворения юного поэта. Тогда же, в 1813 году, Кипренский нарисовал потрет Никиты Муравьева, 16-летнего юноши, будущего декабриста. На портрете надпись: “О.К. 1813. Царское Село”.
Уже в лицейские годы формировался тот своеобразный взгляд на произведения искусства, который позволил поэту чутко откликаться на художественные явления в жизни России. В юношеской поэме “Монах” он высказал мысль о сопоставлении возможностей и границ литературы и живописи.
Ах, отчего мне дивная природа
Корреджио искусства не дала?
Тогда б в число парнасского народа
Лихая страсть меня не занесла.
Я кисти б взял бестрепетной рукою,
И, выпив вмиг шампанского стакан,
Трудиться б стал я жаркой головою,
Как Цициан иль пламенный Альбан.
П.Е. Щеголев, публикуя поэму в 1928 году, отметил, что особое место среди “источников “Монаха” занимают картины. Ни в каком другом произведении Пушкин не упоминает сразу столько имен художников...”IV Это Рафаэль, Корреджио, Альбани, Верне, Пуссен, Рубенс. Юный поэт не только называет имена, но и отмечает особенности стиля этих художников, воспроизводит пейзаж, представляющий как бы описание живописного полотна, увиденного точным и зорким глазом:
Иль краски б взял Вернета иль Пуссина;
Волной реки струилась бы холстина;
На небосклон палящих, южных стран
Возведши ночь с задумчивой луною,
Представил бы над серою скалою,
Вкруг коей бьет шумящий океан,
Высокие, покрыты мохом стены;
И там в волнах, где дышит ветерок,
На серебре, вкруг скал блестящей пены,
Зефирами колеблемый челнок.
Перед нами образ природы, как бы рожденный на полотнах Пуссена и Верне: ощущение вечности и постоянства существования природы и наряду с этим представление о самом движении жизни, ее развитии во времени. Плавный, текучий ритм пространства, созданный чередованием параллельных планов, рождает это ощущение движения времени.
Струящаяся лента реки, высокая серая скала, словно вытолкнутая из недр земли могучей энергией, покрытая мхом, шумящий вокруг нее океан, челнок на волнах, – и все это облито задумчивым лунным светом – такими предстают пейзажи европейских художников XVII – XVIII веков: Лоррена, Пуссена, Верне. Они любили и умели писать воды – водопады, реки, озера, море, изображали соотношение живописных сил природы. По мысли Пуссена, в слиянии с природой, в ее созерцании человек обретает свою истинную сущность. Такова картина Верне “Ночь”, с которой Пушкин познакомился по гравюре Алиаме. В описании этих сюжетов уже в лицейской лирике проявилось “мастерство словесного живописания” (Б.Томашевский), которое в полную силу воплотилось в более поздних работах, “в поэтическом изображении пейзажа, писанного уже непосредственно с натуры”.V
Позже, в 1830 году, Пушкин обратился к эстетике Канта и Лессинга, имея в виду работу Лессинга “Лаокоон, или о границах живописи и поэзии”, оказавшую огромное влияние на развитие мировой и русской эстетической мысли конца XVIII – XIX вв.
Пушкину были близки рассуждения Канта и Лессинга о прекрасном, мысли философов о специфике поэзии и изобразительного искусства. Классификация искусств, предложенная Кантом, была основана на различии способов выражения эстетических идей, т.е. красоты.
Высшей формой искусства Кант считал поэзию. О различии поэзии и живописи рассуждает Лессинг в своем “Лаокооне”. При этом, обосновывая “более широкую сферу поэзии”, Лессинг в то же время утверждает ведущую роль воображения в создании художественных образов как живописи и скульптуры, так и поэзии: “... ибо то, что мы находим прекрасным в художественном произведении, находит прекрасным не наш глаз, но – при его посредстве – наше воображение. Поэтому, возникает ли у нас определенный образ благодаря материальным или произвольным знакам, он должен в любом случае доставлять нам, хотя бы и не в равной степени, однородное удовольствие”.VI
Приводя множество доводов в доказательство мысли о различии поэзии и живописи, Лессинг не может отрицать, что границы, разделяющие эти виды искусства, условны, т.к. “оба они подражают одним и тем же объектам...”.VII
Не случайно Пушкин упоминает “тяжелого педанта Готшеда”, с которым вел борьбу Лессинг, выступая против традиций классицизма. Верховным началом искусства Готшед объявлял разум, требуя от литературы строгого соблюдения правил “трех единств”, верности хорошему вкусу, чистоты языка и моральной поучительности. Лессинг, ратуя за принципы реализма, восставал против холодности и рассудочности классицизма.
В неоконченной статье “О народной драме и драме “Марфа Посадница” (1825) Пушкин восстает против признания пользы главным достоинством искусства: “Между тем как эстетика со времен Канта и Лессинга развита с такой ясностью и обширностью, мы все еще остаемся при понятиях тяжелого педанта Готшеда; мы все еще повторяем, что прекрасное есть подражание изящной природе и что главное достоинство искусства есть польза. Почему же статуи раскрашенные нравятся нам менее чисто мраморных и медных? Почему поэт предпочитает выражать мысли свои стихами? И какая польза в Тициановой Венере и в Аполлоне Бельведерском?”VIII.
Реализм, по его утверждению, не требует рабского копирования действительности; не исключает, а подразумевает условность.
Поэту был близок язык пластических искусств, он часто обращался к произведениям живописи, скульптуры, находя в них аналогии своим поэтическим образам.
В этом плане знаменательно воспоминание А.С. Андреева о встрече с Пушкиным во время посещения выставки Общества поощрения художников, где экспонировалась картина К. Брюллова “Итальянское утро”. Оставаясь долго в безмолвии перед этим полотном, поэт высказал мысли, позволяющие судить о его неприятии искусства, являющегося рабским копированием действительности или классических образцов: “Кисть, как перо: для одного глаз. Для другого – ухо. В Италии дошли до того, что копии с картин столь делают похожими, что, ставя одну оборот другой, не могут и лучшие знатоки отличить оригинала от копии. Да, это как стихи, под известный каданс можно их наделать тысячи, и все они будут хороши. Я ударил об наковальню русского языка, и вышел стих – и все начали писать хорошо”.IX
В мире пушкинской поэзии, охватывающей самые разные стороны жизни, искусство занимает одно из значительных мест. Музыка, от народной песни до Моцарта и Россини, европейская и русская скульптура, живопись, драматический театр, балет – все это нашло отклик на страницах произведений Пушкина. К нему можно отнести строку из стихотворения “К вельможе”, написанного Пушкиным после посещения поместья князя Н.Б. Юсупова Архангельское: “Влиянье красоты ты живо чувствуешь”.
Пушкин явился свидетелем и непосредственным участником тех перемен, которые происходили в русском искусстве первой трети XIX века – блистательной эпохи, когда Россия и Европа в восторге склонялись перед гениями Брюллова и Кипренского, когда звучала музыка Глинки, поражали богатством фантазии балеты Дидло, “волшебный край” театра одушевлялся игрой Семеновой и танцем Истоминой... Литература этого времени чутко откликалась на художественные явления в жизни России, отличавшейся значительной активностью: обилие выставок (в Академии художеств и Обществе поощрения художников), создание Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, выход в свет “Журнала изящных искусств”, “Художественной газеты” и т.д.. Искусством живо интересовались писатели – Жуковский, Грибоедов, Дельвиг, Гнедич, Бестужев (Марлинский), Гоголь и др.. В 20-е – 30-е гг. окончательно сложился архитектурный ансамбль Петербурга, не имевший аналогов в мировом зодчестве того времени; была открыта Военная галерея Зимнего дворца, где экспонировались портреты героев 1812 года кисти Доу; воздвигнут на Красной площади Москвы монумент Мартоса – памятник Минину и Пожарскому...
В трехлетие после окончания Лицея (1817-1820) Пушкин явился активным зрителем петербургского театра. Анализируя роль этого трехлетия, Л. Гроссман определяет его как “огромный опыт” в формировании творческой личности Пушкина, называет этот период “петербургским театральным трехлетием”.X
Зритель в театральных креслах, “почетный гражданин кулис”, он был ввергнут в гущу споров о классицизме и романтизме на русской сцене. Классические традиции еще господствовали. Юный Пушкин, как истый арзамасец, не мог согласиться с поэтикой классицизма. Но величавые образцы трагедии, представленные Катениным – “Корнеля гений величавый”, игра великой актрисы Семеновой, создавшей русский трагический репертуар, драматическая деятельность Озерова – Там Озеров невольны дани
Народных слез, рукоплесканий
С младой Семеновой делил –
все это вдохновляло Пушкина и формировало тот опыт трагического искусства, который впоследствии отзовется при создании “Бориса Годунова”.
В сфере пушкинского общения – “колкий Шаховской”, знаток сцены, поэт, драматург, режиссер. Пушкин, вначале метко назвавший его “Шутовским”, нападавший на него за “пасквиль на Карамзина”, впоследствии изменил свое отношение к Шаховскому. В записи Катенина сохранилось описание посещения Пушкиным Шаховского, восхищение поэта его яркой и неординарной личностью, а затем в письме Пушкина – воспоминание “об одном из лучших вечеров его жизни”.
Пушкина и Шаховского связывало и творческое содружество: Шаховской переработал для сцены фрагменты из “Руслана и Людмилы” (“Финн”), поэму “Бахчисарайский фонтан” (“Керим-Гирей”), “Пиковую даму” (“Хризомания, или Страсть к деньгам”).
Комедии Шаховского, их действующие лица, некоторые сюжетные ходы, диалоги вошли в театральный обиход того времени, когда
...вывел колкий Шаховской Своих комедий шумный рой.
Определенную роль в формировании Пушкина-драматурга сыграла его дружба с Катениным, страстным театралом, знатоком сцены, драматургом и театральным педагогом. Пушкин высоко ценил его переводы Расина, Корнеля, Мариво, собственные поэтические опыты (“ученую отделку”, звучность гекзаметра). В послании 1828 года он называл Катенина “пламенным поэтом”, достойным быть “в строях Парнаса”, и признавал за ним право на “лавр Корнеля или Тасса”.
Неизгладимый след в душе поэта оставила Семенова, олицетворявшая саму Трагедию. Пушкин, специально для нее написавший “Замечания о русском театре”, высоко оценил ее роль “царицы трагической сцены”, “одаренной талантом, красотою, чувством живым и верным”. Он отметил особенности ее мастерства: свободная, ясная игра, “благородство одушевленных движений”, “порывы истинного вдохновения”, неподражаемая оригинальность. Игра Семеновой, утверждает Пушкин, “одушевила” произведения драматургов того времени, сделала как бы незаметной несовершенность их творений, “гений актрисы” удержал на сцене многие “плачевные произведения”, ибо “слышали мы одну Семенову”.
В известном письме Я.Н. Толстому из Кишинева (1822) Пушкин вспомнил этот “волшебный край”, этот яркий мир, оставивший неизгладимый след в его душе: “Что Всеволожские ? что Сосницкие? что Хмельницкий? что Катенин? что Семеновы? что Завадский? что весь Театр?XI Следует отметить значительную роль театрального опыта в формировании представления о сущности трагедии в период создания “Бориса Годунова”. Размышляя в письме Раевскому о “правдоподобии сценического искусства”, Пушкин опирается на специфику восприятия жанра трагедии зрительным залом, разрушающего классические три единства: “Законы его старались основать на правдоподобии, а оно-то именно и исключается самой сущностью драмы, не говоря уже о времени, месте и проч., какое, черт возьми, правдоподобие может быть в зале, разделенной на две части, из коих одна занята 2000 человек, будто бы невидимыми для тех, которые находятся на подмостках?”.XII
Истинное правдоподобие Пушкин видит в разрушении канонов, не в условном “триединстве”, а в “правдоподобии характеров и положений”. Поддержку он находит у своих предшественников, например, у Корнеля: “Посмотрите, как смело Корнель поступил в “Сиде”: “А, вам угодно соблюдать правило о 24 часах? Извольте”. И тут же он нагромождает событий на 4 месяца”. XIII Гений – это новатор, в понимании Пушкина. Поэтому и – “Корнеля гений величавый”.
Опираясь на эстетику Лессинга и на свои личные впечатления Пушкин, как и автор “Лаокоона”, обращается к драмам Шекспира, находя у него “правдоподобие положений и правдивость диалога” – истинное правило трагедии: “... до чего изумителен Шекспир! Не могу прийти в себя. О как мелок по сравнению с ним Байрон-трагик...”. XIV Пушкин сравнивает драматургические системы Байрона и Шекспира. У Байрона-романтика Пушкин находит односторонность, неестественность в раскрытии характеров, “принужденность и робость диалога”. Именно реалист Шекспир дает пример многообразия, соответствия действительности, “смешение родов комического и трагического”: “Читайте Шекспира, он никогда не боится скомпрометировать своего героя, он заставляет его говорить с полнейшей непринужденностью, как в жизни, ибо уверен, что в надлежащую минуту и при надлежащих обстоятельствах он найдет для него язык, соответствующий его характеру”.XV Шекспир для Пушкина – автор трагедии народной.
Из этих размышлений Пушкин делает вывод, дающий возможность определить его понимание законов реализма в драматическом искусстве: “Истина страстей, правдоподобие чувствований – вот чего требует наш ум от драматического писателя”.XVI
Особую роль в формировании творческого мира Пушкина сыграл балетный театр, с которым поэт близко познакомился в 1817-1820 гг., театр, где “Дидло венчался славой”. По свидетельствам современников, Дидло был первым в мире хореографом, не имевшим ни предшественников, ни последователей – “единственный, неповторимый Байрон балета”. Его сравнивали с Рафаэлем, Шекспиром, Моцартом. Именно Дидло осуществил реформу балета, являя собой и мастера танца, художника-хореографа, и организатора незабываемых театральных зрелищ, поражавших чудесами неистощимой изобретательности.
Фантазия, возвышенные замыслы, тяга к чудесам на сцене, к богатству образов и захватывающему драматизму – все это сближало стилистику балетов Дидло с миром романтической поэзии. Опираясь на античную мифологию, легенды и сказания, Дидло открывал зрителю мир волшебных превращений. Например, воспоминают современники, Венера появилась на воздушной колеснице, окруженной 50 живыми лебедями, по сцене летали крылатые гении и сильфы: Еще амуры, черти, змеи
На сцене скачут и шумят...
Спектакли “Зефир и Флора”, “Ацис и Галатея” и другие были истинно романтическими балетами. В них Пушкин находил “более поэзии, нежели во всей французской литературе”.
В примечаниях к I главе “Онегина”, осуждая своего героя за холодное отношение к Дидло, он скажет: “Балеты г. Дидло исполнены живости изображения и прелести необыкновенной”. В “Онегине” Пушкин с поразительной точностью и проницательностью воссоздаст эпизод балета с истинной его звездой – Истоминой:
Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит;
И вдруг прыжок, и вдруг летит...
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совьет, то разовьет
И быстрой ножкой ножку бьет.
Пушкин почувствовал особенность танца великой балерины, русской Терпсихоры, – его одухотворенность, “душой исполненный полет”.
Дидло не мог пройти мимо романтических поэм Пушкина. Им были поставлены балеты “Руслан и Людмила, или Низвержение Черномора” и “Кавказский пленник”. По свидетельству современника, “никогда еще поэт не перелагал поэта в новые формы так полно, близко, так красноречиво, как это сделал Дидло...” XVII в балете “Кавказский пленник”. Романтический стиль поэмы нашел органичное воплощение в стилистике балета, где со свойственной Дидло изобразительностью “местность, нравы, дикость и воинственность народа... игры, борьба, стрельба...” – все было органически объединено “колоритом грации и поэзии”. В этом балете блистала Истомина в роли Черкешенки, и этот романтический образ оставил поэтический след в душе поэта. Он писал из ссылки брату Льву в 1822 г.: “Пиши мне о Дидло, об Черкешенке Истоминой, за которой я когда-то волочился, подобно Кавказскому пленнику”.XVIII
Интересное наблюдение сделано Л. Гроссманом: стилистика феерических балетов Дидло получила своеобразное отражение в поэме “Руслан и Люмила”, которая создавалась в период балетных увлечений поэта.
Вся обстановка садов Черномора напоминает сказочные декорации, где необходимыми деталями были “зерцала вод”, “алмазные фонтаны”, водопады, мостики, беседки, “волшебства роскошь”:
Пред нею зыблются, шумят
Великолепные дубровы,
Аллеи пальм и лес лавровый,
И благовонных миртов ряд,
И кедров гордые вершины,
И золотые апельсины
Зерцалом вод отражены;
***
Летят алмазные фонтаны
С веселым шумом к облакам;
Под ними блещут истуканы
И, мнится, живы...
Дробясь о мраморны преграды,
Жемчужной, огненной дугой
Валятся, плещут водопады...
Сквозь вечну зелень здесь и там
Мелькают светлые беседки...
Все эти “амуры, черти, змеи” явились и в первой поэме Пушкина:
Безмолвно, гордо выступая,
Нагими саблями сверкая,
Арапов длинный ряд идет
Попарно, чинно, сколько возможно,
И на подушках осторожно
Седую бороду несет;
И входит с важностью за нею,
Подняв величественно шею,
Горбатый карлик из дверей:
Его-то голове обритой,
Высоким колпаком покрытой,
Принадлежала борода.
***
Как вдруг, откуда ни возьмись,
В окно влетает змий крылатый:
Гремя железной чешуей,
Он в кольца быстрые согнулся
И вдруг Наиной обернулся...
В поэме звучит ансамбль музыкальных инструментов – ...гласы трубны.
Рога, тимпаны, гусли, бубны.
Театральные впечатления нашли отражение во многих эпизодах поэмы. Так, в сцене битвы Руслана с головой, в момент, когда витязь поразил ее “дерзостный язык”, изображая смятение великана, Пушкин использует сравнение с актером, освистанным залом:
Так иногда средь нашей сцены
Плохой питомец Мельпомены,
Внезапным свистом оглушен,
Уж ничего не видит он,
Бледнеет, ролю забывает,
Дрожит, поникнув головой,
И заикаясь умолкает
Перед насмешливой толпой.
“Поэма-балет” (Л. Гроссман), в свою очередь, нашла театральное воплощение в феерической постановке Дидло “Руслан и Людмила, или Низвержение Черномора”.
Последние годы жизни Пушкин охладел к театру. Но воспоминания об этом “волшебном крае”, где “под сению кулис” неслись его “младые дни”, не померкли. 3 мая 1830 года Пушкин и Наталья Николаевна смотрели в зале Благородного собрания в Москве драму Коцебу “Ненависть к людям и раскаяние” с участием Семеновой. По свидетельству сына Семеновой Н.И. Стародубского, Пушкин подарил актрисе – в то время уже княгине – книгу
“Борис Годунов” с надписью: “Княгине Екатерине Семеновне Гагариной от Пушкина. Семеновой – от сочинителя”.XIX
Неизгладимые воспоминания оставило не только в душе, но и в творчестве Пушкина его путешествие с семьей Раевских в Крым. Сказочная, легендарная Таврида, ее история, архитектурные памятники нашли отзвуки в пушкинской поэзии. Именно в Крыму Пушкин встретился с развалинами античных сооружений, с древними христианскими храмами, оставившими след в его поэзии. Впоследствии, работая над “Евгением Онегиным”, Пушкин поведет своего героя тем же путем, и те же мысли об античной истории, античном искусстве возникнут у Онегина:
Он едет к берегам иным –
Он прибыл из Тамани в Крым –
Он зрит поэту край священный:
С Атридом спорил там Пилад,
Там умер гордый Митридат…
В наброске неоконченного стихотворения поэт назвал холм могилой царя: И зрит пловец – могила Митридата Озарена сиянием заката.
В письме брату Льву Пушкин описывает свои впечатления: “С полуострова Таманя, древнего Тмутараканского княжества, открылись мне берега Крыма. Морем приехали мы в Керчь. Здесь увижу я развалины Митридатова гроба, здесь увижу я следы Пантикапеи, думал я …” XX . Пушкин мог видеть в городе церковь Иоанна Предчети – один из древнейших памятников христианского Крыма. Архитектура церкви – византийская; она построена в форме креста; четыре колонны паросского мрамора поддерживают купол, восемь узких окон обеспечивают освещение храма. В 1820 году здесь хранился иконостас орехового дерева и иконы греко-византийского письма XI века.
В уже упомянутом письме брату Льву Пушкин отмечает, что из Керчи путники прибыли в Кефу. Одно лишь слово указывает на то, что поэта привлекла история Феодосии, в средние века – Кафы. Раевские и Пушкин остановились у Броневского, создателя Музеума – хранилища древних памятников Тавриды. В городе поэт мог видеть и древние христианские храмы, построенные в средние века (один греческий и три армянских), генуэзскую крепость, мусульманскую мечеть – огромную, с двумя куполами, крытыми свинцом, с мраморным полом и колоннами. Отзвуки прошлого слышались поэту и в Гурзуфе – он видел развалины старинной генуэзской крепости Горзувита, возвышавшейся над селением на высокой скале. Восточная башня в то время сохранилась полностью, западная являла собой руины. В стихах Пушкина эти образы нашли романтическое воплощение:
Когда луна сияет над заливом,
Пойду бродить на берегу морском
И созерцать в забвеньи горделивом
Развалины, поникшие челом…
И волны бьют вкруг валов обгорелых,
Вкруг ветхих стен и башен опустелых.
У восточного склона Аю-Дага Пушкин видел развалины византийской базилики, напоминавшие о греческом прошлом этого места – Партенита, а предания уводили еще далее в глубь веков: здесь, как говорили мифы, была когда-то столица амазонок, с горой и храмом связывали образ Девы – хранительницы Тавриды.
Все это отзывается в пушкинской поэзии духом античности, ее поэтическими образами: Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду, На утренней заре я видел Нереиду.
Сокрытый меж дерев, едва я смел дохнуть:
Над ясной влагою – полубогиня грудь
Младую, белую, как лебедь, воздымала
И пену из власов струею выжимала.
Размышляя о своеобразии лирики Пушкина, В.Г. Белинский обращается к мысли о красоте поэзии, ее эстетической сущности, подчеркивая, что как “прекрасна и любезна истина и добродетель, … красота так же прекрасна и любезна…”.XXI В подтверждение он обращается к поэзии Гомера: всю силу “неотразимого влияния его на душу и сердце человека” греки видели в том, что он “похитил пояс Афродиты”, богини любви и красоты. Первым русским поэтом, овладевшим поясом Киприды (в Гомеровском гимне богиня появляется из морской пены вблизи Кипра, отсюда ее имя Киприда), Белинский называет Пушкина. “Простота и обаяние… красоты” его стихотворений “выше всякого выражения: это музыка в стихах и скульптура в поэзии”.XXII Отличительные особенности пушкинской поэзии – “пластическая рельефность выражения, строгий классический рисунок мысли, полнота и оконченность целого, нежность и мягкость отделки”. XXIII Все это дает возможность Белинскому назвать Пушкина счастливым учеником мастеров древнего искусства. Пушкин, замечает критик, почти ничего не переводил из греческой антологии, но писал в ее духе артистически. Пушкин совершенно изменил характер шестистопного ямба – он “воспользовался им, словно дорогим паросским мрамором, для чудных изваяний, видимых слухом … Прислушайтесь к этим звукам, и вам покажется, что вы видите перед собой превосходную античную статую…".XXIV И Белинский обращается к одному из "крымских" произведений Пушкина – "Нереиде": в его поэзии – "акустическое богатство, мелодия и гармония русского стиха".
Античность напоминала о себе всюду: оливковая роща на берегу моря в Гурзуфе, церковь с дорическим портиком в Верхней Массандре, лежащая в руинах крепость Палекастро (у Магарача), развалины старинной греческой церкви в Ялте, остатки греческого укрепления или сторожевой башни в Алупке, древнего укрепления VIII-I веков до н.э. в Симеизе… Вместе с Раевскими Пушкин поднимался по высеченной в скалах древней лестнице Шайтан-Мердвень (Чертова лестница). Лестница пробита в массиве горы за несколько тысячелетий до новой эры, во времена возведения циклопических построек древних и создания пещерных городов. В известном "Отрывке…" Пушкин писал: "По горной лестнице взобрались мы пешком, держась за хвост татарских лошадей наших. Это забавляло меня чрезвычайно, и казалось каким-то таинственным восточным обрядом".XXV
Одно из самых ярких впечатлений, связанных с древними архитектурными сооружениями, – посещение Георгиевского монастыря близ Севастополя. Высеченные в скалах пещеры, где жили монахи, окружали маленькую церковь; к монастырю вела узкая лестница над морской бездной. Воспоминания об этом отразились в "Отрывке из письма к Д.": "Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление".XXVI
С античной мифологией связано было посещение развалин храма Дианы-Артемиды. Жрицей Артемиды стала Ифигения, дочь Агамемнона и Клитемнестры. Перенесенная Артемидой в Тавриду, она служила своей богине, по преданию, в том храме, "баснословные развалины" которого видел Пушкин. Здесь она должна была приносить в жертву всех попавших в эти края чужеземцев. От руки Ифигении чуть было не погиб ее брат Орест, прибывший в Тавриду по велению Аполлона вместе со своим другом Пиладом, чтобы вернуть в Грецию древний кумир Артемиды. Каждый из них готов был пожертвовать своей жизнью ради друга. Но Ифигения узнала Ореста и вместе с друзьями бежала в Грецию, где стала жрицей Артемиды в ее храме в аттическом поселении Бравроне. Геродот писал о существовании у скифов в Тавриде культа богини Девы – она являлась олицетворением Артемиды. Особенно почиталась Дева в Херсонесе (он расположен недалеко от мыса
Фиолент, где находился, по описаниям древних, храм Дианы-Артемиды). По сообщению Геродота, одно из имен Девы – Ифигения. Согласно Павсанию, Артемида иногда носила прозвище Ифигении.
В "Отрывке из письма к Д." Пушкин отмечает особую роль этого погружения в мир античности, который произошел в Крыму, что привело поэта к использованию античных образов, поэтических размеров, к возрождению самого духа античности: "Видно, мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических, по крайней мере тут посетили меня рифмы. Я думал стихами".XXVII
После появления в печати "Путешествия по Тавриде" И.М. Муравьева-Апостола (1823), который посетил Крым в том же 1820 году, что и Пушкин, книги, где было подвергнуто сомнению существование храма Артемиды, поэт пишет:
К чему холодные сомненья?
Я верю: здесь был грозный храм,
Где крови жаждущим богам
Дымились жертвоприношенья;
Здесь успокоена была
Вражда свирепой Эвмениды:
Здесь провозвестница Тавриды
На брата руку занесла;
На сих развалинах свершилось
Святое дружбы торжество,
И душ великих божество
Своим созданьем возгордилось.
Впоследствии Пушкин создаст антологические стихи, в которых использует размер древнегреческой поэзии – гекзаметр, среди них – "Труд", "Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила…", "На перевод Илиады", "Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы?…" и др.
Воспоминания о Крыме, таившие "прелесть неизъяснимую", о его природе, людях, памятниках старины прошли через всю жизнь поэта. Крымские впечатления явились той живительной влагой, которая напитала страницы пушкинских творений. "Фонтан любви, фонтан живой" – образ, рожденный в Бахчисарайском дворце, у "странного памятника влюбленного хана", – возникнет на страницах рукописи Пушкина даже в предсмертном, 1836 году:
Кто б ни был ты: пастух, Рыбак иль странник утомленный, Приди и пей.
Вторая половина 20-х–30-е годы – период активного обращения Пушкина к произведениям пластических и музыкального искусств, его встреч с крупнейшими художниками, скульпторами, композиторами: Брюлловым, Кипренским, Тропининым, Орловским, Глинкой и другими.
Глубоки и своеобразны мысли Пушкина, высказанные им о живописи и, в частности, о портрете. Ранее уже было сказано о соотнесении им художественных средств поэзии и живописи ("кисть, как перо…") и об утверждении права художника не на рабское копирование жизни, а на обобщение, известную условность, что и ведет к "истине страстей, правдоподобию чувствований". В этом плане знаменательны его обращения к жанру живописного портрета: в портрете раскрывается характер человека, в то же время в нем отображен какой-то момент из его жизни. И это соотношение интересно и значительно для Пушкина.
Известно, что поэт посещал Военную галерею Зимнего дворца, где были представлены портреты выдающихся русских полководцев, созданные известным английским художником Дж. Доу. Пушкина особенно привлекали там истинные “начальники народных наших сил”, герои 1812 года. Некоторые из них были ему знакомы. Знаменательно высказывание Пушкина о соотношении реального человека и его портрета. Так, посетив Ермолова, поэт сравнивает его с живописными портретами. С первого взгляда Пушкин не нашел никакого сходства: “Лицо круглое, огненные, серые глаза (как необычно это соединение двух эпитетов! – Д.Б.), седые волосы дыбом. Голова тигра на геркулесовом торсе”. Ермолов показался поэту неестественным, несколько театральным. Но! – “Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом”. XXVIII Художник, по мысли Пушкина, сумел выразить сущность Ермолова, которая лишь иногда проявлялась в реальной жизни.
К образам Барклая де Толли и Кутузова Пушкин обращается в стихотворении “Художнику”, давая им характеристику как “зачинателя” и “совершителя” и помещая в одном ряду с античными героями, что придает им значительность, силу и убежденность. В стихотворении “Полководец” Пушкин обращается к портрету Барклая де Толли кисти Доу. Его поражает глубина проникновения художника в драматизм судьбы “вождя несчастливого”, с его суровым жребием:
Он писан во весь рост. Чело, как череп голый,
Высоко лоснится, и, мнится, залегла
Там грусть великая. Кругом – густая мгла;
За ним – военный стан. Спокойный и угрюмый,
Он, кажется, глядит с презрительною думой.
Свою ли точно мысль художник обнажил,
Когда он таковым его изобразил,
Или невольное то было вдохновенье, –
Но Доу дал ему такое выраженье.
Мысль Пушкина как бы следует за мыслью художника, композицией его работы, перехода от одного плана к другому, что создает ощущение глубины пространства. Пластично и живописно пушкинское описание портрета, раскрывающее мироощущение полководца, так верно схваченное художником.
Соотношение реального человека и портрета, его судьбы и живописного образа... Отзвуки этих размышлений и в известном стихотворном отклике Пушкина на его портрет кисти Кипренского.
В конце мая 1820 года Пушкин после многолетней ссылки вернулся в Петербург, где Дельвиг заказал его портрет Кипренскому. Поэт позировал ему в мастерской на Фонтанке. О чем говорили они? Поэт-романтик и художник-романтик, их многое сближало, а главное – интерес и внимание к личности человека, его духовному миру. Кипренский создал живой одухотворенный облик поэта. “Довольны вы портретом? – спросил художник (друзей поэта). – Довольны. И так я исполнил уже ваше желание и изобразил гения”.XXIX Известна поэтическая реакция Пушкина: Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит...
Опять мы видим раздвоение человека и его портрета. Где истина? Где ложь? У искусства своя правда: художник – “волшебник милый”, проведя через свою фантазию факт действительности, возводит его, по словам В.Г. Белинского, “в перл создания” и создает художественный образ, “более верный самому себе, нежели самая рабская копия действительности верна своему оригиналу”.
Ю. Лотман обратил внимание на особенность пушкинского взгляда на произведения живописи и скульптуры: “... неподвижный объект, скульптуру, он как бы читал. И, читая, превращал в динамическую, в живущую”.XXX Это своеобразное восприятие пластических искусств нашло отображение в восторженной оценке Пушкиным картины К. Брюллова “Последний день Помпеи”.
Уже в 1827 году Пушкин видел на выставке Общества поощрения художников произведение Брюллова “Итальянское утро”. В 1834 году он посетил Академию художеств, где была выставлена картина великого Карла “Последний день Помпеи”, демонстрация которой была одним из крупнейших событий в художественной жизни России.
Пушкина поразила красота классических пропорций, логическая ясность поз, смысловая точность жестов – черты, восходящие к классической точке зрения, но в “Последнем дне Помпеи” воображение художника ввергает человека в водоворот истории, обрушивает на него катастрофические силы природы – и это было близко художественному миру поэта. В картине Брюллова мастерски создан героизированный, обобщенный человеческий образ, который оказывается в художественном отношении более убедительным, чем само описание катастрофы. Эта особенность точно подмечена Н.В. Гоголем: действующие лица картины Брюллова “прекрасны при всем ужасе своего положения”.
Интересно, что в период работы Брюллова над эскизами картины в сознании художника боролись две тенденции: одна подчеркивала ужас перед стихией, лавиной неслись люди по улице Помпеи, движение подчеркивалось диагональной композицией; другая была основана на равновесии замкнутых групп. Боролись романтическая и классическая концепции. В картине Брюллов соединил два начала: он наметил движение, но остановил его; подчеркнул композиционную диагональ, но уравновесил ее замкнутыми группами.
Пушкину была ближе романтическая концепция.
Взгляд Пушкина как бы скользит по полотну, начиная с верхнего правого угла, останавливаясь на нескольких основных пластических мотивах: Везувий зев открыл – дым хлынул клубом – пламя Широко развилось, как боевое знамя.
Земля волнуется – с шатнувшихся колонн
Кумиры падают! Народ, гонимый страхом,
Под каменным дождем бежит из града вон.
В неоконченной черновой рукописи сохранился и рисунок поэта, который запечатлело его быстрое перо: в нем Пушкин отметил те же моменты.
Движение подчеркнуто в поэтической речи глаголами: “Везувий зев открыл”, “дым хлынул”, “пламя развилось”, “земля волнуется”, “народ... бежит”.
Связывая творчество Брюллова с традициями живописи Возрождения, в частности, Рафаэля, Пушкин между тем видел и его новаторство – тот романтический дух, которым была отмечена русская историческая живопись 1820-1830-х гг. В одной из рецензий, анализируя стихотворения В. Теплякова “Фракийские элегии”, Пушкин, обращаясь к мысли о значении традиций, опирается на пример Брюллова: “Так Брюллов, усыпляя нарочно творческую силу, с пламенным и благородным подобострастием списывал Афинскую школу Рафаэля. А между тем в голове его шаталась поколебленная Помпея, кумиры падали.
Народ бежал по улице, чудно освещенной Волканом”.XXXI
В 1836 году в Москве Пушкин познакомился с Брюлловым. Письма поэта к жене, воспоминания современников свидетельствуют о взаимном интересе, духовной и творческой близости двух великих людей. Пушкин, восхищенный эскизом картины Брюллова “Взятие Рима Гензериком” (по его замечанию, стоящим “Последнего дня
Помпеи”), предлагал художнику сюжет из жизни Петра Великого, мечтал о том, что Брюллов напишет портрет Натальи Николаевны. Последняя встреча их состоялась уже в 1837 году, незадолго до гибели поэта. Художник Мокрицкий в своих воспоминаниях рассказал о посещении Пушкиным и Жуковским мастерской Брюллова, о восхищении его рисунками и акварелями. На Пушкина особое впечатление произвел рисунок “Съезд на бал к австрийскому посланнику в Смирне”. По свидетельству Мокрицкого, Пушкин умолял Брюллова подарить ему рисунок, даже стал на колени. Но рисунок уже был обещан княгине Салтыковой. “Не отдал Брюллов рисунка, а обещал нарисовать другой. Я, глядя на эту сценку, не думал, что Брюллов откажет Пушкину. Такие люди, казалось мне, не становятся даром на колени перед равными себе. Это было ровно за четыре дня до смерти Пушкина”.XXXII
Интерес Пушкина к пластическим искусствам не исчерпывался живописью. Скульптура, жизнь, заключенная в, казалось бы, мертвом, неподвижном камне, волновала поэта, начиная с лицейских времен, когда в Царскосельском парке юный поэт увидел античные статуи и работы скульпторов XIX века. Неподвижный мрамор оживал в его воображении. По остроумному замечанию Ю. Лотмана, шуточное стихотворение об Аполлоне Бельведерском – “как сценарный материал для кино”: Лук звенит, стрела трепещет… И клубясь издох Пифон. И твой лик победой блещет, Бельведерский Аполлон!
Глубоко раскрыл Пушкин идею скульптуры П. Соколова “Девушка с кувшином”, в создании которой автор использовал сюжет басни Лафонтена “Молочница, или Кувшин с молоком”. Поэт соединил прошлое и настоящее, как бы развернул событие во времени:
Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок.
“Девушка с кувшином” – это скульптурный фонтан, а тема фонтана, его живительной влаги – одна из значительных тем в творчестве Пушкина. Поэт связывает ее с темой вечности.
Девушка – молочница преобразилась в “деву”, кувшин с молоком – в “урну с водой”. Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой; Дева, над вечной струей, вечно печально сидит.
Стихотворение “Царскосельская статуя” создано в 1830 году в Болдино, оно открывает цикл из пяти небольших произведений, написанных одним и тем же размером – элегическим дистихом, состоящим из гекзаметра и пентаметра.
Жанр этих произведений возводит их к античной традиции, к древнейшему роду греческой поэзии – эпиграмме, первоначально предназначенной для надписи на статуе, жертвеннике и т.п. Подобные произведения являлись описанием картин или статуй. К этому жанру и размеру обращается Пушкин в стихотворениях, посвященных русским скульптурам, с которыми он познакомился в 1836 году на выставке работ учеников Академии художеств: “Играющий в свайку” А.В. Логановского и “Играющий в бабки” Н.С. Пименова. Статую Логановского Пушкин сравнил с “Дискоболом” Мирона, следуя традиции “антологической эпиграммы”, заканчивающейся обычно восхвалением достоинств произведения.
Юноша, полный красы, напряженья, усилия чуждый,
Строен, легок и могуч, – тешится быстрой игрой!
Вот и товарищ тебе, дискобол! Он достоин, клянуся,
Дружно обнявшись с тобой, после игры отдыхать.
В своих воспоминаниях Н.С. Пименов рассказал о том, как “в энергическом порыве и с навернувшимися на глазах слезами” Пушкин сказал, что на Руси явилась народная скульптура XXXIII. Здесь же, на выставке, поэт написал четверостишие, в котором статуя ожила:
Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено
Бодро оперся, другой поднял меткую кость.
Вот уж прицелился… прочь! раздайся, народ любопытный,
Врозь расступись; не мешай русской удалой игре.
На этой же выставке Пушкин беседовал с молодым Айвазовским, и образ поэта навсегда остался в памяти и вошел в творчество художника.
В духе античности пишет Пушкин стихотворение “Художнику”, посвященное посещению мастерской скульптора Б.И. Орловского, где поэт увидел работы на мифологические темы: “Парис”, “Сатир, играющий на сиринге”, “Сатир с цевницей”, “Сатир и вакханка”, “Тут Аполлон – идеал, там Ниобея – печаль…” Именно в этом стихотворении, также написанном элегическим дистихом, Пушкин обращается к скульптурам исполненного трагизма образа Барклая-де-Толли (“зачинатель Барклай”) и победителя Кутузова (“совершитель Кутузов”). Поражает простота, прозрачность, античная гармония всего образного строя произведения, краткость и поразительная емкость его образов. Тут же поэт определяет своеобразие творчества скульптора: “Гипсу ты мысли даешь, мрамор послушен тебе”, – характеристика, раскрывающая возможности искусства скульптора.
Данная статья не претендует на полноту изложения темы – она неисчерпаема. Нашей целью было стремление показать, как в творчестве А.С. Пушкина отразилась тенденция синтеза искусств, в частности, поэзии и пластических искусств, литературы и театра. Образный мир творчества Пушкина завораживает своей глубиной и силой художественного выражения. Приведенные нами примеры дают возможность раскрыть мысль о взаимном обогащении образных средств различных искусств. В то же время они помогают создать более полную картину развития художественной культуры I половины XIX века.
Примечания
I Полевой К.А. А.С. Пушкин // Живописное обозрение, 1837. – Ч. III. – С.80.
II Гончаров И.А. – Собр. соч.: В 8 т. – М., 1955. – Т.8. – С.77.
III См.: Пушкин об искусстве. – М., 1962. – С.13.
IV Там же. – С.10. V Томашевский Б.В. Пушкин. – М.-Л., 1956. – Кн. I. – С.44.
VI Лессинг Г.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. – М., 1951. – С.129.
VII Там же. – С.145.
VIII Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. – Л., 1977-79. – Т.7. – С.146.
IX А.С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2-х т. – М., 1985. – Т.2. – С.329. X Гроссман Л. Забытая книга. – М.1990. – С.377.
XI Пушкин А.С. Письма. – М.-Л., 1926-28. – Т.1. – С.196-197.
XII Пушкин А.С. Соч.: В 3 т. – М., 1987. – Т.3. – С.461.
XIII Там же.
XIV Пушкин А.С. Собр. соч. – Т.7. – С.27-28. XV Там же.
XVI Там же. – С.148.
XVII Гроссман Л. Забытая книга. – С.396.
XVIII Пушкин А.С. Полн. собр. соч. – Т.10. – С.45.
XIX Черейский Л.А. Пушкин и его окружение. – Л., 1975. – С.372. XX Пушкин А.С. Полн. собр. соч. – Т.10. – С.17.
XXI Белинский В.Г. Собр. соч.: В 3-х т. – М.,1948. – Т.3. – С.388.
XXII Там же. – С.389.
XXIII Там же.
XXIV Там же. – С.390. XXV Пушкин А.С. Полн. собр. соч. – Т.6. – С.431.
XXVI Там же.
XXVII Там же.
XXVIII Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 6 т. – Т.4. – С.560.
XXIX Черейский Л.А. Современники Пушкина. – Л., 1981. – С.231. XXX Версии. – М., 1989. – С.17.
XXXI Пушкин об искусстве. – М., 1962. – С.168.
XXXII А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. – Т.2. – С.331.
XXXIII Черейский Л.А. Современники Пушкина. – С.230.