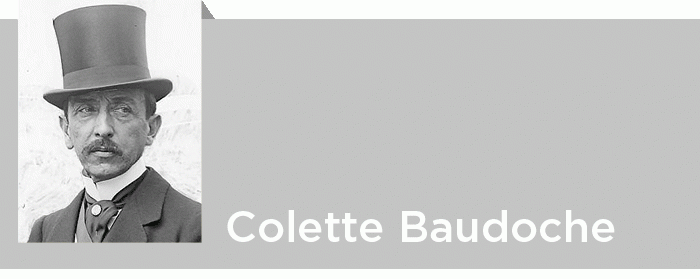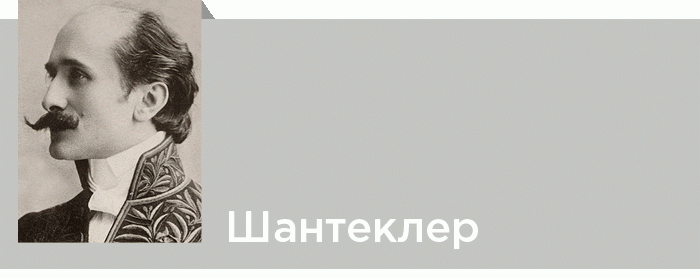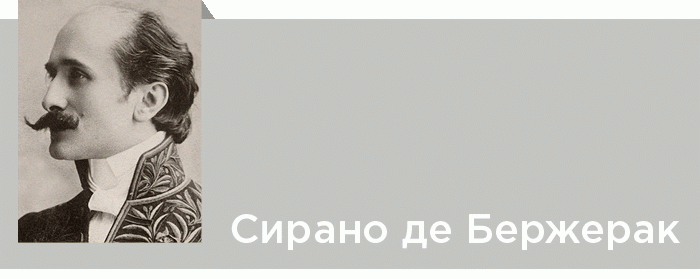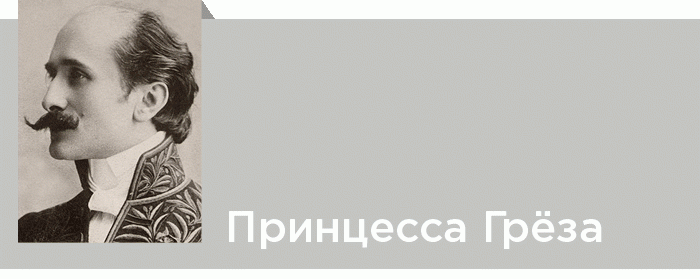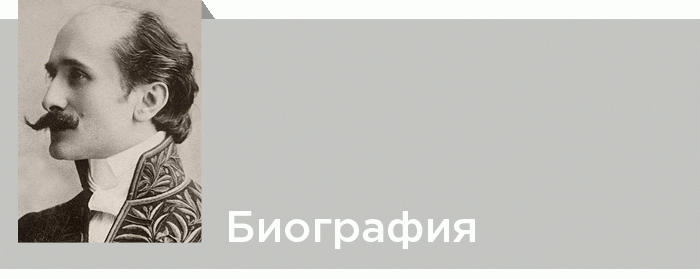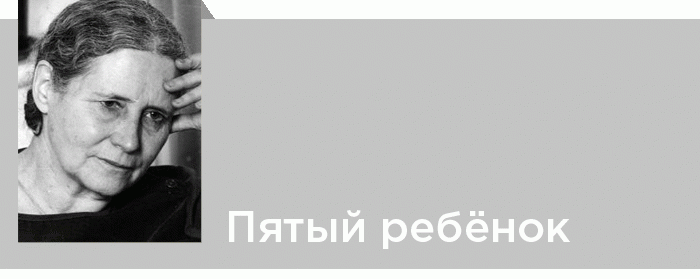Горький и Ростан
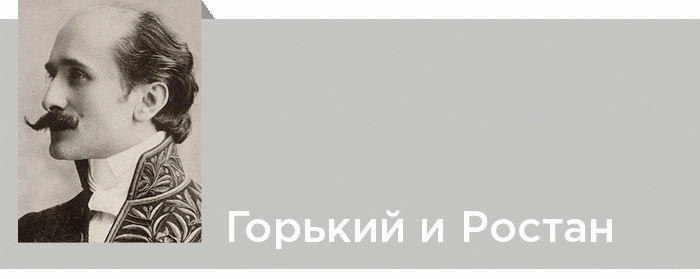
Александр Гидони
Аналогии и совпадения всегда немного символичны. Символика же таит в себе определенную закономерность. Неплохо, если она лежит на поверхности явлений, еще лучше — если ее приходится угадывать. Тогда ощущаешь радость открытия и предчувствия, ©ступаешь в мир творческой интуиции.
В соединении имен Горького и Ростана есть своя, хорошая символика. Оба они родились в один год. Трудно представить себе сразу, что имеется многое — и помимо этого совпадения — духовно роднящее между собой пролетарского писателя Максима Горького и утонченного романтика Эдмона Ростана, но это именно так.
Т. Л. Щепкина-Куперник, известная переводчица стихов и пьес Ростана на русский язык, хорошо знавшая о бурном, увлечении Горького ростановым творчеством, писала в своих воспоминаниях, рисуя сцену знакомства с Алексеем Максимовичем:
«Я... глядела на него и невольно вспоминала того Ростана, о котором он с таким восхищением говорил. Я спрашивала себя: а понял ли бы Горького и оценил ли бы его так же высоко Ростан? Какие полярные противоположности! Изнеженный, женственный Ростан, похожий на силуэт с рисунков Гаварии, и этот молодой богатырь в своей рабочей блузе... Там — в начале карьеры — розы... изящный особняк, академия. Здесь — волжские грузчики, жизнь впроголодь, скитания... Там — поклонение Парижа, приемы, премьеры... Здесь — тюрьма, высылка, нелегальные приезды в Москву или Петербург...
Думала я о разнице судеб этих писателей — и тогда еще не могла предвидеть, какие итоги дадут эти две жизни».
Итак, две противоположности, две крайности. Если иметь в виду только внешний момент, нельзя не согласиться с Щепкиной-Куперник. А если «копнуть» чуть глубже? Тогда... О, тогда остается лишь дивиться тому, насколько облегченно-легкомысленно судила о Ростане его переводчица, которую сам поэт называл «Маленькой Таней и большой поэтессой».
Красивое, изящное эссе, набросанное Щепкиной-Куперник в ее воспоминаниях, касающихся Ростана, может доставить истинное наслаждение читателю своей элегантной смесью, но это же эссе способно возмутить душу исследователя, желающего судить о людях и творчестве хотя бы чуточку глубже уровня эстетского описательства.
Недаром Щепкина-Куперник останавливается перед загадкой, которая ей кажется неразрешимой: как мог суровый, строго-мужественный Горький провидеть в романтичном французе родственную душу? Заметим, кстати, что это «родство душ» Горький подчеркивал неоднократно и довольно решительно.
Чтобы понять это, следует прибегнуть к свидетельствам не из «вторых рук», а вспомнить, что говорил и писал о Ростане сам Горький.
С творчеством французского поэта он познакомился в середине девяностых годов XIX века, когда имя Ростана уже приобретало всеевропейскую известность, а Горький находился в той стадии творческого мужания, когда широта интересов писателя являлась своего рода интеллектуальной зарядкой, совершенно необходимой для дальнейшего роста. Журналистская деятельность, которой занимался тогда Алексей Максимович, лишний раз стимулировала его желание соприкоснуться с проблемами искусства и жизни во всем их многообразии.
Горький писал о декадентах и «синематографе», о мещанстве и поэзии, о живописи и драматургии. Ростан не мог не попасть в поле зрения молодого публициста. Впрочем, это могло бы и не случиться так быстро, не будь Горький обостренно чутким художником по натуре, не воспринимай он с такой болью и горечью серость и духовное оскудение тогдашней русской жизни, красочным контрастом относительно которой казался ему героический идеализм ростановского творчества.
Тяга Горького к тонкому, красиво звучащему стиху Ростана — это не только естественное в каждом человеке искусство, влечение к прекрасному. Это одновременно и позиция идейного характера, платформа воинственной героичности, утверждающая себя вопреки пошлой и мерзкой бытовщине буржуазной морали.
Художественная тенденциозность Горького была с первых его шагов в литературе тенденциозностью демократа. И мало того, при всей обостренности его эстетической интуиции, достаточной сложности ее, он оставался натурой цельной и здоровой, глубоко чуждой декадентской ущербности. Ростан воспринимался Горьким в этом же плане. Попытки другой интерпретации ростановской позиции вызывали у него решительный протест.
Выражением такого протеста было выступление Алексея Максимовича в газете «Нижегородский листок» 24 июля 1896 года, когда в заметке «М. Врубель и «Принцесса Греза» Ростана» он резко обрушился на Врубеля за его картину, созданную по мотивам ростановского сюжета, и восторженно оценил пьесу французского драматурга. Горький подчеркивал, что пьеса написана «просто и сильно, красивым языком и с хорошим знанием эпохи... В ней много интересных лиц, красивых деталей...»
Но главное для Горького было не в этом. Писатель считал, что «в наше скучное, нищее духом время она является призывом к возрождению, симптомом новых запросов духа... Эта пьеса — иллюстрация силы идеи и картина стремления к идеалу. Именно этим объясняется ее большой успех у нас и не особенно крупный в буржуазной и меркантильной Франции».
Действительно, петербургская премьера «Принцессы Грезы» сопровождалась подлинным триумфом. Дело доходило до смешного: в короткий срок, как вспоминает Щепкина-Куперник, «появились вальсы «Принцесса Греза», духи «Принцесса Греза», шоколад «Принцесса Греза», почтовая бумага с цитатами из «Принцессы Грезы».
Разумеется, Горький хвалил пьесу Ростана не из желания потворствовать вкусу широкой публики, напротив, он стремился во многом выправить, облагородить и возвысить этот вкус, указав на ее «второе дыхание». Пьеса «Принцесса Греза» русской публикой воспринималась в основном с ее внешней стороны, Горький же акцентировал внимание на том, что пьеса проникнута «глубокой мыслью». Что касается оценки Врубеля, то она была довольно спорной, однако, имея в виду желание молодого публициста полемически заострить свои выступления против роста влияния декадентства, эту оценку можно в определенном смысле понять и принять.
В девяностые годы Горький интересовался Ростаном в той степени, в какой обязывало его к этому положение журналиста, пишущего о новых явлениях в искусстве; наконец, просто чутье культурного человека. Однако говорить об особой тяге Горького к Ростану можно лишь с момента, когда он познакомился с героической комедией «Сирано де Бержерак», которая одна могла бы обессмертить и действительно обессмертила ее автора.
Пьеса Ростана «Сирано де Бержерак», блистательно переведенная на русский язык Щепкиной-Куперник, дала Горькому повод для статьи, напечатанной в «Нижегородском листке» 5 января 1900 года. В публицистическом наследии писателя эта статья занимает особое место. Она интересна и... как бы парадоксально ни казалось данное утверждение! — неинтересна именно как статья. Дело в том, что Горький, переживая в этот период кульминацию своего увлечения Ростаном (явление, кстати, в русской литературе не единичное — вспомним хотя бы подлинный «культ Ростана» у Марины Цветаевой), был настолько захвачен пьесой, что по существу просто пересказал в статье, с отдельными восторженными комментариями, ростановскую вещь. Даже в количественном отношении цитаты из «Сирано де Бержерака» занимают в ней больше места, нежели рассуждения по поводу их. Анализ произведения заменен пропагандированием его и настоящим панегириком в честь Ростана и его героя.
Конечно, Горький нисколько не умалил этим своих достоинств публициста и критика, просто пьеса Ростана оказалась удачным поводом для того, чтобы выразить в статье о ней основные умонастроения, во власти которых он находился тогда со своими романтическими поисками в литературе и стремлением утвердить героическое начало в жизни. Главное для публициста заключалось в том, чтобы дать читателю статьи почувствовать накал эмоций, буйство красок и яркость мыслей, сопережитых им, Горьким, вместе с Ростаном, чья пьеса, — говорит он в конце статьи, — «возбуждает кровь, как шампанское вино... вся искрится жизнью, как вино, и опьяняет жаждой жизни».
В статье о «Сирано де Бержераке» Алексей Максимович варьировал свои суждения относительно «мерзостей русской жизни», о которых ему приходилось писать еще ранее и которые особенно рельефно были освещены «солнцем в крови» ростановского героя, восхищавшего Горького своей красивой невероятностью.
«Знать себе цену в ...эпоху придворного раболепства, — писал Горький о Сирано, — крупное достоинство для человека. Знать себе цену всегда хорошо бы для каждого из нас, уметь постоять за себя — необходимо нам, отчаянно необходимо во дни холопства, растления духовного, теперь, когда достоинство человека ценится, право же, не выше, чем ценилось оно тогда, во времена де Бержерака и Мольера...»
И далее, процитировав строки из знаменитой песенки гасконцев, Горький восклицал:
«Это, знаете ли, страшно хорошо — быть рожденным с солнцем в крови! Если б нам, людям, кровь которых испорчена пессимистической мутью, отвратительными, отравляющими душу испарениями того болота, где мы киснем, — если б в нашу кровь хоть искру солнца!»
Любопытно, что в том же январе 1900 года, весь еще находясь под обаянием ростановской пьесы, Горький писал А. П. Чехову:
«...Видели вы «Сирано де Бержерак» на сцене? Я недавно видел и пришел в восторг...
Дорогу свободным гасконцам!
Мы южного неба сыны,
Мы все под полуденным солнцем
И с солнцем в крови рождены!
Мне страшно нравится это «солнце в крови». Вот как надо жить — как Сирано. И не надо — как дядя Ваня и все другие, иже с ним».
Как видим, Горький был совершенно покорен «солнечным» героем. Правда, курьезом является следующая деталь, ставшая почти хрестоматийным примером в тех случаях, когда говорят о теории и практике стихотворного перевода. Дело в том, что выражения «солнце в крови» у Ростана нет. Оно оказалось находкой переводчицы Щепкиной-Куперник, давшей блестящий эквивалент тексту этих строк французского автора. Сама Щепкина-Куперник говорит в мемуарах, что она, выслушав восторженные похвалы Горького в адрес Ростана по поводу пьесы вообще и «солнца в крови» в частности, не стала разуверять его. И правильно сделала. Ибо фраза-девиз глубоко и верно передает суть образа Сирано, и в этом смысле она точнее любого адэкватнейшего перевода. Ростан не сказал такой фразы буквально, однако он подготовил ее всем контекстом, духом и строем своего произведения.
Перевод «Сирано де Бержерака» не просто удача, это — подлинный литературный подвиг, и Горький вполне резонно считал, что для русского читателя «Сирано», преподнесенный Татьяной Львовной Щепкиной-Куперник, может быть, в чем-то лучше оригинала.
Любовь к творчеству Ростана была для Алексея Максимовича не скоропреходящим и молодым увлечением; французский поэт помог ему в предельно красивой форме увидеть художественное воплощение тех романтических мотивов, которые волновали Горького многие годы. Недаром же «солнечное начало» так ярко и буйно пронизывало сюжетный строй, лексику, интонационную настроенность многих его произведений. Конечно, были критики, которые не замечали этого, заявляя, что «солнца в рассказах Горького не больше, чем в алгебраической формуле», но подобные сентенции лежат целиком на совести их авторов, тем более, что сами они потом старались о них не вспоминать.
Драматургия Эдмона Ростана не могла не привлечь симпатии русского писателя. Пьесы Ростана позволили Алексею Максимовичу еще более подчеркнуть и для себя, и для читателей тот элемент красивой романтики, который в равной степени, хотя во многом и очень по-разному, был дорог как Ростану, так и Горькому.
Со временем творчество Ростана перестало увлекать Горького. Для него Ростан остался автором прежде всего «Сирано де Бержерака» и «Принцессы Грезы». В памфлете «Прекрасная Франция» он упоминается в ряду крупнейших и тонких французских лириков, причем иронический характер контекста в данном случае к нему никакого отношения не имеет. Правда, в черновом варианте статьи «Разрушение личности» (1908) высказывание Горького о Ростане нельзя назвать лестным говоря о снижении уровня и масштабности творчества в западноевропейской литературе, Горький замечает: «это обидно... как Ростан после Гюго», во-первых, в статье «Разрушение личности» и вообще имеется много не вполне аргументированных полемических выпадов — в когорту «заниженных» писателей здесь попадает даже Флобер, которого впоследствии (в 20-е годы) Горький назвал своим «идеалом», — и, во-вторых, данный вариант статьи так и остался только вариантом.
И все-таки охлаждение Горького к Ростану постепенно становится очевидным фактом. Не случайно в одном из писем Ромену Роллану Горький, критикуя Бальмонта, сказал, что тот «опустился» до Ростана в своем творчестве. Как совместить эту реплику с прежними оценками и возможно ли их совместить вообще? Или, может быть, любовь к Ростану была случайным увлечением молодого Горького, а тогда недоумение Щепкиной-Куперник насчет восторженности писателя в этом плане становится оправданным?
Чтобы ответить на такой вопрос, следует задать другой, не менее важный. Претерпела ли изменение позиция Горького в отношении романтизма, поздним представителем которого был Ростан, и если да, то в чем заключалась специфика этого изменения?
Сложность и значительность творческой эволюции Горького общеизвестна. Одним из проявлений этой эволюции было его мужание как писателя на путях сначала критического, а затем и социалистического реализма. Однако процесс эволюции — это именно процесс и, как таковой, он диалектически сложен, противоречив, порою даже причудливо контрастен в своих частных проявлениях.
Творческая индивидуальность Горького обрела свою, индивидуальную контрастность на стыке романтического и реального начал, на столкновения «натуры» с идеалом, в сфере того, что сам он именовал «логикой гипотезы». Поэтому идейно-творческое развитие Горького никак не может быть выражено однозначной формулой, какой бы всеобъемлющей она казалась. Сказать о «позднем» Горьком, что он, как реалист, полностью «ушел» от Горького-романтика, значит, оказать ту полуправду, которая бывает хуже очевидной подтасовки, ибо она придает произвольной схеме некое подобие и даже «очарование» истины (такой удобненькой, комнатной истинки) — ведь в конце концов половинка правды в ней все же содержится, а это тоже бывает не так уж мало!
Да, «поздний» Горький не напишет: «Море смеялось», он даже сам поиронизирует на тему того, как он писал в прошлом, но его ирония будет при этом доброй усмешкой умудренного опытом человека, а не саркастического скептика, ибо в его творчестве реализм не просто «упразднил» романтическую тенденцию, а вобрал ее в себя как один из художественных компонентов.
Конечно, внутренний смысл понятия «романтизм» для писателя с годами изменился. На смену внешним приметам стиля приходит философски-лирическая концепция гуманистического и революционного идеала жизни; вместо абстрагированного Человека легенды или песни появляется вполне конкретный, земной человек. Земной, но не заземленный вполне! И «солнце в крови» у этого человека имеется — иначе бы он не был положительным героем для Горького.
[…]
Говоря об отношении Горького к Ростану, мы должны рассматривать различные его оценки творчества французского поэта на фоне общего восприятия Горьким проблем романтизма в искусстве и духовной жизни общества. Важно также учитывать, что процесс взаимодействия русской и французской литератур имеет длительную и весьма интересную историю. Проявления этого процесса многообразны, и одним из них оказался момент приобщенности Горького к источнику красивой поэзии и драматургии Эдмона Ростана. В мощной гамме горьковского творчества, в гигантском комплексе его литературного наследия этот момент звучит негромкой, приглушенной нотой, но и она позволяет нам расширить наше представление, в чем-то освежить и утончить его, говоря о том великом явлении в истории мировой культуры, имя которому — Максим Горький.
Л-ра: Север. – 1968. – № 2. – С. 104-107.
Произведения
Критика