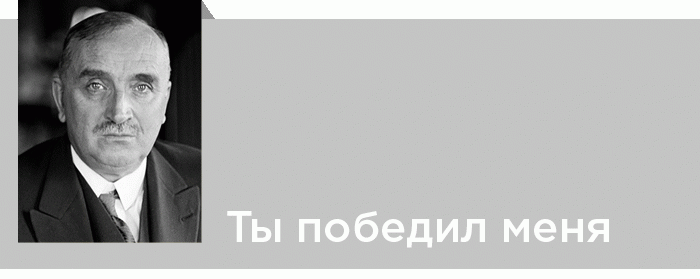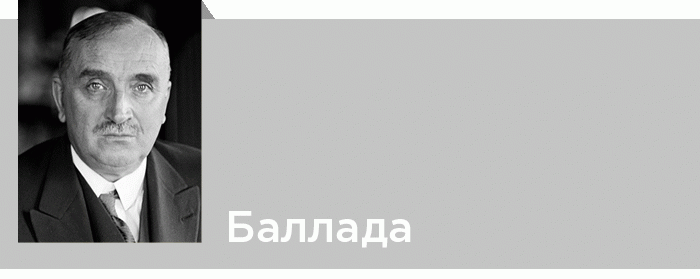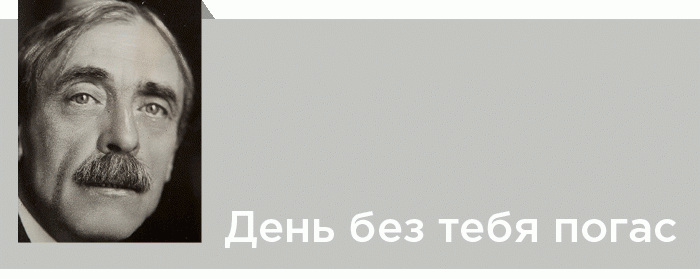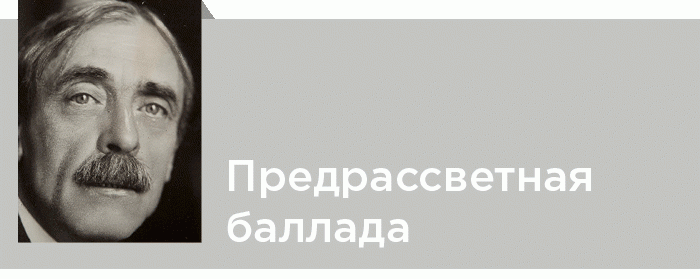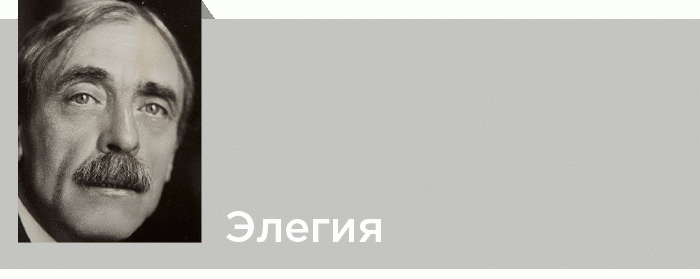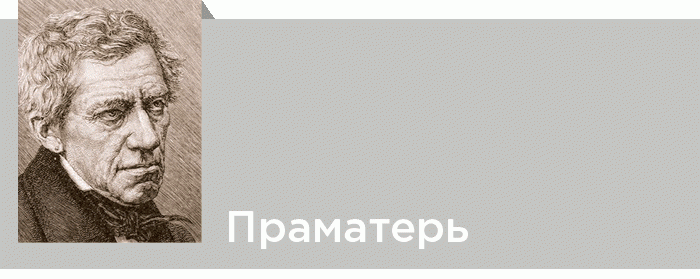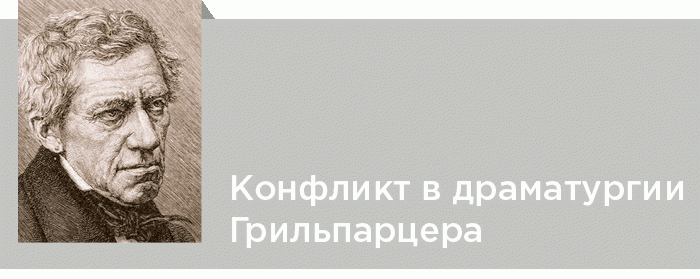О теории интеллектуальной поэзии (Эстетическая концепция Поля Валери)
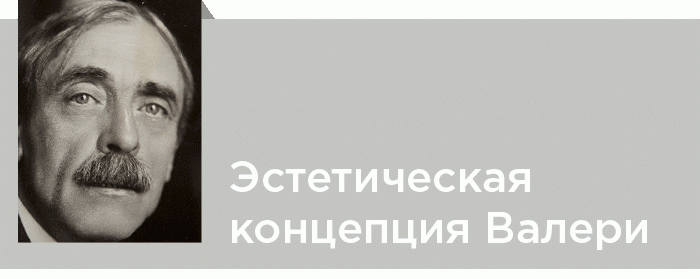
Б. Н. Тарасов
Было почти двадцатилетнее «молчание» поэта, явившееся результатом своеобразного творческого кризиса. И лишь в 1917 году, опубликовав поэму «Юная Парка», Валери вновь обращается к поэтическому творчеству, напечатав последовательно поэму «Морское кладбище», сборник стихов и поэм «Очарования» и др.
Какова же причина столь длительного «молчания»? Вот как сам Валери описывает этот кризис: «Мне казалось недостойным раздваиваться между моим страстным устремлением познать самого себя таковым, каков я есть на самом деле, без упущений, притворства, снисходительности, и необходимостью оказывать действие на других. Я отбросил не только литературу, но и почти всю философию как вещи нечистые и неопределенные, которым я противился всем своим сердцем».
Между литературным творчеством и стремлением к самопознанию образовалась трещина. Своеобразие этого конфликта основывается на более общих взглядах Валери на природу и деятельность человеческого сознания. В годы написания своих первых работ «Введение в метод Леонардо да Винчи» и «Господин Тэст» он поставил перед собой вопрос, который на протяжении всей его жизни так или иначе стимулировал исследовательскую работу: «На что способен человек, каков предел его возможностей?». Нетрудно заметить, что Валери заостряет интеллектуальный ригоризм Декарта, которого он называет «Ришелье Интеллекта». Своеобразно ориентируясь на Данте и Бальзака, Валери считал, что наступило время для написания «Интеллектуальной комедии», в которой отразились бы метаморфозы и приключения человеческой мысли и в которой Декарт должен играть одну из первых ролей. Декарт для своего соотечественника XX века является мыслителем, чья заслуга состояла в стремлении описать условия и последствия освобождения Я от понятий и идей, внушенных традицией, образованием, воспитанием, иначе говоря, от «Неопределенных и Нечистых Вещей», вызывающих внутреннее сопротивление Валери. «Освобожденное» Я стремится к логически непротиворечивому самопознанию. Ключом к картезианской философии Валери считал строгость и точность в описании интеллектуальных процессов, определяющих все познание в целом. В «Правилах для руководства ума» Декарта мы читаем: «Если кто-нибудь задается целью исследовать все истины, познание которых доступно человеческому разуму, то он, вероятно, поймет благодаря данным мною правилам, что ничто не может быть познано прежде самого интеллекта, ибо познание всех прочих вещей зависит от интеллекта, а не наоборот. Прежде чем приступить к исследованию каждой вещи в отдельности, необходимо хоть один раз в жизни тщательно исследовать, каких знаний способен достичь человеческий разум». Здесь в общем виде выражена та программа, следовать которой Валери будет на протяжении всего своего творческого пути.
В статье «Кризис разума» Валери замечает: «Все вещи в мире меня интересуют только в их отношении к интеллекту; все в отношении к интеллекту. Бэкон мог бы сказать, что этот интеллект является идолом. Я согласен с этим, но лучшего я не нашел». Для выполнения этой задачи Валери считает необходимым разделаться со всякими «метафизическими» представлениями традиционной философии на природу сознания и сосредоточиться на его наблюдаемых и проверяемых элементах. Истинно то, что проверяемо, — этот позитивистский тезис и связанный с ним взгляд на традиционную философию роднит Валери с логическим позитивизмом (под традиционной философией или метафизикой Валери понимает в полном соответствии с постулатами неопозитивизма любые философские утверждения, не поддающиеся эмпирической проверке строго научного типа). Он считает, что большинство философских проблем носит чисто словесный характер и что «настоящая» философия должна освобождаться от всяких «идолов» в сфере языка и мышления и сосредоточиться главным образом на нескольких проблемах, постановка которых носила бы научно-позитивный характер. Одной из таких проблем и является, по мысли Валери, проблема деятельности человеческого сознания.
При анализе сознания он стремится зафиксировать в нем наиболее общее, универсальное и отбросить все частное, случайное. Сознание делится на имманентно-формальную и содержательно-предметную стороны. Именно первая привлекает внимание Валери своим абстрактным характером и способностью укладываться в строгие правила и законы. Содержательно-предметная сторона сознания подвижна и изменчива. Содержание мыслей, предметов, входящих в сферу сознания, непостоянно и текуче. Оно в некоторой степени не подвластно человеку и навязывается извне так же, как, например, язык и связанные с его употреблением псевдопроблемы. Формальные и абстрактные элементы сознания, противоборствуя текучести содержания и являясь в какой-то степени его генератором, поддаются учету, классификации и управлению. В одном из своих самых известных и специфических исследований, в эссе «Заметка и отступление» Валери пишет: «Характерный признак человека — сознание. Сознанию же свойственно постоянное отрешение от всего, что в нем появляется. Это неисчерпаемый и независимый от качества и количества представленных в сознании вещей акт, в результате которого человек разума должен в конце концов искусно редуцироваться до бесконечного отказа быть кем бы то ни было». Во «Фрагменте о Декарте» Валери более интересуют абстрактные процессы сознания, нежели вещи, которые вырисовываются в нем, его внимание привлекает «бесплодная» работа самого сознания. В Декарте его восхищает именно сознательное и точное определение условий возникновения и развития мысли. Валери стремится в исследовательских целях освободить область сознания от направленности на внешнее бытие и все усилие сосредоточить на формальной работе сознания, на функциональном протекании его операций. В одном из своих эссе он приводит следующий пример: человек стоит на площади и видит голубей. Это один, первичный аспект сознания. Кроме этого, человек может наблюдать за своим наблюдением, видеть себя видящим, сознавать себя сознающим, то есть, грубо говоря, определять работу рамки, в которую может входить какое угодно содержание. Это формальное бодрствование, чистая интеллектуальная потенция представляют для Валери наивысший интерес. Сознание второй ступени (наблюдать себя наблюдающим) ила «сознание сознания» является высшим и предельным для человека. Для такого «сознания в квадрате» становятся предметом рассмотрения, отчуждаются и отбрасываются элементы собственной личности наблюдающего. «Наша личность всего лишь изменчивая и случайная вещь по сравнению с наиболее обнаженным «Я» (личность складывается из воспоминаний, привычек, склонностей, реакций. Все это может расцениваться как случайное по отношению к простому и чистому сознанию, единственным свойством которого является само его существование. Такое сознание, напротив, исключительно имперсонально). Не является ли основным подтекстом деятельности наиболее сильного ума освобождение этого субстанционального ожидания («чистого сознания». — Б. Т) от случайности повседневных истин? Не следует ли ему определять себя, отвлекаясь от чего бы то ни было, как чистое, неизменное отношение между различными объектами, что придает ему почти непостижимую всеобщность? И не свою дорогую личность возвеличивает он при этом, так как отстраняется от нее в анализе. На месте субъекта появляется бескачественное Я, у которого нет имени и истории и которое не более ощутимо и не менее реально, чем центр кольца или планетной системы. Я — универсальное местоимение, не имеющее никакого отношения к лицу». Личность — «нечистое» в человеке, опять-таки нечто навязанное извне, сформировавшееся в силу случайного столкновения многочисленных жизненных обстоятельств. «Чистое Я» есть как раз та сфера, где погашается запятнанность личностного существования. Именно в беспримесности чистого интеллектуального усилия человек становится истинным хозяином самого себя (само собой разумеется, что такое состояние сознания практически не может быть реализовано: в сознании беспрестанно мелькают предстающие в нем объекты. «Чистое сознание» понимается Валери как идеальный постулат, мыслимый предел, связываемый с категорией Возможного, о которой речь пойдет ниже). Понимая сознание, разум как определенную преобразовательную способность, Валери рассматривает «чистое Я» как постоянную величину возможных мыслительных преобразований. «Чистое Я» — это рабочий центр сознания, который определяет его изменения. Это абстрактная кристаллическая решетка чистой интеллектуальной энергия, которая преформирует любое конкретное содержание сознания. Для выражения данного абстрактного слоя человеческого сознания необходим соответствующий язык, который обладал бы точностью, строгостью и однозначностью в отличие от повседневного языка, с одной стороны, и языка «метафизики» — с другой. Валери часто прибегает к моделям математики и особенно к понятиям термодинамики, перенося их на многие аспекты человеческой психики. И это вполне естественно. Такие понятия термодинамики, как энтропия, равновесие, обратимость, закрытый цикл соответствуют абстрактному слою сознания и не дают представления о его содержательной стороне. Для Валери важно формальное движение мысли (сознание находится в покое, появляется мысль, исчезает, наступает покой, равновесие, после чего движение от нуля к нулю возобновляется вновь и так до бесконечности). Пришедшая мысль менее интересна, чем сама возможность появления любой мысли, скрытая система этой возможности. «Чистое Я» рассматривается как вечно присутствующая идеальная возможность, которую нельзя «пощупать», как нельзя пощупать центр кольца или круга.
Заметим, что категория Возможного является одной из самых существенных для понимания тех вопросов и проблем, которые входят в поле внимания Валери. По его мысли, любая конкретность, будь то произведение искусства или историческое лицо, случайна, ее могло и не быть в силу сцепления бесконечного множества причин. Не случайна, а потому и более истинна сама возможность появления того или иного явления, которая могла и не реализоваться, не воплотиться. Любое существование в известном смысле фальшиво, так как на пути к воплощению очень много препятствий, искажающих «чистоту» возможности и первоначального намерения. Поэтому принципиально важна система возможностей в «чистом» виде. Обладание этой системой сродни обладанию «чистой» энергией интеллекта. Внимание Валери привлекают замкнутые в себе возможности того или иного рода деятельности. Структура рассуждений, приводящая к концепции «чистого Я», применяется и при анализе конкретных проблем, с которыми ему приходится сталкиваться. Система координат и метод, следуя которому выстраивается система, — вот то главное, что интересует его в каждой конкретной вещи. Не реконструкция исторического явления в его специфичности и неповторимости занимает Валери, а «конструирование, предполагающее априорные условия какого-то существования, которое могло быть совсем другим». Показательным в этом плане является его анализ творчества Леонардо да Винчи: «Возможное является наиболее истинным в индивиде, это та сфера, где он полностью становится самим собой. История выявляет возможное неопределенно и неотчетливо. Моя попытка, следовательно, состояла в том, чтобы понять и описать по-своему Возможное того типа, к которому принадлежал Леонардо, а не Леонардо истории.
На основе вышеописанных положений Валери вырабатывает своеобразную аксиологию и этику интеллекта. Этика эта заключается в познании и развитии всех интеллектуальных возможностей индивида. «Человека в человеке», по его мнению, отличает именно интеллектуально-волевое усилие, практически никак не ориентированное, замкнутое в своей собственной сфере. Наиболее сильный ум способен как раз отмежеваться от предметно-событийных, содержательных элементов сознания и сосредоточиться на наблюдении механизма его функционирования, на овладении его конструктивными способностями. Здесь мы сталкиваемся с идеей особой игры, которая была близка Валери. «Я люблю идею спорта. Интеллектуальный спорт заключается в развитии и контроле наших внутренних действий, в продуманном воспитании наших рефлексий. Как виртуозный пианист или скрипач специально увеличивает, изучая самого себя, сознательную власть над своими импульсами и тем самым приобретает свободу высшего порядка, так же и в сфере интеллекта необходимо приобрести искусство мыслить, выработать нечто вроде управляемой психологии». Идея человеческого совершенства связывалась у Валери с интеллектуальной «дрессировкой самого себя».
Взгляды поэта были более или менее устойчивыми на протяжении всей его жизни и формировали его отношение ко многим аспектам человеческой деятельности, в том числе и к литературному творчеству. Литература, поэзия всегда требуют читателя, Другого, а это заставляет писателя, поэта, как полагает Валери, поступаться независимостью, чистотой, универсальностью интеллекта. В статье «Политика разума» он замечает, что слишком серьезно относится к «делам» своего разума, чтобы не заботиться о его спасении, как некоторые заботятся о спасении своей души. Литература в качестве строительного материала использует обычный язык. Язык же по самой своей природе включает я себя Другого. Он многолик, подвижен и изменчив. Вот этот-то протеизм языка, его ориентированность на Другого и составляет негативную сторону литературы. Материал как бы навязывается извне и помимо воли автора корректирует его замысел. Получающиеся в результате органическая двусмысленность и случайность и определяют литературный эффект, чисто словесные ошибки и недоразумения поддерживают жизнь литературы. Конечно же, для того, кто решил стать полновластным хозяином своей собственной мысли, любая зависимость от внеположенных ему обстоятельств является искажающей поправкой. Литература есть тот род деятельности, которую «человек разума» должен «демистифицировать» и отсечь от себя. «Самосознание ради него самого и стремление отчетливо обрисовать свое существование никогда не покидали меня. Эта скрытая болезнь отдаляет от литературы, от которой она, однако, берет начало».
Причины, вызвавшие «философское сомнение» и заставившие сосредоточиться на анализе собственного сознания, обусловили и «литературное сомнение» Валери. Он отвергает почти все литературные жанры, особенно роман. Роман соткан из событий, столкновений разных личностей и вбирает в свою зону множество планов и «голосов». Другой, Другое в различных вариантах являются его составными чертами. Роман требует наличия Другого во всей полноте его жизненных отношений, Другого как равноправного соучастника, как равноправную точку зрения. Персонажи, конфликты романа, полагает Валери, случайны, подвижны, изменчивы и взаимозаменимы, как черты какой-нибудь реальной личности, которая является «вещью подвижной и случайной». Лишь только универсальное Я хранит чистоту всеопределяющей неизменности. События обладают известной долей неистинности и недостоверности по отношению к «чистому Я». «То, что со мной происходит, тотчас же исчезает. То, что я совершаю, вскоре отделяется от меня. Я никогда не стал бы пытаться вернуть утраченное время. Ситуации, комбинации персонажей рассказов и драм не могут укорениться во мне...».
Однако и, хотя в меньшей степени, чем остальные жанры, также требует, по его мнению, «жертвы интеллекта». Своеобразный интеллектуально окрашенный пуризм («острая болезнь точности») и эготизм (особенно любимое им понятие) заставляют Валери отказаться от поэтического творчества. «Соблазн сочинительства» уступает место страстному увлечению аналитическим самонаблюдением и изучением формальных возможностей собственного сознания. Первотолчок, перводвигатель сочинительства идет, по мнению Валери, от неизвестных и неуправляемых сил, пассивным орудием которых является поэт (этот иррациональный аспект поэтического творчества он связывает со специфической деятельностью сенсорного аппарата человека, законы которого не обнаружены, но могут быть открыты наукой). И с этим не хочет мириться Валери и одолевает «демона» поэзии дисциплинированным самовоспитанием мысли. Любопытен интимный климат, в котором происходило формирование идей Валери. Размышляя над страстью к женщине, он приходит к выводу, что в таком состоянии человек теряет свое достоинство, отдаваясь смутным, неясным чувствам, становясь как бы рабом другого, не владея самим собой, своей собственной мыслью. Ход рассуждений здесь тот же, что и в предшествующем случае. Любовь выводит Я за его собственные границы, размывая тем самым его структурную целостность и автономность. Я должно вернуться в себя, очертить логический предел этого явления и взять над ним власть. По тем же причинам Валери отстраняет себя и от чар музыки: «Мне непонятно, являюсь ли я субъектом или объектом, танцую ли я или присутствую при танце, обладаю ли я или мной обладают. Именно эта неопределенность является ключом к чарам музыки». Чарующая, завораживающая сторона музыки, которая в разной степени свойственна всем видам и жанрам искусства, не согласуется с основными установками Валери.
Итак, Валери выявляет для себя принципиальную разницу между поэтом, литератором, с одной стороны, и мыслителем, хозяином и наблюдателем своего сознания — с другой. Он хочет целиком отстраниться от поэтического творчества и стать чистым мыслителем, заниматься «замкнутыми интеллектуальными экспериментами». Но «соблазн» писательства, это «то — чего — нельзя — знать» (Се — quon — ne — peut — savoir) все-таки одолевает его. Уже в почтенном, «непоэтическом» возрасте Валери снова возвращается к поэзии. Правда, и теперь он стремится ограничить свою зависимость от Другого и свести до минимума спонтанно-эмоциональный элемент творчества, сосредоточив все внимание на рационально-сознательном аспекте. В поэзии для Валери важно «количество разума», которое она способна вместить. И поэт для него не «неистовый безумец», сочиняющий в горячечном бреду ночи, а «холодный ученый», почти «математик». Он признается, что променял бы большинство шедевров, где нет четкой продуманности на одну «видимо управляемую страницу».
В творческом процессе Валери обнаруживает два противоречивых момента. С одной стороны, иррациональное начало, беспричинное и неупорядоченное, неподвластное воле поэта и действующее как бы вне его Я, и, с другой — рациональное, подчиненное его интеллекту, его воле, находящееся в полной власти его Я и складывающееся из операционально-логических элементов, которые помогают сознательно рассчитывать и конструировать «машину для производства поэтических эмоций». Именно вторая сторона и интересует Валери преимущественно. Художник, по Валери, должен быть искусным мастером и инженером и возводить свое сознание в квадрат, чтобы вообще исключать всякий вопрос о подсознательном. Направления в искусстве, по его мнению, определяются преобладанием одного из этих двух аспектов. В истории искусства его привлекают те периоды, где как раз акцентируются в творчестве «рациональное», «продуманное», а не «рожденное».
В этом плане, конечно, в первую очередь, напрашивается антитеза классицизм — романтизм, которая привлекала внимание Валери и как бы проецировалась в его личном опыте. Достаточно вспомнить определение классического как подавленного романтического.
Рационально-сознательный элемент поэзии становится у Валери предметом наблюдения и самостоятельных размышлений. «Размышления, которые предшествуют творчеству» или, добавим, сопровождают его, — вот наиболее близкий ему срез литературной деятельности. Подобно тому, как сознание обращается само на себя и исследует условия своего собственного бытия («сознание сознания»), так и поэзия должна как бы удвоиться, пронаблюдать себя как таковую и выявить свойства и возможности поэтической сути (своеобразная поэзия поэзии). Валери пытается определить аналогичный «чистому Я» идеальный инвариант поэтического, создать концепцию «чистой поэзии» или, как он иногда ее называет, «абсолютной поэзии». Поэзия, по его мнению, создает иллюзию существования мира, в котором знакомые события, люди, вещи, образы связаны друг с другом несколько иным образом, чем в реальной действительности. Эта связь создает как бы музыкальный резонанс, который находится в необъяснимом, но интимном соединении со всей нашей чувствительностью. Так возникает поэтическое состояние. Оно может быть вызвано пейзажем, ситуацией и т. п. Оно зависит от согласованности нашего физического и психологического настроя и реальных или идеальных обстоятельств, которые оказывают впечатление на нас. Это состояние имеет некоторое подобие со сновидениями, где знакомые вещи сочетаются иначе. Если в сновидении, однако, человек не является хозяином собственного эмоционального состояния, своей мысли, то в реальной обстановке он может по своей воле искусственно воспроизводить это состояние. Одним из средств такого воспроизведения является искусство, в частности поэзия. Основным материалом поэзии является язык, слово, и с этим связаны все трудности на пути к «чистой поэзии».
Язык является средством практического общения, это очень грубый инструмент, оттого что каждый пользуется им, приспосабливая к собственным нуждам и выгодам. Язык обрастает «идолами» и наслоениями всех предшествующих веков своего развития. Языком занимается фонетика, грамматика, семантика, синтаксис, риторика, метрика и т. д. Один и тот же текст может рассматриваться с различных точек зрения. И вот этот разнородный и многослойный, изменчивый и подвижный материал поэт должен превратить в субстанцию определенного эмоционального состояния, отличного от случайных и неопределенных состояний, которые составляют обычную сенситивную и психическую жизнь, для выражения которой и служит обычный, практический язык. Поэт, используя обычный язык, должен преодолеть его статистическую природу (nature statistique) и практическое назначение и создать искусственный язык (своеобразный язык в языке), соответствующий его состоянию и никак не связанный с утилитарно-коммуникативными целями. Для получения продукции, отвечающей концепции «чистой поэзии», необходимо выделить чистые, опознаваемые языковые элементы, которые отличались бы от практического и целевого языка и, будучи связанными с идеями и образами, соответствовали бы определенному настрою. Иначе говоря, необходимо преодолеть инерцию слов и добиться такого их взаимного резонанса, который был бы адекватен поэтическому состоянию. Но это положение трудно достижимо. «Если бы эта парадоксальная программа могла быть выполнена, то есть если бы поэт мог построить произведение, где не существовало бы ни одного элемента прозы, где не прерывалась бы музыкальность стиха, где бы отношения между значениями связывались с гармоническими соответствиями, где переход мыслей друг в друга был бы более важным, чем любая мысль, где образная игра включала бы в себя реальность сюжета, — тогда можно было бы сказать о чистой поэзии, как о существующей вещи. Но дело обстоит иначе: практическая или прагматическая сторона языка делает невозможным существование абсолютной поэзии. Чистая поэзия — это идеальный предел желаний, усилий и возможностей поэта».
Валери любит сравнивать поэта с танцором или музыкантом, подчеркивая трудности, с которыми встречается поэт на пути к этому пределу. Подобно тому как стихотворец использует практический язык, танцор использует сугубо практические элементы своего тела и претворяет их в субстанцию эстетического наслаждения. У тела, как и у слова, ослабляется практическая их функция и выделяется эмоционально-эстетическая. Однако танцор находится в более выгодном по отношению к поэту положении, так как используемый им материал гораздо однороднее и однозначнее слова, и его, следовательно, легче обработать в нужном направлении. Еще благоприятнее ситуация музыканта. Ему не надо фильтровать материю своих произведений. Мир звуков уже очищен от соответствующего ему в практическом ряду мира шумов. Поэту же следует, подобно хирургу, моющему перед операцией руки, «очищать словесную ситуацию».
Для Валери работа над поэтическим произведением гораздо важнее, чем самостоятельное бытие этого произведения. Поэт весьма своеобразно расставляет ценностные акценты. «Я предпочел бы написать что-то слабое, но с предельным сознанием и ясностью ума, чем в трансе, вне себя произвести на свет шедевр из шедевров». Ценность поэтической работы заключается в ее влиянии на развитие интеллектуальных способностей и возможностей индивида. Во множестве своих замечаний, в частности в заметках о создании «Юной Парки», Валери выделяет эту мысль как принципиально важную для него. Занятие поэзией — это особое упражнение, позволяющее наблюдать и усовершенствовать интеллект. «Самая чистая польза, извлеченная мной из моих стихотворений, заключается в тех наблюдениях, которые я делал над собой при их сочинении».
Поэтическое произведение, когда оно еще находится в сфере Возможного, когда перебираются, пробуются варианты этого Возможного, гораздо истиннее осуществленного. Реальное произведение, выходя из области Возможного, выходит и из-под власти стихотворца, становится добычей Другого, подвергается различному, искажающему его «чистоту» переосмыслению. Но произведению все-таки суждено уйти в мир, и поэт, по мысли Валери, может и должен распространить свою власть и на данный этап художественного бытия произведения, то есть продумать и рассчитать с математической точностью его поэтический эффект.
Своеобразие взглядов Валери обнаруживается в его отношении к тем историко-литературным явлениям, которые он считал родственными его устремлениям. Для него искания Малларме и творчество классицистов XVII века — это интереснейшие акты Интеллектуальной Комедии, которые вобрали в себя то «количество разума», на которое способна литература. Валери считал Малларме своим учителем в поэзии и посвятил ему несколько эссе. Обоих поэтов сближает сходство некоторых эстетических принципов, и прежде всего их отношение к интеллекту как к демиургу поэтического творчества. В одном из писем Малларме писал: «Я хотел бы тебе просто сказать, что я только что набросал план своего творчества в целом, после того, как нашел ключ к самому себе, центр самого себя, и где я держусь, как священный паук на центральных нитях, уже изготовленных моим мозгом, с помощью которых в точках пересечений я сплету сказочные кружева, о которых я догадываюсь и которые уже существуют в лоне Красоты». Валери мог бы с полным правом отнести эти слова к себе, конечно, исключив «лоно Красоты», эту принципиально чуждую ему метафизическую идею, которая и для Малларме не была основополагающей. Валери вполне справедливо считал, что метафизика чужеродна умонастроению Малларме, что она не согласуется с основой творческого поведения поэта, корректируется этой основой. «Центр самого себя», «центральные нити, изготовленные моим мозгом», — это слова-индикаторы, которые тотчас же переносят нас в атмосферу писаний Валери. «Чистое Я» — это та же центральная нить, с помощью которой плетутся кружева реальных вещей и событий. (Кстати понятие абсолютной книги, Книги с большой буквы у Малларме вполне соотносимо структурно с концепциями «чистого Я», «чистой поэзии». Абсолютная книга — это неизменный предел литературы вообще, исчерпывающий до основания ее возможности.) Но эти «центральные нити» не просто порождают реальность, они исследуют свои собственные возможности, возводят их в абсолют, по отношению к которому феноменальное бытие людей, вещей, событий совершенно случайно и является сколком этих возможностей. Во время работы над «Игитуром» в одном из своих писем Малларме замечает: «Я прожил страшный год. Моя мысль помыслила самое себя и пришла к чистой Концепции... Знай, что я теперь имперсонален и больше не Стефан, которого ты знал, но возможность для умственного Универсума видеть самое себя и осуществлять самое себя через то, чем я был». И здесь, как мы видим, логика рассуждений Малларме чрезвычайно близка мыслям Валери о саморазворачивании «чистой возможности», об отказе быть кем бы то ни было. Малларме интересен для Валери еще и тем, что он стремился сделать творчество, насколько возможно, сознательным, преодолеть традиционное романтическое представление о поэте как боговдохновенном медиуме.
В чем выражается, по мнению Валери, эта сознательность, это столь родственное ему устремление? Заслуга Малларме заключается в том, что он «заменил наивную, инстинктивную или традиционную (то есть мало продуманную) деятельность своих предшественников искусственной и тщательно продуманной концепцией, полученной в результате особого анализа». Малларме ценен для Валери тем, что пытается выявить «систему поэзии» с помощью чистых и отчетливых понятий, освободив ее тем самым от метафизической мечтательности и приблизив к науке. Малларме — один из первых, кто пытается определить «идею — границу», «идею — сумму» поэзии («чистая поэзия» у Валери»), сняв тем самым с нее ореол святости и таинственности. Игрушка сломана, выяснен принцип ее устройства. Зная этот конструктивный принцип, мы можем управлять им, сознательно используя в каждом конкретном случае. Не Муза управляет поэтом, а поэт — Музой. В письме к своему литературному современнику Малларме замечает следующее: «Я понял глубинное соотношение Поэзии и Универсума и для того, чтобы это соотношение было чистым, задумал освободить его из-под власти мечты и Случая». Сравните высказывание Валери: «Искусство (в смысле искусности и искусственности. — Б. Т.) и труд возвеличивают нас; а Муза и случай только посещают и покидают нас». Вполне понятно, что при этом на первый план выдвигается сознательно-волевая деятельность художника, артистизм и мастерство, техника обработки слова. В результате рефлексии над поэзией создается определенная концепция, и все силы художника сосредоточиваются на том, чтобы выполнение этой программы было как можно более чистым и адекватным. Подобная заданность, окончательная продуманность творчества вполне импонировала Валери. Все проблемы в сущностном плане решены, выработаны определенные правила. И главная задача состоит в том, чтобы как можно искуснее применить эти правила, как можно более блестяще поупражняться (при этом весь комплекс интеллектуальных процедур, начиная концептуализацией и кончая практикой, приобретает самостоятельное философское значение. «Маллармизм», по мысли Валери, может считаться «субститутом всякой философии» или даже освобождением от нее). Поэзия как интеллектуальное упражнение. В том тезисе, который у Малларме не утверждается явно, но косвенно присутствует, подразумевается та идея «интеллектуального спорта», с которой мы встретились у Валери. Малларме привлекателен для Валери также и тем, что создал во Франции понятие «трудного автора» и специально вводил в поэзию элементы, требующие «усилия разума», сохраняя при этом чистоту авторства и сокращая удельный вес присутствия Другого. Поэзия замыкается в узком кругу конгениальных индивидов, понимающих правила эзотерической игры Интеллекта.
Другим, более далеким по времени, но не менее близким по духу литературным явлением, в отношении к которому преломилось своеобразие взглядов Валери, был классицизм XVII века. Валери заявлял, что если бы была возможность выбирать, в каком веке жить, то он, безусловно, выбрал бы это время. Чем же интересен для него классицизм? Прежде всего интеллектуализмом. Его не могла не привлекать ориентация классицистов на воспроизведение всеобщей сущности человеческой личности, ориентация на Разум, воспроизводящий эту сущность. Разум как предельная и постоянная величина любой деятельности — эта идея, безусловно, близка Валери. Перенесенная в область искусства, она своеобразно изменяла его. Искусство несамодостаточно. Рефлексия над искусством восполняет эту несамодостаточность. Конечно же, данное явление обнаруживается гораздо ранее классицизма. Но именно в классицизме рефлексия над искусством достигла особой остроты. «Размышления, которые предшествуют», — это, ведь, и классицистский девиз тоже, приводящий к созданию и канонизированию правил, обладающих самостоятельной ценностью, программы, с которой сверяются конкретные произведения. Как существуют «Правила для руководства ума», так же существуют правила и для создания произведений искусства. В своей речи об Анатоле Франсе Валери так характеризовал классическое искусство: «Я думал об особенностях искусства, которое называют классическим; я заметил, что оно начинается тогда, когда приобретенный опыт вторгается в сочинение произведений и в суждение о них. Оно неотделимо от понятий правил, предписаний, образцов». (Валери связывает данную характеристику с национальными особенностями французов, которые «восхищаются лишь после того, как нашли прочные и универсальные основания для своего восхищения».) Эти правила направлены на то, чтобы, с одной стороны, определить границы того или иного явления (например, жанра) и сохранить его чистоту, не допускать вторжения инородных элементов, смешения, синкретизма. Это, безусловно, близкие Валери идеи. С другой стороны, правила надевают узду на случайное, упорядочивают личные отклонения, избыток, фантазию. «Классика предполагает сознательную направленность действий, которая приводит «естественную» производительность в соответствие с ясной и разумной концепцией человека и искусства. Но, как это видно в области наук, мы не можем сделать произведение разумным и строить его в определенном порядке иначе, чем пользуясь известным количеством условностей. Классическое искусство распознается по наличию, по четкости, по неукоснительности этих условностей». Высокое самосознание классического искусства, выразившееся в системе условностей, одновременное сохранение строгости и свободы ориентируют его на идеал игры. Валери считал, что позитивная свобода возможна только в рамках строгих и определенных правил, а не в подчинении каждому случайному импульсу. Значение правил — исключить все случайное и утвердить необходимое, универсальное. Правила, по мысли Валери, сами по себе прекрасны и имеют собственное философское содержание. «Чистое Я», «чистая поэзия», «маллармизм»— это направляющие и упорядочивающие принципы интеллектуальной деятельности, заменяющие традиционное философствование. К числу таких принципов относятся и правила в искусстве, «изысканные цепи», сдерживающие «привычный хаос, который вульгарность называет мыслью». Мысли соответствует случайность и «непостоянство событий», а правилам — «строгость и элегантность поступков».
Валери привлекает в классицизме «волевой» характер творчества и сознательное отношение к используемому материалу. И, действительно, можно обнаружить много схожего в отношении к слову между Валери и, например, Малербом. У обоих мы наблюдаем ориентацию на артистизм и мастерство, на обработку и «чистоту» слова, которая приобретает самодовлеющее значение. Кстати, понимание поэзии как «вербального танца» мы находим и у Малерба в его письме к Ракану. Подвижничество мастера, шлифующего и оттачивающего слово, как бриллиант, роднит Валери и с Бюффоном. «Гений — всего лишь долготерпение». Эта крылатая фраза Бюффона органически укладывается в представления Валери. Делению красноречия на естественное и искусственное у Бюффона соответствует «спонтанное» и «продуманное» творчество у Валери. Оба, конечно, отдают предпочтение второму как более высокому и чистому образованию, апеллирующему к уму, интеллекту, а не к беспорядочному воображению и чувству. Некоторые «рго» и «contra» Валери можно обнаружить в его очерке о Лафонтене «По поводу Адониса». Валери стремится опровергнуть ходячие мнения о Лафонтене как «наивном и мечтательном» художнике. Точно выдерживаемая «чистота» стиля, сознательное подчинение «изысканным цепям» противоречат обычным суждениям о Лафонтене. «Кто говорит о точности стиля, подразумевает нечто противоположное мечте». Однако произведение Лафонтена имеет изъяны, которые неприятно соседствуют с вышеупомянутыми достоинствами. Замечания, которые делает Валери, мог бы сделать любой, ортодоксально настроенный классицист. Ему антипатична комическая сторона стихотворения. Комическое, смешное — низко, нелепо, глупо, сродни деятельности «детского мозга». Басня, сказка — это жанр толпы, «пьяного разума». Низкое, детское, природное, многозначное и подвижное находятся вне пределов высокого, взрослого, интеллектуального, однозначного и устойчивого. Жесткая классификация и иерархизация жанров, понятий, поступков в классицизме вполне соответствовала интеллектуальному ригоризму Валери.
Теоретические воззрения Валери касаются, главным образом, формально-вещного аспекта художественного бытия. И его рассуждения на данную тему во многом истинны и совершенны. Однако содержательная сторона творчества, выводящая за пределы материальной формы и тесно связанная с эмоционально-заинтересованным отношением к миру, с ценностной ориентацией человека в нем, остается вне внимания Валери. Будет вполне уместным в связи с оценкой данной концепции привести следующие слова Гегеля: «Настоящая лирика, как всякая подлинная поэзия, должна раскрывать подлинное содержание человеческого сердца». Гегель, на наш взгляд, совершенно точно устанавливает тот уровень в структуре человеческой личности, с которым соотносится поэтическое творчество. Ориентация Валери на сугубо технологическую проблематику связана с нередким для нашего времени чрезмерным интеллектуализированием человеческой личности. Эмоциональную жизнь как таковую Валери не признавал, считая ее чем-то недостойным и не заслуживающим внимания. В его рассуждениях она часто сводится к чистой сенсорности, рассматривается как отклонение от нормального функционирования нервной системы. Здесь раскрывается еще один аспект недоверчивого отношения Валери к музыке, к любви, для которых сфера эмоционально-душевной жизни является привилегированным полем действия. Музыка, как он замечает в своих дневниках, — это «система щекотки» нервных центров, вызывающая «пустые и недействительные бури». Эмоции же, которые сопровождают любовь, — всего лишь аксессуарные образования, служащие для раздражения «определенных мускулов». Для Валери совершенно чужда проблема специфических особенностей человеческих чувств, проблема жизненного значения чувства, высшего в эмоциональной жизни человека. Но именно эта область человеческого самопроявления всегда являлась питательной средой поэзии. Именно в ней формируется личное отношение к миру, которое и составляет существо поэзии. Личность со всеми своими особенностями и единственной, неповторимой судьбой (то, что в системе Валери характеризуется как «подвижное, случайное» и, стало быть, малоинтересное) является организующим центром поэтического творчества. Однако эта особенность и неповторимость не имеет капризно-хаотического характера, затрачивает и выражает какую-то сердцевинную грань бытия, у каждого настоящего поэта свою и в то же время существенную.
Валери как мыслитель, ориентирующийся на строгий интеллект, принципиально игнорировал жизнь человеческой души. Тем не менее он подспудно чувствовал ее роль и значение в жизни человека, о чем свидетельствуют его некоторые дневниковые записи и собственная поэтическая практика. Между концептуализацией творчества, как она отразилась в его эссеистике, и самой поэзией Валери не могло не возникнуть объективных противоречий. Но это уже особая тема, требующая специального исследования.
Л-ра: Писатель и жизнь. – Москва, 1978. – С. 208-219.
Произведения
Критика