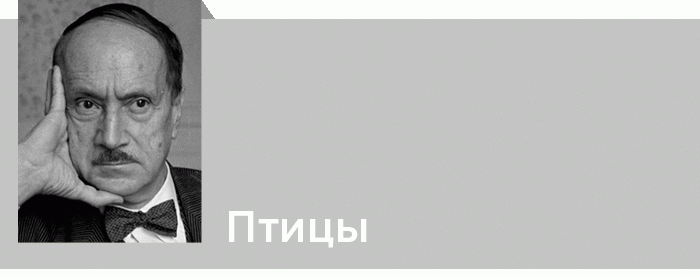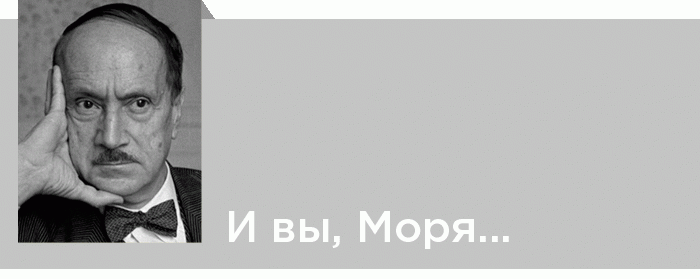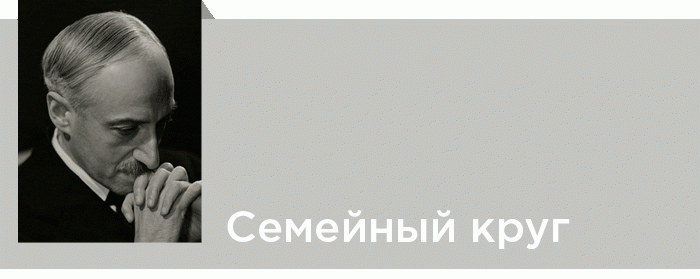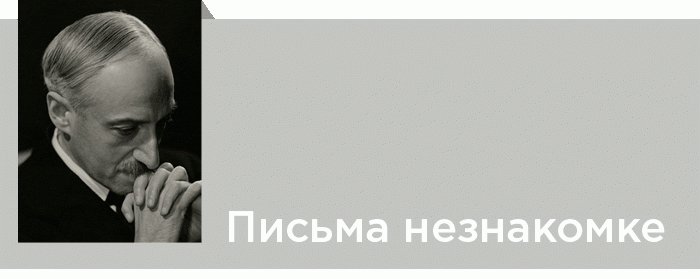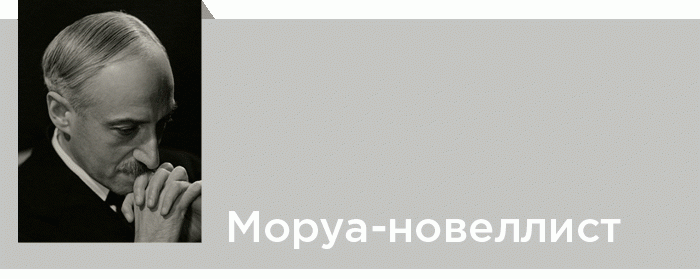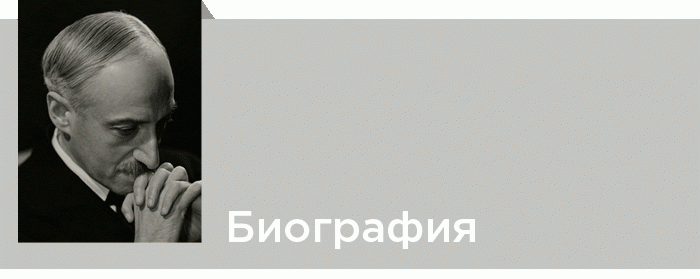Андре Моруа. Фиалки по средам
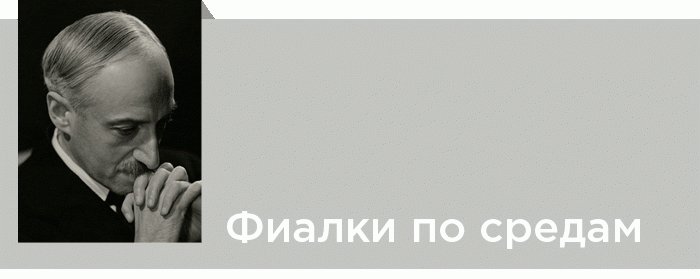
— О, Женни, останьтесь!
За обедом Женни Сорбье была ослепительна. Она обрушила на гостей неистощимый поток всевозможных историй и анекдотов, которые рассказывала с подлинным актерским мастерством и вдохновением прирожденного писателя. Гостям Леона Лорана — очарованным, восхищенным и покоренным — время, проведенное в ее обществе, показалось одним волшебным мгновением.
— Нет, уже почти четыре часа, а ведь сегодня среда… Вы же знаете, Леон, в этот день я всегда отношу фиалки моему другу…
— Как жаль! — произнес Леон своим неподражаемым раскатистым голосом, составившим ему немалую славу на сцене. — Впрочем, ваше постоянство всем известно… Я не стану вас удерживать.
Женни расцеловалась с дамами, мужчины почтительно поцеловали ей руку, и она ушла. Как только за ней закрылась дверь, гости наперебой принялись расточать ей восторженные похвалы.
— Она и впрямь восхитительна! Сколько лет ей, Леон?
— Что-то около восьмидесяти. Когда в детстве мать водила меня на классические утренники «Комеди Франсез», Женни, помнится, уже блистала в роли Селимены. А ведь я тоже не молод.
— Талант не знает старости, — вздохнула Клер Менетрие. — А что это за история с фиалками?
— О, да тут целый роман… Она как-то поведала мне его, однако никогда об этом не писала… Но я просто не рискую выступать в роли рассказчика после нее. Сравнение будет для меня опасным.
— Да, сравнение вообще опасно. Но ведь мы у вас в гостях, и ваш долг — развлекать нас. Вы просто обязаны заменить Женни, раз уж она нас покинула.
— Ну что ж! Я попытаюсь рассказать вам историю фиалок по средам… Боюсь только, как бы она не показалась слишком сентиментальной по нынешним временам…
— Не бойтесь, — произнес Бертран Шмит. — Наше время жаждет нежности и любви. Под напускным цинизмом оно прячет тоску по настоящим чувствам.
— Вы так думаете?.. Что ж… Если так, я постараюсь утолить эту жажду… Все вы, здесь сидящие, слишком молоды, чтобы помнить, как хороша была Женни в годы высшего расцвета своей славы. Огненно-рыжие волосы свободно падали на ее восхитительные плечи, лукавые раскосые глаза, звучный, почти резкий голос, в котором вдруг прорывалось чувственное волнение, — все это еще больше подчеркивало ее яркую и гордую красоту.
— А вы красноречивы, Леон!
— Боюсь, что мое красноречие несколько старомодно. Но все же благодарю… Женни окончила консерваторию в 1895 году с первой премией и сразу же была приглашена в «Комеди Франсез». Увы, я по собственному опыту знаю, как тяжело приходится новичку в труппе этого знаменитого театра. На каждое амплуа имеется актер с именем, ревниво оберегающий свои роли. Самая восхитительная из субреток может лет десять дожидаться выигрышной роли в пьесах Мариво и Мольера. Чаровница Женни столкнулась с алчными, цепкими королевами сцены. Всякая другая на ее месте смирилась бы со своей участью или, промаявшись год-два, перебралась бы в один из театров бульвара Мадлен. Но не такова была наша Женни. Она ринулась в бой, пустив в ход все, что у нее было: талант актрисы и блестящую образованность, все свое обаяние и свои восхитительные волосы.
Очень скоро она стала одной из ведущих актрис театра. Директор в ней души не чаял. Драматурги наперебой требовали, чтобы она играла созданные ими трудные роли, уверяя, что никто, кроме нее, не сумеет донести их до публики. Критики с небывалым постоянством пели ей дифирамбы. Сам грозный Сарсэ, и тот писал о ней: «Один поворот ее головы, один звук ее голоса способен очаровать даже крокодила».
Мой отец, который в те годы был с ней знаком, рассказывал, что она страстно любила свое ремесло, судила о нем с умом и неустанно отыскивала новые, волнующие актерские приемы. В ту пору в театре увлекались реализмом довольно наивного толка. Если роль предписывала Женни умереть в какой-то пьесе от яда, она всякий раз перед спектаклем отправлялась в больницу — взглянуть на мучения тех, кто погибал от отравы. Борьбу человеческих чувств она изучала на самой себе. Служа искусству, она выказывала то же полное отсутствие щепетильности, которым отличался Бальзак, описавший в одном из своих романов собственные страсти и чувства любимой им женщины.
Вы, конечно, догадываетесь, что у девушки двадцати двух лет, ослепительно прекрасной и молниеносно завоевавшей громкую славу, должно было появиться множество поклонников. Приятели по театру, драматурги, банкиры — все пытались завоевать ее расположение. Она избрала банкира Анри Сталя. Не потому, что он был богат, — Женни жила вместе с родными и ни в чем не нуждалась. А потому, что он, как и она, обладал редким обаянием и, главное, предлагал ей законный брак. Вы, возможно, знаете, что брак этот состоялся не сразу, — родители Сталя долго не давали своего согласия. Анри и Женни поженились лишь спустя три года, но вскоре разошлись — Женни с ее независимым характером не в силах была подчиниться семейному рабству. Но это уже другая история. А сейчас вернемся к «Комеди Франсез», к дебюту нашей Женни и… к фиалкам.
Представьте себе артистическое фойе в тот самый вечер, когда Женни вновь появилась в «Принцессе Багдадской» Дюма-сына. Пьеса эта не лишена недостатков. И даже у меня, склонного восхищаться такими добротно сделанными пьесами, как «Полусвет», «Друг женщин», «Франсийон», капризы Дюма в «Чужестранке» и «Принцессе Багдадской» вызывают улыбку. Однако все, кто видел Женни в главной роли, писали, что она сумела создать правдоподобный образ. Мы часто говорим с ней о тех временах. Как ни странно, Женни сама верила тому, что играла. «В свои юные годы, — призналась она мне, — я рассуждала почти так же, как какая-нибудь героиня Дюма-сына, и до чего же удивительно было играть на залитой светом сцене то, что зрело во мне, в самых тайниках моей души». Добавьте еще, что эта роль позволяла ей прибегнуть к эффектному приему: она распускала свои чудесные волосы, которые падали на прекрасные обнаженные плечи. Одним словом, Женни была великолепна.
В антракте, после овации, которую устроила ей публика, она вышла в артистическое фойе. Все тотчас столпились вокруг нее. Женни опустилась на диван рядом с Анри Сталем. Она весело болтала с ним, вся во власти того радостного возбуждения, которое дает победа.
— Ах, мой милый Анри!.. Вот я снова выплыла на поверхность! Наконец-то я дышу полной грудью… Вы сами видели, как я играла три дня назад… Правда, ведь я никуда не годилась?.. Фу! Мне казалось, что я барахтаюсь на самом дне. Я задыхалась. И вот наконец — сегодняшний вечер. Сильный рывок — и опять я на поверхности! Послушайте, Анри, а что, если я провалюсь в последнем акте? Что, если у меня недостанет сил доплыть до конца? О Боже, Боже!
Вошедший капельдинер вручил ей цветы.
— От кого бы это? А, от Сен-Лу… От вашего соперника, Анри… Отнесите букет в мою уборную.
— И еще письмо, мадемуазель, — сказал капельдинер.
Распечатав послание, Женни звонко рассмеялась:
— Записка от лицеиста. Он пишет, что они создали в лицее «Клуб поклонников Женни».
— Весь «Жокей-клуб» ныне превратился в клуб ваших поклонников…
— Меня больше трогают лицеисты… А это послание к тому же заканчивается стихами… Послушайте, дорогой мой…
Скромные строки: «Я вас люблю» —
Не судите и не отвергайте,
И бедного автора — нежно молю —
Директору не выдавайте.
Ну разве не прелесть?
— Вы ответите ему?
— Конечно, нет. Таких писем я получаю ежедневно не меньше десятка… Если я начну на них отвечать, я пропала… Но письма меня радуют… Эти шестнадцатилетние поклонники еще долго будут мне верны…
— Как знать… В тридцать лет они уже будут нотариусами.
— А почему бы нотариусам не быть моими поклонниками?
— Вот еще просили вам передать, мадемуазель, — сказал подошедший снова капельдинер.
И он протянул Женни букетик фиалок за два су.
— О, как это мило, поглядите, Анри! А записки нет?
— Нет, мадемуазель. Швейцар сказал мне, что фиалки принес какой-то студент Политехнической школы.
— Дорогая, — воскликнул Анри Сталь, — позвольте вас поздравить! Право, потрясти этих «икс-игреков» не так-то просто.
Женни глубоко вдохнула запах фиалок.
— Какой дивный аромат! Только такие знаки внимания и радуют меня. Терпеть не могу солидную, довольную собой публику, ту, что является поглазеть, как я буду умирать, в полночь, точно так же, как в полдень спешит в Пале-Рояль — послушать, как стреляет пушка.
— Зрители — садисты, — ответил Анри Сталь. — Они всегда такими были. Вспомните бои гладиаторов… Каким успехом пользовалась бы актриса, вздумавшая проглотить набор иголок!
Женни рассмеялась:
— А если какая-нибудь актриса вздумала бы проглотить швейную машину, слава ее достигла бы апогея!
Послышался возглас: «На сцену!» Женни встала:
— Ну что ж, до скорого… Пойду глотать иголки!..
Вот так, по рассказу Женни, и началась вся эта история.
В следующую среду во время последнего антракта улыбающийся капельдинер снова принес Женни букетик фиалок.
— Вот как! — воскликнула она. — Неужто опять тот же студент?
— Да, мадемуазель.
— А каков он из себя?
— Не знаю, мадемуазель. Хотите, спрошу у швейцара?
— Нет, не стоит, какая разница…
В среду на следующей неделе спектакля не было, но когда в четверг Женни пришла на репетицию, букетик фиалок, на сей раз немного увядший, уже лежал в ее уборной. Покидая театр, она заглянула в каморку швейцара.
— Скажите-ка, Бернар, фиалки принес… все тот же молодой человек?
— Да, мадемуазель… В третий раз.
— А каков он из себя, этот студент?
— Он славный мальчик, очень славный… Пожалуй, немного худощав, щеки у него впалые и глаза печальные, небольшие черные усики и лорнет… Лорнет и сабля на боку — это, конечно, смешно… Право, мадемуазель, юноша, видимо, влюблен не на шутку… Всякий раз он протягивает мне свои фиалки со словами: «Для мадемуазель Женни Сорбье» — и заливается краской…
— Отчего он всегда приходит по средам?
— А вы разве не знаете, мадемуазель? В среду у студентов Политехнической школы нет занятий. В этот день они заполняют весь партер и галерку… Каждый приводит с собой барышню…
— И у моего есть барышня?
— Да, мадемуазель, только это его сестра… Они так похожи друг на друга, просто диву даешься…
— Бедный мальчик! Будь у меня сердце, Бернар, я бы попросила вас хоть разочек пропустить его за кулисы, чтобы он мог сам вручить мне свои фиалки.
— Не советую, мадемуазель, никак не советую… Пока этих театральных воздыхателей почти не замечают, они не опасны. Они восхищаются актрисами издали, и это вполне их удовлетворяет… Но стоит показать им малейший знак внимания, как они сразу начнут докучать вам, и это становится ужасным… Протянешь им мизинец, они ладонь захватят… Протянешь ладонь — руку захватят. Смейтесь, смейтесь, мадемуазель, да только я-то знаю, как это бывает. Двадцать лет служу в этом театре! Уж сколько влюбленных барышень я повидал на своем веку в этой каморке… И свихнувшихся молодых людей… И стариков… Я всегда принимал цветы и записки, но никогда не пропускал никого из них наверх. Чего нельзя, того нельзя!
— Вы правы, Бернар. Что ж, будем холодны, осмотрительны и жестоки!
— Какая тут жестокость, мадемуазель, просто здравый смысл…
Прошли недели. Каждую среду Женни получала свой букетик фиалок за два су. Весь театр прослышал об этом. Как-то одна из актрис сказала Женни:
— Видела я твоего студента… Он очарователен, такая романтическая внешность… Прямо создан, чтобы играть в «Подсвечнике» или «Любовью не шутят».
— Откуда ты знаешь, что это мой студент?
— Я случайно заглянула к швейцару в ту самую минуту, когда он принес цветы и робко попросил: «Пожалуйста, передайте мадемуазель Женни Сорбье…» Это была трогательная картина. Видно, юноша умен и не хотел казаться смешным, но все же он не мог скрыть волнения… Я даже на минуту пожалела, что он не мне носит фиалки, уж я отблагодарила бы его и утешила… Заметь, он ничего не просил, даже не добивался разрешения увидеть тебя… Но будь я на твоем месте…
— Ты бы приняла его?
— Конечно, и уделила бы ему несколько минут. Ведь он так давно ходит сюда. К тому же и каникулы подоспели. Ты уедешь, так что нечего опасаться, что он начнет тебе досаждать…
— Ты права, — сказала Женни. — Сущее безумие пренебрегать поклонниками, когда они молоды и им нет числа, а потом гоняться за ними спустя тридцать лет, когда их останется совсем немного и все они обзаведутся лысиной…
Выходя в этот вечер из театра, она сказала швейцару:
— Бернар, в среду, когда студент опять принесет фиалки, скажите ему, чтобы он сам вручил их мне после третьего акта… Я играю в «Мизантропе». По роли я переодеваюсь всего один раз. Я поднимусь в свою уборную и там приму его… Нет, лучше я подожду его в коридоре, у лестницы или, может быть, в фойе.
— Хорошо. Вы не боитесь, мадемуазель, что…
— Чего мне бояться? Через десять дней я уеду на гастроли, а этот мальчик прикован к своей Политехнической школе.
— Хорошо, мадемуазель… А все же, на мой взгляд…
В следующую среду Женни играла Селимену с особым блеском, вся во власти горячего желания понравиться незнакомцу. Когда наступил антракт, она ощутила острое любопытство, почти тревогу. Она устроилась в фойе и стала ждать. Вокруг нее сновали завсегдатаи театра. Директор о чем-то беседовал с Бланш Пьерсон, слывшей в те времена соперницей Женни. Но нигде не было видно черного мундира. Охваченная нетерпением, взволнованная Женни отправилась искать капельдинера.
— Никто меня не спрашивал?
— Нет, мадемуазель.
— Сегодня среда, а фиалок моих нет как нет. Может быть, Бернар забыл передать их… Или тут какое-нибудь недоразумение?
— Недоразумение, мадемуазель? Какое недоразумение? Если угодно, я схожу к швейцару…
— Да, пожалуйста… Впрочем, нет, не стоит. Я сама расспрошу Бернара, когда пойду домой.
Она посмеялась над собой. «Странные мы создания, — подумала она, — в течение шести месяцев я едва замечала робкую преданность этого юноши. И вдруг сейчас только потому, что мне недостает этих знаков внимания, которыми я всегда пренебрегала, я волнуюсь, словно жду любовника… Ах, Селимена, как сильно пожалеешь ты об Альцесте, когда он покинет тебя, охваченный нестерпимым горем!»
После спектакля она заглянула к швейцару.
— Ну как, Бернар, где мой поклонник? Вы не прислали его ко мне?
— Мадемуазель, как назло, сегодня он не приходил… В первый раз за полгода он не явился в театр — именно в тот самый день, когда мадемуазель согласилась его принять.
— Странно. Может быть, кто-нибудь предупредил его и он испугался?
— Нет, мадемуазель, что вы… Никто и не знал об этом, кроме вас и меня… Вы никому не сказали? Нет? Ну и я тоже молчал… Я даже жене ничего не говорил…
— Так как же вы все это объясните?
— А никак не объясню, мадемуазель… Может быть, случайно так совпало. А может быть, ему наскучило все это… Может быть, он захворал… Поглядим в следующую среду…
Но и в следующую среду опять не было ни студента, ни фиалок.
— Что же теперь делать, Бернар?.. Как вы думаете, может быть, приятели его помогут нам разыскать юношу? А может быть, обратиться к директору Политехнической школы?
— Но как мы это сделаем, мадемуазель? Мы ведь даже не знаем его имени.
— И то правда, Бернар. Как все это грустно! Не везет мне, Бернар.
— Полно, мадемуазель. Вы с таким блеском провели этот сезон. Скоро вы уедете на гастроли, где вас ждут новые успехи… Разве не грех говорить, будто вам не везет!
— Вы правы, Бернар! Я просто неблагодарное существо… Да только уж очень я привыкла к своим фиалкам.
На следующий день Женни покинула Париж. Анри Сталь сопровождал ее в этой поездке. В какой бы гостинице ни остановилась Женни, ее комната всегда утопала в розах. Когда она возвратилась в Париж, она уже позабыла о романтическом студенте.
Спустя год она получила письмо от некоего полковника Женеврьер, который просил принять его по личному делу. Письмо было написано очень корректно, с большим достоинством, и не было никакой причины отказывать в свидании. Женни предложила полковнику навестить ее в один из субботних вечеров. Он пришел, одетый в черное штатское платье. Женни встретила его с той очаровательной непосредственностью, которой ее наделила природа и научила сцена. Но во всем ее поведении, естественно, проскальзывал немой вопрос: что нужно от нее этому незнакомцу? Она терпеливо ждала объяснений.
— Благодарю вас, мадемуазель, за то, что вы согласились принять меня. Я не мог объяснить в письме цель своего визита. И если я позволил себе просить вас о свидании, то, поверьте, не мужская дерзость тому причиной, а родительские чувства… Вы видите, я одет во все черное. Я ношу траур по сыну, лейтенанту Андре де Женеврьер, убитому на Мадагаскаре два месяца назад.
Женни сделала невольное движение, словно желая сказать: «Сочувствую вам от всего сердца, но только…»
— Вы не знали моего сына, мадемуазель, мне это известно… Но зато он знал вас и восхищался вами. Вам покажется это невероятным, а между тем все, что я расскажу вам сейчас, — чистейшая правда. Он любил и боготворил вас больше всех на свете…
— Кажется, я начинаю понимать, полковник. Он сам поведал вам об этом?..
— Мне? Нет. Он рассказал обо всем сестре, которая была поверенной его тайны. Все началось в тот день, когда он пошел вместе с ней смотреть «Игру любви и случая». Возвратившись домой из театра, дети мои с восхищением отзывались о вас: «Сколько тонкости и чистоты в ее игре, сколько волнующей поэзии!..» Они говорили еще много такого, что наверняка было справедливо, я в этом не сомневаюсь… И все же страстность, присущая молодости, ее готовность идеализировать… Мой бедный мальчик был мечтателем, романтиком.
— Боже мой! — воскликнула Женни. — Так, значит, это он…
— Да, мадемуазель, тот самый студент Политехнической школы, который из месяца в месяц каждую среду приносил вам букетик фиалок, был мой сын — Андре… Это я тоже узнал от своей дочери. Надеюсь, подобное ребячество, наивный знак восхищения не рассердил вас?.. Он ведь так сильно любил вас или, быть может, тот созданный его воображением образ, который он носил в своем сердце… Стены его комнаты были увешаны вашими портретами… Сколько усилий стоило его сестре раздобыть у ваших фотографов какой-нибудь новый портрет!.. В Политехнической школе приятели посмеивались над его страстью. «Напиши ей обо всем!» — говорили они.
— Жаль, что он этого не сделал…
— Сделал, мадемуазель! Я принес вам целую пачку писем, которые так и не были отправлены. Мы нашли их после его смерти.
Достав из кармана пакет, полковник вручил его Женни. Однажды она показала мне эти письма — почерк тонкий, стремительный, неразборчивый. Почерк математика, зато стиль поэта.
— Сохраните эти письма, мадемуазель. Они принадлежат вам. И простите меня за необычный визит… Мне казалось, что я обязан сделать это в память о сыне… В чувстве, которое вы ему внушали, не было ничего непочтительного, легкомысленного… Он считал вас олицетворением красоты и совершенства… Уверяю вас, Андре был достоин своей великой любви.
— Но отчего же он не пытался увидеть меня? Отчего я сама не постаралась встретиться с ним?.. Ах, как я ненавижу себя за это, как ненавижу…
— Не корите себя, мадемуазель… Вы же не могли знать… Тотчас после окончания Политехнической школы Андре попросил направить его на Мадагаскар… Не скрою, причиной этого решения были вы… Да, он говорил сестре: «Одно из двух: или разлука излечит меня от этой безнадежной страсти, или же я совершу какой-нибудь подвиг и тогда…»
— Разве скромность, постоянство и благородство не лучше всякого подвига? — со вздохом произнесла Женни.
Заметив, что полковник собирается уходить, она порывисто схватила его за руки.
— Кажется, я не совершила ничего дурного, — сказала она, — и все же… И все же сдается мне, что и у меня есть долг по отношению к покойному, не успевшему вкусить радости жизни… Послушайте, полковник, скажите мне, где похоронен ваш сын… Клянусь вам: пока я жива, я каждую среду буду приносить букетик фиалок на его могилу.
Вот почему, — закончил свой рассказ Леон Лоран, — вот почему наша Женни, которую многие считают женщиной скептической, сухой, даже циничной, неизменно каждую среду покидает друзей, работу и порой любимого человека и идет одна на кладбище Монпарнас, к могиле незнакомого ей лейтенанта… Ну вот, теперь вы и сами видите, что я был прав, — история эта слишком сентиментальна для нынешних времен.
Наступило молчание. Затем Бертран Шмит сказал:
— На свете всегда будет существовать романтика для того, кто ее достоин.
Произведения
Критика