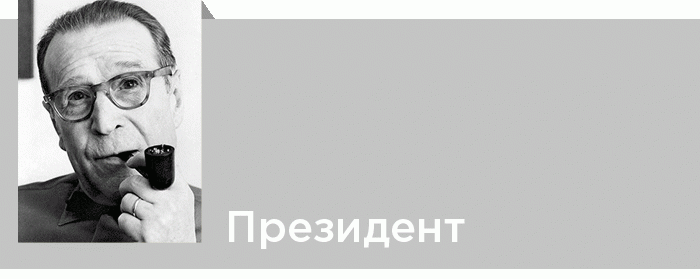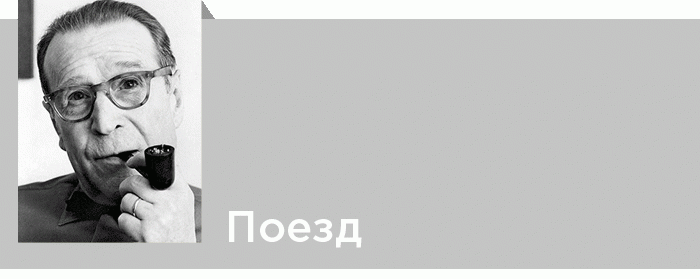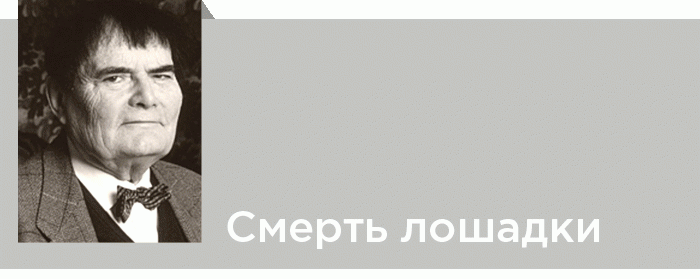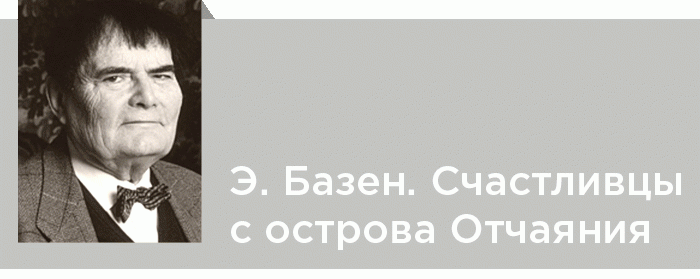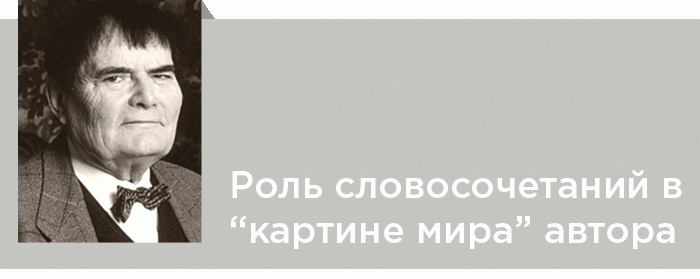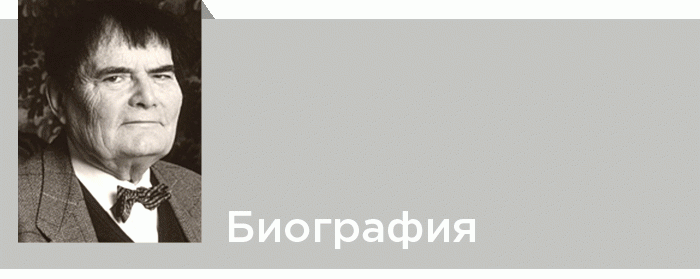Эрве Базен. Змея в кулаке
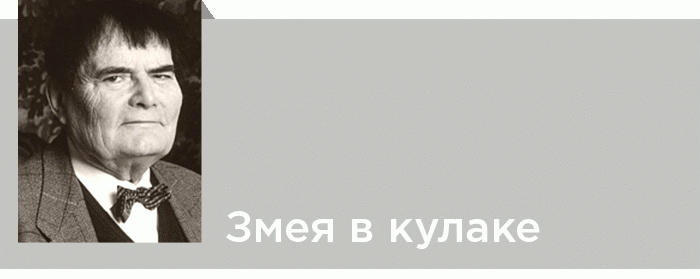
(Отрывок)
1
Лето, мягкое, но устойчивое в Кранском крае, согревало бронзовые завитки безукоризненно свитой спирали: это тройное кольцо живого браслета пленило бы ювелира, только в нем не было классических сапфировых глаз, потому что гадюка, на мое счастье, спала.
Она спала даже слишком крепко: вероятно, ослабела с годами или утомилась, переваривая лягушек. Геркулес в колыбели, удушающий змей, — вот он, воплотившийся античный миф. Я сделал то, что, очевидно, сделал и он: быстро схватил змею за шею. Да, за шею, и, конечно, совершенно случайно. Словом, произошло маленькое чудо, еще долго служившее предметом душеспасительных бесед в нашем семействе.
Я схватил гадюку за шею, у самой головы, и сжал ее, вот и все. Змея внезапно взвилась, как пружина, выскочившая из корпуса часов — а ведь этот корпус был для моей гадюки жизнью, — отчаянный рефлекс, в первый и в последний раз запоздавший на одно мгновение: она свивалась, извивалась, обвивала мне руку холодными кольцами, но я не выпускал своей жертвы. К счастью, голова змеи — это треугольник (подобный символу бога, ее извечного врага), и держится он на тонкой шее, которую легко сдавить рукой. К счастью, шершавая кожа гадюки с сухими чешуйками не обладает защитной скользкостью угря. Я сжимал кулак все крепче, нисколько не испугавшись внезапного пробуждения и дикой пляски существа, казавшегося во сне таким мирным, похожим на самую безобидную игрушку, я был даже заинтригован. Я сжимал кулак. Розовый кулачок ребенка может порой сравняться с тисками. И, сжимая кулак, я, чтоб получше рассмотреть змею, придвинул ее голову чуть ли не к самому своему носу, близко, на расстояние лишь нескольких миллиметров, но успокойтесь, этого оказалось достаточно, чтобы гадюка лишилась последней возможности в бешенстве вонзить в меня сочившиеся ядом острые зубы.
И знаете ли, у нее были красивые глаза — не сапфировые, как у змей на браслетах, а из дымчатого топаза с черными точками посередине, глаза, горящие искрами огня, который, как я узнаю впоследствии, зовется ненавистью; подобную ненависть мне доведется увидеть в глазах Психиморы, то есть моей матери, с той лишь разницей, что мне тогда уже не захочется играть (да и то не могу с уверенностью сделать такую оговорку!).
У моей гадюки были крошечные носовые отверстия и удивительная, широко зияющая пасть, похожая на чашечку орхидеи, а из нее высовывалось пресловутое раздвоенное жало — одно острие, нацеленное в Еву, другое в Адама, — знаменитое жало, которое просто-напросто похоже на вилочку для улиток.
Повторяю, я крепко сжимал кулак. Это очень важно. Это было так же очень важно и для змеи. Я сжимал кулак, и жизнь затухала в ней, ослабевала, тело ее повисло в моей руке, как дряблый жезл Моисея. Ясное дело, она еще дергалась, но все реже и реже, изгибаясь сначала спиралью, затем в виде епископского посоха, потом как вопросительный знак. Я все сжимал. И наконец последний вопросительный знак обратился в гладкий, бесповоротно неподвижный восклицательный знак — не трепыхался даже кончик хвоста. Два дымчатых топаза померкли, полуприкрытые лоскутками голубоватой тафты. Змея, моя змея, умерла — вернее сказать, для меня, ребенка, она вернулась к состоянию бронзы, в котором я обнаружил ее несколько минут назад у подножия третьего платана Мостовой аллеи.
Я играл с ней минут двадцать, укладывая ее то так, то этак, теребил, дергал ее безрукое, безногое тело извечного калеки. Змея была мертва, как может быть мертва только змея. Очень скоро она потеряла свой прежний вид, лишилась металлического блеска, стала просто тряпкой. И она показывала мне свое белесое брюшко, которое все животные из осторожности скрывают вплоть до смертного часа или часа любви.
Когда я обвязывал ее вокруг своей лодыжки, зазвонил колокол у ворот «Хвалебного» — детей сзывали к полднику, состоявшему из тартинок с вареньем. В этот день полагалось докончить банки мирабели, немного заплесневевшей за четыре года хранения в буфете, но куда более приемлемой, чем смородиновое желе, которое как-то особенно противно было мазать на хлеб. Я мигом вскочил на свои грязные ноги, не забыв захватить с собой гадюку — на этот раз я держал ее за хвост и очень мило раскачивал ее, как маятник.
Но вдруг мои первые научные размышления оборвал испуганный вопль, и из окна трусливой мадемуазель Эрнестины Лион донеслось до моего слуха исполненное ужаса приказание:
— Бросьте это сейчас же! — И еще более трагический возглас: — О, несчастный ребенок!
Я остановился в замешательстве. Откуда такая драма? Зовут друг друга, перекликаются, бешеный топот каблуков по лестнице. «Мадам! Господин аббат! Сюда! Скорей!» Где же остальные? Отчаянный лай нашей собаки Капи (мы уже прочли «Без семьи»). Звон колокола. Наконец, бабушка, вся белая, как ее батистовое жабо, откидывая носком ботинка подол своего неизменного длинного серого платья, выбежала из парадного. В ту же минуту из библиотеки (правое крыло здания) выскочила тетушка Тереза — графиня Бартоломи (титул, полученный в годы наполеоновской империи), вслед за ней — мой дядя, папский протонотарий, а из бельевой (левое крыло) гувернантка, кухарка и горничная… Все семейство, все слуги, чада и домочадцы высыпали из бесчисленных дверей дома, словно кролики из большого крольчатника.
Поистине осторожное семейство! Окружив меня плотным кольцом, родные все же держались на почтительном расстоянии от гадюки, которую я вертел за хвост, и это мое движение придавало ей вполне живой вид.
Тетушка Тереза. — Она мертвая?
Горничная. — Мне сдается, это простой уж.
Гувернантка. — Фреди, не подходите!
Глухонемая кухарка. — Крррхх!
Аббат. — Ну, и задам же я тебе порку!
Бабушка. — Детка, дорогой, брось этот ужас!
Отважный, гордый, я протянул свой трофей дядюшке протонотарию, по профессии своей врагу любого змия, но сей священнослужитель отскочил в сторону по крайней мере на метр. Остальные последовали его примеру. Однако бабушка оказалась храбрее, прочих (на то она и бабушка) и, подойдя ко мне, вдруг ударила лорнетом по моей руке, так что я выронил змею. Гадюка бессильно шлепнулась на крыльцо, и дядя, расхрабрившись, принялся добивать ее, весьма воинственно попирая змия пятой, подобно архангелу Михаилу, своему небесному патрону.
Как только всякая опасность миновала, четыре пары женских рук мгновенно раздели меня, четыре пары женских глаз осмотрели меня с ног до головы и установили, что я чудесным образом спасся от ядовитых укусов. На меня живо накинули рубашку, ибо не пристало отпрыску семейства Резо, даже малолетнему, стоять нагишом перед слугами. Оторвавшись от гадюки, превращенной в месиво, дядя в черной сутане, грозно размахивая руками, приблизился ко мне, суровый, как само правосудие.
— Что, укусила она этого дурака мальчишку?
— Нет, Мишель.
— Поблагодарим господа, дорогая матушка.
Вслух прочитаны были «Отче наш», «Богородица», мысленно каждый приносил какой-либо обет за чудесное мое спасение. Затем папский протонотарий схватил меня, положил поперек колен и, возведя очи к небу, методично отшлепал.
2
«Хвалебное». Великолепное название для падших ангелов, для мелкотравчатых мистиков. Однако поспешим пояснить: речь просто-напросто идет об искажении слова «Хлебное». Но добавим также, что «не хлебом единым жив будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих», и искажение наименования может быть оправдано, ибо, поверьте, в «Хлебном» ли, в «Хвалебном» ли всегда выпекали опресноки.
Переходя на более прозаический язык, скажем, что «Хвалебное» в течение двух с лишком столетий служило местопребыванием семейства Резо. Это скопище построек, началом которого явилась, вероятно, пекарня, стало в конце концов неким подобием замка. От хаотичности, если не от претенциозности, его спасал фасад, в жертву которому была принесена разумность расположения внутренних помещений; словом, «Хвалебное» характерный образец лжезамков, столь любезных сердцу старой буржуазии. Старинные семейства в наших местах страдают не меньше, чем женские монашеские общины, закоренелым пороком — и те и другие обожают строиться. Наши крестьяне, близкие родичи бретонских крестьян, ограничиваются тем, что прикупают землицы — если есть возможность, округляют свои поля. Самые богатые из них разве что позволяют себе построить прочный хлев из добротного камня, а камень — редкий у нас строительный материал, его доставляют из Беконской каменоломни, и перевозка обходится недешево. Но наши буржуа, по-видимому, чувствуют потребность нагородить побольше бесполезных комнат — соответственно количеству гектаров земли, на которые распространяется их право взимать поборы и охотиться на дичь.
«Хвалебное!» Тридцать две комнаты, с полной обстановкой, не считая часовни, не считая двух благородных башенок, в которых скрыты отхожие места, не считая огромной теплицы, нелепо обращенной на север, благодаря чему в ней каждую зиму замерзают олеандры, не считая маленькой фермы садовника, прилегающей к усадьбе, не считая конюшен, впоследствии ставших гаражами, не считая различных служб и множества беседок в парке, посвященных каждая какому-нибудь святому, скрючившемуся в нише, — во время крестного хода в канун дня Вознесения перед ними служили молебны о ниспослании хорошего урожая… Я еще забыл упомянуть о двух-трех голубятнях, давно уже отвоеванных воробьями, о трех колодцах, давно уже обвалившихся, но сохранивших шиферную кровлю, о двух парадных мостах, перекинутых через жалкую струйку воды, именуемую рекой Омэ, вдобавок к этому несколько шатких мостиков и десятка три каменных и деревянных скамеек, разбросанных по парку, чтобы дать приют изысканной усталости хозяина поместья.
Эта забота о хозяйских седалищах была единственным реальным стремлением к комфорту в нашем «Хвалебном». Телефон, центральное отопление оставались сказочной мечтой! Даже самые обыкновенные, самые простые удобства, о которых извещали объявления в местной газете, были там совершенно неизвестны. Питьевую воду весьма сомнительного качества доставали из старого колодца глубиною в сто метров, и бадью ставили на закраину всю в жирных слизняках. Только в гостиной имелся паркет, да и тот уложенный прямо на землю, так что половицы приходилось менять каждые десять лет, остальные же комнаты были вымощены терракотовыми плитками — именно «вымощены», так как плитки даже и не подумали сцементировать. А в кухне и того хуже: там полом служили большие плиты из сланца, добытого в Нуайан-ла-Гравуайер, кое-как скрепленные глиной. Печек мало, зато изобилие огромных каминов с чугунными подставками для дров. Добавьте к этому отжившие свой век проселочные дороги, усыпанные капустными кочерыжками, чисто местная, а следовательно, чисто крестьянская пища, — климат, весьма точно охарактеризованный старым девизом бывших сеньоров Соледо Кранского края: «Свети в водах, мое солнце!» — и вы согласитесь со мной, что наше «Хвалебное» было пригодно для жилья только летом, когда болота вокруг речки Омэ дымились на солнце, потом высыхали, покрывались корочкой, которая, растрескавшись, лежала широкими пластинами, и тогда по ним осторожно ступали легкими ножонками мальчишки, охотясь за яйцами славок.
Наша бабушка прекрасно это понимала и дважды в год, в точно определенный день, совершала переселение, не забывая захватить с собой пианино, швейную машинку и целую батарею медной кухонной утвари, имевшейся лишь в одном экземпляре. Однако позднее нам пришлось круглый год жить в Доме (с большой буквы) и довольствоваться им, как довольствовались местные небогатые помещики своими усадьбами, во всем похожими на нашу.
В те времена, к которым относится это повествование, то есть лет двадцать пять тому назад, наш край был куда более отсталым, чем теперь. Пожалуй, самым отсталым во всей Франции. Этот клочок глинистой земли, расположенный на рубеже трех провинций — Мен, Бретань и Анжу, — не отмечен крупными историческими событиями, кроме, может быть, тех, которые происходили в годы Революции, и, в сущности, не имеет определенного наименования. Называйте его как хотите: Анжуйский Бокаж, Сегрейский или Кранский край. Три департамента поделили эту бывшую марку, лежавшую между областями «большого» и «малого» соляного налога, отупевшую за долгие века неусыпного надзора и жестоких преследований. До сих пор сохранились зловещие названия: «Дорога соляной контрабанды», «Ферма кровавой соли», «Усадьба семи повешенных». Совсем не живописный край. Болотистые луга, поросшие осокой; дороги в ухабах, требующие повозок с огромными колесами; бесчисленные живые изгороди, превратившие поля в шахматную доску, где каждая клетка окружена щетиной колючего кустарника; старые кривые яблони, обвитые омелой; пустоши, заросшие дроком, а главное — тысяча и одно болото, порождающие мрачные легенды, водяных ужей и немолчных лягушек. Рай земной для бекасов, кроликов и сов.
Но отнюдь не райская обитель для людей! Хилый народ, классический тип «выродившегося галла», кривоногий, сильно подкошенный туберкулезом и раком; как встарь, приверженный к обвисшим усам и чепцам с голубыми лентами, к густой, как раствор цемента, похлебке, покорный церкви и помещику, недоверчивый, как ворон, цепкий, как сорняк, падкий на сливянку и особенно на грушовку. Почти все они арендаторы, обрабатывают насиженные земли, которые переходят от отца к сыну. Крепостные в душе, они посылают в парламент с полдюжины виконтов-республиканцев, а в церковные школы — с полдюжины мальчишек, которые с годами становятся рабочими-испольщиками и бесплатными прислужниками.
Это обветшалое обрамление вполне соответствовало нашей былой славе, ныне всеми позабытой, подобно ночным колпакам. Узнайте же наконец, что я принадлежу к знаменитому роду Резо. Знаменитому, понятно, не в масштабе всей планеты, но, во всяком случае, за пределами департамента. На всем западе Франции наши визитные карточки (литографированные, если представлялась возможность) всегда лежат на медных подносах поверх других. Буржуазия нам завидует. Дворянство нас принимает, а иной раз даже выдает за отпрысков нашего рода своих дочерей, если только не покупает одну из девиц Резо. (По правде говоря, увлеченный остатками нашей подмоченной гордыни, я забыл поставить глаголы этой фразы в прошедшем времени.)
Исторические анекдоты наверняка не осведомят вас о том, что Клод Резо, вандейский капитан, первым ворвался в Пон-де-Се в дни кратковременного наступления «королевской и католической» армии. (С тех пор поют: «…католической и французской».) Имя Фердинана Резо, вначале состоявшего секретарем претендента на престол, а затем депутатом-консерватором в парламенте «ихней» республики, вероятно, тоже не врезалось вам в память.
Но Рене Резо? Кто же не знает Рене Резо, низенького усатого человечка, размахивавшего шляпой в арьергарде Бурнизьена, Резо, чей талант так щедро проявлялся при раздаче наград в церковных школах департамента? Помните это и относитесь ко мне с уважением, ибо Рене Резо приходится мне двоюродным дедом. Возвращение к земле, возвращение Эльзаса, возвращение к феодальным замкам, возвращение к христианской вере — вечное возвращение на круги своя! Нет, вы, конечно, не забыли этой программы. Репе Резо, гордость и блеск нашего семейства, родился слишком поздно для того, чтобы вступить в ряды папских зуавов, а скончался слишком рано, чтобы стать свидетелем триумфа партии народно-республиканского движения, но его не мог выбить из седла ни один из лозунгов, выдвигавшихся в период между тремя войнами. Кавалер командорского креста св. Григория, подписывавший выгоднейшие договоры с издательствами, выпускавшими благочестивую литературу, сумел завоевать славу семейству Резо, завладев креслом члена Французской академии, где с удовольствием просидел около тридцати лет. Мне, разумеется, не нужно вам напоминать, что смерть поразила его в 1932 году, после долгой и изнурительной болезни мочевого пузыря, и что кончина эта, окружившая его ореолом мученичества, послужила поводом для бесконечного скорбного шествия почтенных, благомыслящих людей, дефилировавших мимо его гроба под каплями святой воды, падавшими с кропила, и брызгами слюны разгоряченных ораторов.
У этого героя был младший брат, и этот младший брат стал моим родным дедом, и мой дед, подобно всем людям, имел жену, и носила она евангельское имя Мария. Он наградил ее одиннадцатью чадами, но лишь восемь сумели пережить «христианское воспитание». Дедушка произвел на свет одиннадцать детей потому, что первые шесть младенцев были женского пола, из них четырем дочерям пришлось постричься в монахини (они избрали наилучшую долю), а ему требовался сын, дабы продлить в веках имя и фамильный, хоть и не дворянский, герб Резо. Итак, мой отец родился седьмым и наречен был при крещении именем апостола Иакова Младшего (того самого, день которого празднуется за компанию со св. Филиппом). И эта дурная компания несколько подмочила его репутацию. И мой достопочтенный дед, после рождения долгожданного наследника, решил не умирать, пока не сотворит со своей женой Марией, то есть с моей бабушкой, еще четверых детей, и, таким образом, он удостоился высокой чести преподнести в дар господу богу будущего каноника в лице Мишеля Резо, своего последыша и любимца, ныне ставшего папским протонотарием… Аминь.
Итак, по воле случая, всемогущего случая, по прихоти которого один родился принцем королевской крови, а другой земляным червем и по милости которого какому-нибудь удачнику выпадет выигрыш из двух миллиардов билетов социальной лотереи, по воле этого случая я родился в семействе Резо на последней отдаленной ветви истощенного генеалогического древа, бесплодной смоковницы, посаженной в оскудевших кущах христианской веры. По воле случая у меня оказалась мать…
Но не будем забегать вперед. Знайте только, что в 1913 году мой отец, Жак Резо, доктор права, преподаватель Католического университета (должность неприбыльная, как и следовало ожидать), женился на очень богатой мадемуазель Поль Плювиньек, внучке банкира Плювиньека, дочери сенатора Плювиньека, сестре лейтенанта Плювиньека, офицера кирасирского полка, павшего на поле брани (что увеличило ее надежды на наследство). У нее было триста тысяч франков приданого. Триста тысяч франков золотом! Она воспитывалась в пансионе города Ванн, проводя там даже каникулы, и, как только окончила курс наук, родители, слишком занятые светской жизнью и политической деятельностью, не желая заниматься этой скрытной девочкой, выдали ее за первого попавшегося жениха. Ничего больше я не знаю о ее молодости, которая ничуть не оправдывает нашу молодость. Отец мой любил подругу юности, молоденькую протестантку, но академик Рене Резо бдел, и отец женился на большом приданом, которое позволило ему жить по-княжески до того дня, когда господин Пуанкаре произвел девальвацию. От этого супружеского союза, ставшего для Резо необходимым ввиду их бедности, родились один за другим три сына: Фердинан, которого называйте Фреди или Рохля, Жан, то есть я сам — меня именуйте как угодно, но если кто посмеет воскресить мое прозвище Хватай-Глотай, тот получит по морде; наконец, Марсель по кличке Кропетт. За сим, как мне говорили, последовало несколько выкидышей, я думаю об этих недоношенных Резо с некоторой завистью, ибо им посчастливилось остаться в стадии зародышей.
В лето от Рождества Христова 1922-е, когда я задушил гадюку, нас с Фреди доверили попечению нашей бабушки. «Доверили» — тут скорее эвфемизм. Энергичное вмешательство старухи бабушки, которую нам не разрешалось называть «бабуся», хотя сердце ее было достойно этого плебейского ласково-уменьшительного имени, спасло нас от мучений, оставшихся для нас неведомыми, но, несомненно, жестоких. Я представляю себе бутылочки с молоком, разбавленным грязной водой, сопревшие мокрые тюфячки и истошные вопли младенцев, которых никто не укачивает… Ничего в точности я не знаю. Но у молодой матери не отнимают детей без серьезных оснований.
Наш младший брат Марсель не входил в число питомцев бабушки. Он родился в китайском городе Шанхае, куда мсье Резо по его ходатайству назначили профессором международного права в Католическом университете общества «Аврора».
В разлуке с родителями мы познали недолгое счастье, иногда нарушаемое карами в виде лишения сладкого, шлепков и приобщением к суровым мистическим порывам.
Да, должен откровенно признаться, что с четырехлетнего до восьмилетнего возраста я был святым. Нельзя безнаказанно жить в преддверии неба, в обществе чахоточного аббата, освобожденного по состоянию здоровья от обязанностей священнослужителя, в соседстве с писателем, понаторевшим в душеспасительных сочинениях, и бабушки, старухи, умилительно строгой по части Священного писания, да еще целой кучи кузенов и тетушек, более или менее причастных к какому-нибудь монашескому ордену, ничего не смыслящих в математике, но чрезвычайно сведущих в двойной бухгалтерии отпущения грехов (откроем кредит душам, пребывающим в чистилище, дабы сии вновь избранные занесли моления наши в свой дебет и заплатили нам предстательством за нас перед богом).
Я был святым! Мне крепко запомнилась некая тесемочка… Что ж, я не побоюсь выставить себя в смешном виде. Надо же вам вдохнуть благоухание моей святости, которой, однако, мне не довелось сохранить до гробовой доски.
Этой тесемочкой была перевязана коробка шоколада. Шоколад, надо полагать, не был отравлен, хотя его прислала мадам Плювиньек — кажется, следовало сказать «бабушка», — все еще красивая дама, супруга сенатора из Морбиана. Шоколад посылался по этикету родственных чувств трижды в год: на Новый год, на Пасху и каждому из нас на именины. Мне разрешалось съедать по две шоколадки в день — одну утром, другую вечером, и предварительно полагалось перекреститься.
Не помню в точности, какое я совершил прегрешение: может быть, съел лишнюю конфетку, воспользовавшись рассеянностью мадемуазель Эрнестины, а возможно, в спешке перекрестился небрежно — помахал рукой, словно отгоняя мух, за что меня всегда с негодованием распекали:
— Это ведь не крестное знамение, а кривляние, Хватай-Глотай!..
…Не помню точно, помню лишь, какое меня охватило раскаяние и сокрушение. И вечером, у себя в спальне («Хвалебное» было столь обширно, что у каждого из детей с самого нежного возраста была своя спальня. Это полезно во многих отношениях. И потом, это приучает малышей не бояться темноты)… так вот, вечером в спальне я решил, что должен действовать в полном согласии с Иоанном Крестителем (святой, именем коего меня нарекли, состоял моим ангелом-хранителем и до некоторой степени слугой, как и подобает ангелу-хранителю юного отпрыска семейства Резо, которому не пристало одному нести малое бремя своих грехов)… Итак, вечером, в своей спальне, я решил наложить на себя епитимью. Тесемочка от коробки шоколада «Маркиза», плоская и довольно жесткая тесемочка, вдохновила меня на муки, несомненно угодные господу богу. Я препоясался ею и затянул так туго, что мне стало действительно больно. Я стягивал ее так же, как стискивал гадюку: сперва весьма решительно, затем, минуты через три, с меньшим энтузиазмом, а в конце концов с сожалением. Я никогда не был неженкой: меня просто не научили им быть. Но есть предел терпению ребенка, и он не очень велик, в особенности когда за плечами у него только шестилетний опыт страданий. Я перестал стягивать тесемочку под тем предлогом, что она может лопнуть. Нельзя же было свести на нет свою жертву.
А главное, не следовало уничтожать ее следов — ведь утром мадемуазель Эрнестина, несомненно, придет меня будить, приговаривая, как каждую субботу:
— Ну скорей, скорей вставайте, лентяй!.. Возблагодарим господа, ниспославшего нам еще один день, дабы мы послужили Всевышнему… Пора менять белье. «Во имя отца и сына…» Постарайтесь рубашку не пачкать, в клозете ведите себя поаккуратнее. «Отче наш, иже еси на небеси…»
Достославная суббота! Мадемуазель Эрнестина сразу заметит тесемочку. Я заснул, не подозревая, что в простоте душевной совершил тяжкий грех, впав в сатанинскую гордыню.
Но на следующее утро мадемуазель Эрнестина об этом даже не догадалась.
— Ах, — воскликнула она, — какой несносный мальчишка!
Затем, спохватившись, посмотрела на меня с некоторым уважением и добавила:
— Жан, господь бог не позволяет человеку шутить со своим здоровьем. Я обязана немедленно обо всем доложить вашей бабушке.
Я упивался ее словами, но, разумеется, разыгрывал целомудренное отчаяние поруганной души. Пять минут спустя бабушка в старинной шали с бахромой, накинутой на капот, склонилась надо мной, осыпая меня упреками. Но тон ее совсем не был строгим, да и взгляд светился боязливой гордостью. Своими длинными тонкими пальцами детской романистки (ведь она тоже писала нравоучительные романы) бабушка с нежностью провела по красной полоске этому красноречивому стигмату моего мученичества, все еще опоясывающему меня.
— Обещай, миленький Жан, что не будешь больше подвергать себя истязаниям, не сказавшись мне.
В то утро она не назвала меня Хватай-Глотай. Я обещал. Бабушка вышла из комнаты, покачивая головой так же, как и мадемуазель Эрнестина; обе они были неспособны покарать маленького святого. Слух у меня довольно хороший, и я расслышал, какие наставления давала за дверью бабушка:
— Следите повнимательнее за мальчиком, мадемуазель. Я за него тревожусь, по должна сознаться, что он внушает мне и большие надежды.
3
Протонотарий, гувернантка, старые слуги, осень в «Хвалебном», зима в Анже, бабушкин шиньон, двадцать четыре различные молитвы в течение дня, торжественные визиты академика, школьники, почтительно снимавшие береты при встрече с нами, кюре, являвшийся к нам домой за пожертвованиями на благолепие храма и к празднику св. Петра и за взносами в фонд распространения христианского вероучения, бабушкино серое платье, сладкие пироги со сливами, песенки Ботреля под аккомпанемент разбитого фортепьяно, дожди, живые изгороди и птичьи гнезда в живых изгородях, праздник Тела господня, первое причастие в домовой часовне, первое торжественное причастие Фреди, молитвенник в его руках, тот самый, по которому читал молитвы наш отец, а до него — дед Фердинан, а до него прадед, тоже носивший имя Фердинан; каштаны в цвету…
Потом бабушка вдруг умерла.
В три дня ее унесла уремия — фамильный недуг, болезнь людей образованных, как будто природа мстит тем, кто не изгоняет из своего организма мочевину трудовым потом. Эта знатная дама, и вместе с тем добрая женщина (мое сердце не забыло ее), сумела умереть с достоинством. Решительно отказавшись от зондов и прочего отвратительного ухода, который продлил бы на несколько дней ее жизнь, она потребовала к себе сына-аббата, дочь, графиню Бартоломи, проживавшую в Сегре, и сказала им:
— Я хочу умереть прилично. Я знаю, что пришел мой конец. Не возражайте. Велите горничной достать пару вышитых простынь с четвертой полки бельевого шкафа — того, что стоит в передней. Когда она оправит постель, приведите ко мне внуков.
Так и было сделано. Бабушка сидела, опершись на подушки. Казалось, что она не страдает, хотя впоследствии я узнал, что смерть от этого недуга одна из самых мучительных. Ни тяжких вздохов, ни стонов. Нельзя, чтобы перед детьми предстало плачевное зрелище: пусть у них останется неизгладимое воспоминание о благородной агонии, изображаемой на лубочных картинках. Бабушка приказала нам стать на колени, с огромным трудом подняла правую руку и по очереди возложила ее на голову каждому из нас, начиная со старшего внука.
— Да хранит вас бог, дети мои!
Вот и все. Она больше не надеялась на свои силы. Мы вышли, пятясь спиной, как с королевской аудиенции. И ныне, когда прошло уже более двадцати лет, я с глубоким душевным волнением думаю, что она была достойна этой чести. Бабушка! О, конечно, она не походила на обычных баловниц бабушек, щедрых на поцелуи и конфеты. Но никогда я не слышал более выразительного покашливания, которым она старалась сдержать свое умиление, когда мы бросались к ней на шею с ласками. Ни у кого не видел я такой величественной осанки, но, когда у кого-нибудь из нас температура повышалась до 37,5, ее гордая голова поникала. Для той незнакомки, о которой в нашем доме никогда не говорили, но за которую молились два раза в день, наша седовласая бабушка, закалывавшая высокий шиньон черепаховым гребнем, всегда была и останется предшественницей, заклятым врагом, легендарным существом, которого нельзя ни в чем упрекнуть, у которого ничего нельзя отнять, и главное — его кончины.
Бабушка умерла. Появилась наша мать.
И вот идиллия становится драмой.
4
«Мама» — кое-кто из наших маленьких родичей говорил «мама» с таким видом, будто сосал сладкий леденец, да и точно так же произносили это слово, говоря о бабушке, протонотарий и тетушка Тереза, и, хотя в устах мадемуазель Эрнестины оно превращалось в тяжеловесное «ваша матушка», а некоторые наши близкие произносили его весьма сдержанно, все же это слово ласкало наш слух.
— Почемуй-то она никогда не напишет?
— Во-первых, следует говорить — почему она никогда не пишет. А во-вторых, вы несправедливы, Фреди. Ваша матушка прислала вам письмо к Рождеству. Да и не забудьте, Китай — это очень далеко.
Нет, «наша матушка» не писала нам. Они, я хочу сказать — мои родители, мсье и мадам Резо, прислали просто-напросто поздравительную открытку с готовым текстом, напечатанным по-английски: «We wish you a merry Christmas». Ниже две подписи. Первая — каракулями: Резо (наследник родового имени и герба ставит только фамилию). А вторая — клинообразная подпись гласила: Резо-Плювиньек. Обе подписи были подчеркнуты жирной чертой. Адрес был напечатан на машинке; вероятно, печатал Ли Фа Хонг, секретарь, которого мы представляли себе с длинной прекрасной косой, извивающейся по спине, и с семью языками во рту, дабы уметь хранить молчание.
Китай — это очень далеко. Но кажется, я в детском возрасте и мысли не допускал, что материнское сердце может быть еще дальше, нежели Шанхай. Мама! Мадам Ладур, наша соседка, мать шестерых детей, понятия не имевшая о положении дел, еще подогрела наше воображение:
— Мама! Это даже лучше, чем бабушка!
Ну еще бы! Мы сразу в этом убедимся!
Супругов Резо вызвали телеграммой, но они приехали только через восемь месяцев. Отряд наших дядюшек и тетушек, поредевший по причине брачных союзов или вступления на духовное поприще, не мог заменить умершую бабушку. Протонотарий выпросил себе назначение в Тунис, где климат мог доконать последние палочки Коха в его легких. Мадемуазель Эрнестина Лион не желала брать на себя тяжелую ответственность за наше воспитание. А кроме того, было еще «Хвалебное», прежнее майоратное владение, и надо было спасать его от налогового ведомства, претензий по закладным и от разделов по республиканским порядкам наследования.
Как-то к вечеру нас выстроили на перроне вокзала в Сегре. Мы были чрезвычайно возбуждены, верховная жрица, тетушка Бартоломи, и гувернантка с трудом нас сдерживали. Я прекрасно помню, как они перешептывались и тревожно вздыхали.
Поезд с громко пыхтевшим паровозом, похожим на большого тюленя — такие паровозы можно видеть только на узкоколейках, — опоздал на десять минут; ожидание казалось нам невыносимым, но вскоре мы пожалели, что оно не продлилось целую вечность. Волей всемогущего случая вагон, в котором ехали наши родители, остановился как раз перед нами. Появившиеся в окне густые усы, а по соседству с ними шляпка в форме колпака для сыра (модный в те годы фасон) побудили мадемуазель Эрнестину подвергнуть нас последнему осмотру:
— Фреди, выньте руки из карманов! Хватай-Глотай, держитесь прямо!
Но окно опустилось. Из-под шляпки в форме колпака для сыра раздался голос:
— Возьмите багаж, мадемуазель!
Эрнестина Лион покраснела и возмущенно зашептала на ухо графине Бартоломи:
— Мадам Резо принимает меня за горничную.
И все же она выполнила приказание. Наша мать удовлетворенно ухмыльнулась, обнажив два золотых зуба, и мы, в простоте душевной приняв эту усмешку за материнскую улыбку, в восторге бросились к вагонной дверце.
— Дайте же мне сойти, слышите?
Оторваться от нее в эту минуту было в наших глазах просто кощунством. Мадам Резо, вероятно, поняла наши чувства и, желая пресечь дальнейшие излияния, взмахнула своими руками в черных перчатках — направо, налево, и мы очутились на земле, получив по оплеухе, причем сила и точность удара свидетельствовали о долгой тренировке.
— Ох! — вырвалось у тетушки Терезы.
— Что вы говорите, дорогая? — осведомилась наша матушка.
Никто и бровью не повел. Мы с Фреди рыдали.
— Так вот как вы радуетесь моему возвращению! — заговорила мадам Резо. — Что ж, прекрасное начало! Какое, хотела бы я знать, представление о нас внушила детям ваша покойная матушка?
Конец этой тирады был обращен к мужчине скучающего вида, и таким образом мы узнали, что это наш отец. У него был длинный нос и ботинки на пуговицах. Тяжелая шуба с воротником из выдры сковывала его движения, и он с трудом тащил два больших желтых чемодана с пестрыми наклейками — лестным свидетельством путешествий во многие страны.
— Ну что же вы, поднимайтесь, — сказал он глухим голосом, словно процеживая слова сквозь густые усы. — Вы даже не поздоровались с Марселем.
Где же он, наш младший братишка? Пока взрослые, уже не обращая на нас внимания, учтиво приветствовали друг друга (о, не слишком горячо!), мы отправились на поиски Марселя и обнаружили его за чемоданом какого-то пассажира.
— Вы мои братья? — осторожно справился сей молодой человек, уже в те годы не отличавшийся словоохотливостью.
Фреди протянул ему руку, но Марсель не пожал ее. Косясь в сторону мамаши, он заметил, что она за ним наблюдает. В то же мгновение она крикнула:
— Дети, возьмите по чемодану!
Мне достался чемодан слишком тяжелый для восьмилетнего ребенка. Удар маминого каблука по моей ноге придал мне силы.
— Ну, вот видишь, ты же можешь его нести, Хватай-Глотай!
Мое прозвище прозвучало в ее устах нестерпимой насмешкой. Шествие тронулось. Фреди покосился на меня и потрогал пальцем кончик своего носа, что означало сигнал бедствия. Я хорошо расслышал, как мадемуазель Эрнестина Лион тут же доложила тетушке Терезе:
— Без конца подают друг другу знаки!
Это, во-первых, доказывало, что смысл этого сверхсекретного сигнала ей давно известен, а во-вторых, что она знает, какую загадку нам предстоит еще долго разгадывать в пронзительном взгляде женщины, которую нам уже расхотелось называть мамой.
5
Итак, мы собрались все вместе, все пятеро, — собрались для того, чтобы сыграть первый эпизод фильма с претензиями на трагедию, его можно было бы назвать «Атриды во фланелевых жилетах».
Нас пятеро, мы главные действующие лица, и надо сказать, что мы хорошо сыграли свои роли — ведь половинчатых характеров в семействе Резо не бывает. Пять главных персонажей и несколько статистов, обычно тут же отпадавших из-за недостатка кислорода человеческих чувств, в силу чего посторонние люди задыхались в атмосфере нашего клана.
Перечислим действующих лиц.
Во-первых, глава семьи, мало подходящий для этого положения, наш отец, Жак Резо. Если вам угодно будет перелистать «Определение характеров людей по их именам» (книжку, выпущенную каким-то «магом»), вы сможете убедиться, что в данном случае в ней дано совершенно правильное определение. «Люди, носящие имя Жак, — сказано там, — слабохарактерны, вялы, мечтательны, непрактичны, обычно несчастны в семейной жизни и не умеют вести свои дела».
Сущность моего отца можно определить в двух словах — бездеятельный Резо. Остроумия больше, чем ума. Больше тонкости, чем глубины. Большая начитанность и поверхностные размышления. Большие познания, мало мыслей. Фанатичность убогих суждений иной раз заменяла ему волю. Короче, один из тех людей, которые никогда не бывают сами собой и всецело зависят от обстоятельств, — людей, сущность которых меняется на глазах, лишь только меняется окружающая обстановка, и которые, зная это, отчаянно цепляются за привычную обстановку. Внешне папа был неказист — низкорослый, узкогрудый, немножко сутулый, как будто его тянула к земле тяжесть собственных усов. Ко времени нашей с ним встречи у него еще не было седины, но он уже начал лысеть. Он вечно жаловался, страдал мигренями и постоянно глотал аспирин.
В то время мадам Резо исполнилось тридцать пять лет, она была на десять лет моложе отца и на два сантиметра выше его. Напоминаю, что происходила она из рода Плювиньеков, весьма богатого, но не старинного… Выйдя замуж, она стала настоящей Резо и держала себя высокомерно. Сто раз я слышал, что она была красива. Хотите — верьте, хотите — нет, но у нее были большие уши, сухие, рассыпающиеся волосы, тонкие поджатые губы, тяжелая нижняя челюсть, по поводу которой наш острослов Фреди говорил:
— Как только она откроет рот, мне сразу кажется, что она дает мне пинка в зад. Не удивительно при этаком-то подбородочке!
Кроме нашего воспитания, у мадам Резо оказалась еще одна страсть: собирание марок. А кроме собственных детей, у нее было только два врага моль и шпинат. Больше ничего к этому портрету не могу прибавить, разве только что у нее были большие ноги и большие руки, которыми она прекрасно умела пользоваться. Количество килограммометров, израсходованных ее конечностями на мои щеки и зад, представляет собой интересную проблему бесполезной траты энергии.
Справедливости ради добавлю, что и Фреди заслуженно получал свою долю. Будущий глава нашего рода унаследовал от отца все его качества. Рохля этим все сказано. Таким он и будет всю жизнь. Свойственная ему сила инерции была пропорциональна количеству ударов и злобных окриков. Не забудем, что в раннем детстве у Фреди скривился нос из-за плачевной привычки, сморкаясь, вытирать его в одну сторону — справа налево.
Что касается Марселя, почему-то прозванного Кропеттом (происхождение прозвища туманно), я не хочу говорить о нем плохо. А то могут подумать, что я все еще ему завидую. Стопроцентный Плювиньек, а следовательно, прирожденный финансист, он не любил тесную одежду и обувь, был ученик не способный, но прилежный, обладал характером холодным, упорным, себялюбивым и глубоко лицемерным… Остановлюсь, а то я, пожалуй, не сдержу своего слова. Отличительные приметы спереди — хохолок прямо над самой серединой лба и большие навыкате глаза, такие близорукие, что, уронив очки, он с трудом их находил. Отличительные приметы с тыла: вихляющая походка и вислый зад. В детстве всегда казалось, что он наделал в штанишки.
Остается пятая карта нашего злополучного покера. Откроем ее. В комбинации из трех братьев я являюсь валетом пик.
Исповедоваться я не собираюсь. Вам достаточно знать, что меня не напрасно прозвали Хватай-Глотай, согласно фамильному и весьма неприятному обычаю, который роднит нас со знатными семьями Древнего Рима, где прозвища были обязательны. Озорник, сорвиголова, бунтарь, забияка, плутишка-воришка, «дрянной мальчик с золотым сердцем». Черноволосый, толстощекий до двенадцати лет, ненавидевший свои пухлые щеки, навлекавшие на меня материнские оплеухи. Рос я плохо, пока мне не вырезали гланды. К несчастью, те же уши, те же волосы, тот же подбородок, что у нашей матушки. Но я весьма гордился своими зубами, крепкими, как у всех Резо, единственное, что у них было здоровое и крепкое и что позволяло им обходиться без щипцов для орехов. Жадный до всего на свете, а больше всего жаждущий жизни. Очень занят собственной особой. Занят не меньше и другими людьми, но при том условии, чтобы у них хватало ума отводить мне не последнее место в своей жизни. Преисполнен почтения к незаурядному уму, будь то друзья или враги, и даже отдаю некоторое предпочтение врагам; одна бровь у меня выше другой, и я хмурю ее только в честь недругов.
Итак, на домашней сцене в «Хвалебном» выступают пять действующих лиц (включая и меня). Зрелище неповторимое! После возвращения родителей дом в Анже был продан. Отец решил круглый год жить в деревне и вышел в отставку, отказавшись от должности преподавателя Католического университета. Предлогом послужила малярия. В сущности, ему просто не терпелось объединить под своим вялым скипетром фамильные угодья и бесславно царствовать там, рассеивая скуку генеалогическими изысканиями и особенно энтомологией (он изучал разновидность мух — сирфидов). Папа был одним из крупнейших в мире сирфидологов. Правда, на всем земном шаре этих знатоков двукрылых насекомых насчитывается не больше сотни. В знаменитых желтых чемоданах, которые он тащил, сойдя с поезда, хранились драгоценные прототипы (для невежд поясню, что словом «прототип» обозначаются впервые найденные и описанные образцы, занесенные в каталоги специалистов). Отец хорошо поработал в Китае. Он привез оттуда пятьдесят новых видов. Это была его гордость, дело его жизни. Не удивительно, что, переехав в «Хвалебное», он прежде всего устроил на чердаке в правом крыле дома свой личный музей и только после этого проявил заботу о детях: нанял для них наставника.
И вот на сцене появляется шестое действующее лицо, правда эпизодическое, но важное, так как в этой роли будут выступать сменяющие друг друга актеры, все, однако, одетые в обезличивающую форму — сутану.
Первый из наших наставников носил белую сутану. Преподобный отец Трюбель действительно принадлежал к миссионерскому ордену «Белых отцов», проповедующих среди чернокожих и почитающих великим человеком кардинала Лавижери, первого примаса Африки, первого архиепископа Карфагенского (после завоевания этих руин). Отец Трюбель утверждал, что расстаться с Африкой его заставила болезнь печени. Позднее мы узнали, что он был исключен из ордена «Белых отцов» за то, что чересчур пламенно проповедовал Евангелие молодым негритянкам. Но когда он приехал к нам, то произвел на всех впечатление внушительное: на цепочке от часов, болтающейся ниже креста, у него висели в качестве брелоков три львиных когтя.
Только Альфонсина (сокращенно Фина) нашла в нем нечто подозрительное. Священник в белой сутане — где это видано! Она усмотрела тут посягательство на права его святейшества Пия XI, восседавшего тогда на папском престоле. Но оказывается, я незаметно вывел на сцену седьмое действующее лицо, которое до сих пор оставлял в тени, — старуху Фину, хотя она вовсе не годилась в актрисы. В оправдание ее скажем, что она была глухонемая и уже лет тридцать состояла служанкой в доме Резо — срок более чем достаточный для того, чтобы довести до отупения даже нормальное существо. К нашей матери она перешла по наследству от бабушки, которая платила этой несчастной пятьдесят франков в месяц. Вопреки всем девальвациям ей пришлось остаться при этом жалованье, зато ей присвоили множество званий: она была и горничной, и бельевщицей, и нянькой, и полотером, хотя нанималась всего только кухаркой. Мадам Резо находила, что покойная свекровь поставила дом на слишком широкую ногу, что это ей теперь не по средствам, и уволила одного за другим всех слуг. Фина, которая по своему увечью находилась в полной власти хозяйки, вынуждена была безропотно нести все возраставшие обязанности, но стала питать к мадам Резо почтительную враждебность, иногда приносившую нам пользу, и выражала это чувство «на финском языке» (еще одна острота Фреди), который понимали только в «Хвалебном»: говоря на нем, приходилось пускать в ход пальцы, брови, плечи, ноги, а иной раз даже издавать дикие звуки.
Перечислим теперь наших «крепостных».
Во-первых, папаша Перро («папашами», как правило, называют в Кранэ всех мужчин, даже холостяков, старше сорока лет, если эти люди от рождения не имеют права на почетное наименование «господин». Это обращение употребляется официально даже с церковной кафедры). «Волшебные сказки» Перро (понимайте под этим охотничьи рассказы, вернее — истории о браконьерских похождениях) были одной из редких радостей, услаждавших мое детство. Папаша Перро состоял у нас в «Хвалебном» садовником и полевым сторожем; он держал также бакалейную лавчонку в городке Соледо.
Затем следовал Барбеливьенский клан: отец — Жан Барбеливьен, последний галл, арендовал ферму, прилегавшую к нашей усадьбе; его жена Бертина мастерски орудовала вальком, полоща белье на речке, и мастерски сбивала масло (в наших краях масло сбивают в высоких кадочках с отверстием в крышке, где неутомимо движется нечто вроде деревянного поршня); дочка Бертинета с кривой шеей; сын, Жан-младший, по заслугам получивший кличку Разоритель Гнезд.
Затем семейство Гюо, арендовавшее ферму «Ивняки», обремененное многочисленными дочерьми, из которых одна, в годы моей юности, не была ко мне жестокой. Семейство Аржье, арендовавшее у нас ферму «Бертоньер», большие любители карпов, которых они тайком ловили ночью в нашем пруду при помощи вершей и даже бредня.
Наконец, тетушка Жанни, так и унесшая с собой в могилу секрет изготовления необычайно вкусного сыра в плетеных камышовых корзинах; папаша Симон, ее муж, который пас в овражках четырех пегих коров; кюре Летандар, его причт, торговец кроличьими шкурками и три сотни крестьян, регулярно ходивших по воскресеньям к мессе, — три сотни крестьян, которых мы так же плохо различали, как ворон в большой стае, но они, кажется, знали нас и при встречах с раболепной почтительностью кланялись нам: «Здравствуйте, барчук!»
Произведения
Критика