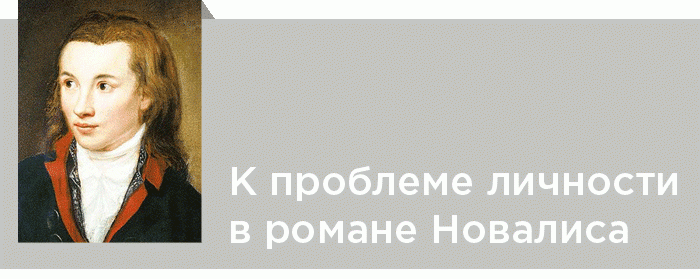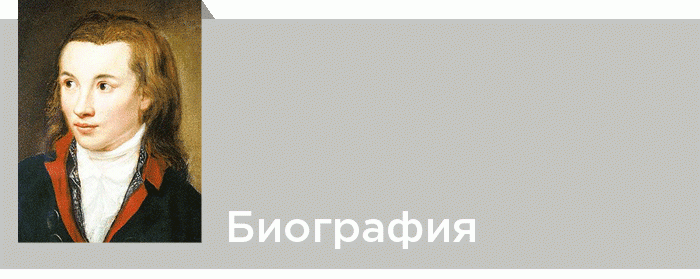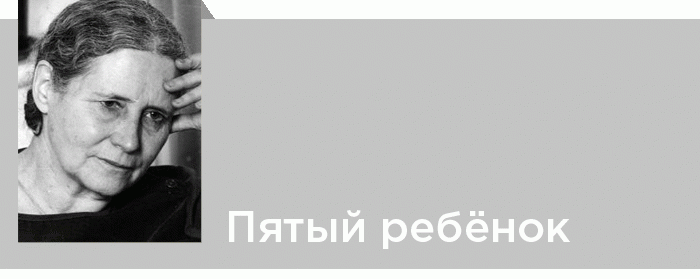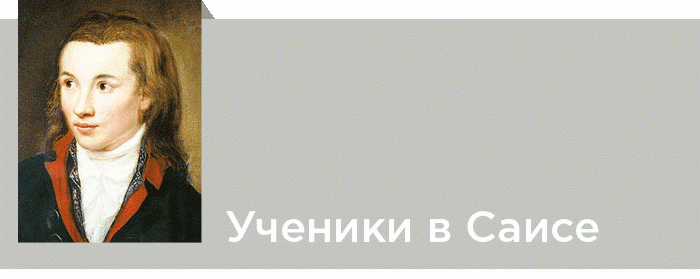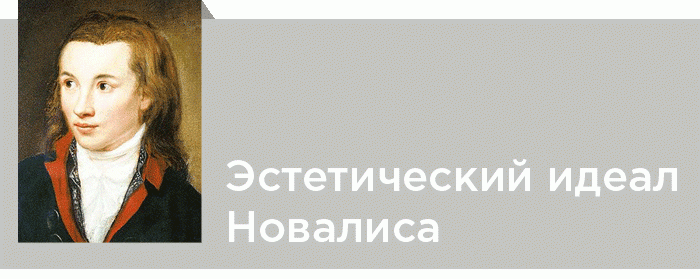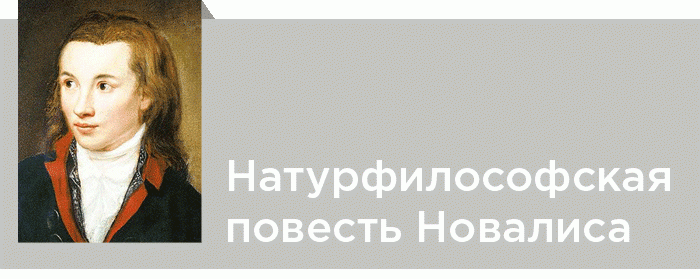Новалис. Генрих фон Офтердинген
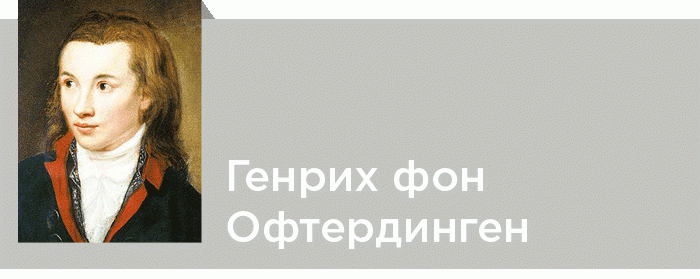
(Отрывок)
Посвящение
Меня ты побудила заглянуть
В такие задушевные глубины,
Что мне страшиться в бурю нет причины:
Твоей рукой указан верный путь.
К тебе младенцу сладко было льнуть,
Узрев твои волшебные долины;
В тебе одной все женщины едины:
Высокий твой порыв томит мне грудь.
Пускай земная жизнь ко мне сурова,
Твоим останусь в горести любой,
И песня музе ввериться готова.
Искусству, вдохновленному тобой,
Здесь, на земле, другого нет покрова;
Мой тихий ангел, будь моей судьбой!
* * *
Таинственно поэзия целит
Нас всех преображеньем бесконечным;
Там награждает муза миром вечным,
Здесь юностью блаженной веселит.
В зеницы свет поэзии пролит;
Нас просветив искусством безупречным,
Отрадная, усталым и беспечным
Для сердца хмель божественный сулит.
Обильным лоном сладостно вскормленный,
Всем существом обязан ей вполне,
Воспрянул я, пространством окрыленный.
Мой высший дух дремал еще во мне.
Меня возносит ангел благосклонный,
Открыв объятья в горней вышине.
Часть первая. ЧАЯНИЕ
Глава первая
Отец с матерью уже спали, слышался однозвучный ход стенных часов, в ставни со свистом стучал ветер, неяркий свет месяца чередовался в комнате с темнотой. Юноша не находил покоя на своем ложе, странник вспоминался ему и то, что поведал странник. «Нет, не клады пробудили во мне столь несказанное влечение, — говорил себе юноша. — Я далек от корысти: по голубому цветку я тоскую, увидеть бы мне только голубой цветок. Мои помыслы с ним неразлучны, о чем еще мне думать и мечтать! Впервые со мною творится такое: словно до сих пор я грезил или во сне обрел иной мир, ибо в мире, для меня привычном, кого беспокоили бы цветы, а уж о том, чтобы какой-нибудь чудак цветком прельстился, и помину не было. Да и откуда, кстати, этот пришелец?
Он ведь не из наших, на наших не похож, и невдомек мне, почему меня одного так зачаровали его речи; не я один его слушал, а больше никому ничего такого не попритчилось. Что за диво: этого даже высказать невозможно. То и дело я в каком-то блаженном восторге, и лишь тогда, когда цветок скрывается от меня, я в смятении, в глубоком внутреннем смятении, которого не с кем разделить мне. Я бы счел себя безумным, но я теперь лучше вижу, проницательней мыслю, давно знакомое мне теперь как бы открывается. Рассказывают, будто в старину звери, деревья и скалы говорили с людьми. Они, сдается мне, вот-вот опять начнут, и по ним я угадываю, что я услышал бы от них. Судя по всему, многие слова мне еще неведомы: знал бы я побольше, мне все было бы понятнее. Раньше мне нравилось танцевать, теперь мне больше нравится размышлять под музыку». И юноша потерялся в сладостных мечтаниях, погрузившись наконец в сон. Сперва пригрезились ему необозримые дали, глухая пустынная чужбина. Он преодолевал моря, сам не зная как, невиданных чудовищ видел он; с разными людьми переживал то войну, то буйную смуту. Он изведал плен и постыднейшую нищету. Все чувствования обострились в нем сверх всякого вероятия. Он испытал бесконечную переменчивость судьбы, умер, вернулся к жизни, любил высочайшей, страстной любовью и снова навеки был разлучен со своей любимой. Только под утро, когда за окном забрезжило, на душе прояснилось, видения стали отчетливее и длительнее. Он как будто блуждал, одинокий, в дремучем лесу. Лишь кое-где зеленая сеть пропускала дневной свет. Вскоре перед ним оказалась расселина горы, ведущая ввысь. Взобраться можно было только по замшелым камням, которые выворотил наверху и оставил на своем пути прежний поток. Лес редел, чем выше, тем заметнее.
Наконец юноша добрался до луговины на горном склоне. Еще выше путь преграждала круча, однако снизу виднелся как бы проем и начало хода, прорубленного в сплошной толще. Ход, позволяя идти без всяких затруднений, расширялся впереди, так что сияние издалека лилось навстречу путнику. Вступив в это сияние, он увидел как бы ключ, откуда бьет неудержимый поток света, достигая свода и там дробясь неисчислимыми, огнецветными брызгами, сыплющимися вниз и скапливающимися в большой чаше, вернее, в озере; свет отливал пламенеющим золотом; все это совершалось бесшумно, благоговейная тишина облекала торжественное действо. Он остановился над озером, подернутым непрерывной, многоцветной, трепетной зыбью. Стены пещеры были увлажнены теми же брызгами, скорее студеными, чем жгучими, так что по стенам струился голубоватый отсвет. Окунув руку в озеро, он поднес ладонь к своим губам. Словно некий дух овеял все его существо отрадной бодрящей свежестью. Он желал неодолимо, он вожделел омовения и, раздевшись, погрузился в озеро. Небесное чувствование переполнило его душу, как будто вечерняя заря омывала его своим облаком, бесчисленные мысли стремились в нем блаженно сочетаться; небывалые неведомые образы зарождались в нем, сливались и, уже зримые, носились вокруг него; и волны упоительной стихии, как нежные перси, приникали к нему. Казалось, в потоке растворены девичьи прелести, услаждающие на миг своей телесностью, стоит им соприкоснуться с юношей.
В упоении не утратил он, однако, чуткой восприимчивости; ему было легко и привольно, течение уносило его из озера в глубь скалы. Им овладело сладостное забытье, ему грезились неописуемые события, пока освещение не переменилось, разбудив его. Осмотревшись, увидел он, что лежит на мягкой траве около другого ключа, бьющего в воздух, чтобы в воздухе расточить себя. Темно-голубые утесы с разноцветными прожилками высились неподалеку; день, царивший вокруг, был светлее обычного дня, но свет был менее резким; ни облачка на черно-голубом небосводе. Ничто, однако, не влекло его с такой силой, как высокий светло-голубой цветок с большими, сверкающими листьями, окропленными родником. Вокруг пестрело неисчислимое множество других цветов, насыщавших воздух чудным запахом. Но, ничего не замечая, с неизреченной нежностью созерцал он лишь голубой цветок. Он вознамерился было подойти к цветку, когда цветок затрепетал и начал преображаться, листья засверкали ярче и прильнули к стеблю, удлинявшемуся на глазах, и цветок стал клониться к юноше, и над лепестками, как над голубым воротничком, возникли нежные черты. Изумляясь все более, он блаженно созерцал это дивное преображение, пока голос матери не прервал его сна и не увидел он, что комната в родительском доме, где он находится, вся залита золотым утренним солнцем. Он был слишком восхищен для того, чтобы роптать на помеху; напротив, он ласково пожелал матери доброго утра, отвечая на ее сердечное объятие.
— Вот сонливец, — молвил отец, — сколько времени я здесь просидел уже с напильником; молотка мне нельзя было и в руки взять, мать не велела, пусть, мол, дорогой сыночек выспится. Да и завтрака пришлось подождать. Ты знал, что делал, когда выбирал себе ремесло ученого; выходит, мы бодрствуем и работаем ради науки. Правда, дельному ученому, как я слышал, тоже спать некогда, и дня ему мало, если он хочет освоить великое наследие мудрецов.
— Дорогой отец, — ответил Генрих, — не надо корить меня долгим сном, вы сами знаете, что я никогда не грешил сонливостью. Лишь поздно ночью удалось мне заснуть, к тому же беспокойные сновиденья одолевали меня, пока наконец не посетило меня отрадное сновиденье; так или иначе мне долго не забыть его.
— Генрих, дорогой мой, — проговорила мать, — ты, наверное, лежал навзничь, или неуместные мысли отвлекли тебя от вечерней молитвы. И сейчас ты выглядишь не как всегда. Пора тебе подкрепиться.
Когда мать ушла, отец, работая по-прежнему тщательно, произнес:
— Сны не верны, вольно господам ученым толковать их и так и эдак; не худо бы тебе отстать от этих праздных и пагубных бредней. Это в былые времена божественные виденья посещали человека, подобно снам, что для нас непостижимо; мы в толк не возьмем, каково было мужам богоизбранным, о которых повествует Библия. Тогда по-другому обстояло дело и со сновиденьями, не только с человеческими начинаниями.
В нашем веке мир не таков, и нам самим больше не дано сноситься с небом без посредников. Когда нужно постигнуть горнее, мы удовольствуемся старинными преданьями да писаньями, других источников нет; Дух Святой теперь нас не удостаивает явных откровений, он вещает через разумение, дарованное мужам рассудительным и благомыслящим, через жития праведников, наставляющих нас участью своей и примером. А нынешние чудотворные образы мало что дали мне, и я не очень-то верю в те великие деяния, которые приписывает им наше духовенство. Впрочем, если кто-нибудь ищет наставления в них, пусть ищет; не подобает мне ставить в тупик благочестивую доверчивость.
— Но, дорогой отец, по какой причине вы отвергаете сны, чья причудливая изменчивость, чей легкий нежный состав не может не волновать нашу мысль? Даже если не думать при этом о Божественном, не являет ли нам сновиденье самой своей путаницей нечто необычное, неспроста разрывая покров тайны, покров, опускающийся внутри нас всею тьмою своих складок? В глубокомысленнейших книгах нет числа повествованиям о снах, о них повествуют люди, достойные доверия, да и вам стоит вспомнить хотя бы сон, рассказанный нам недавно высокочтимым придворным капелланом; этот сон произвел впечатление на вас же самих.
Но и без всяких повествований, когда бы вас впервые в жизни посетило сновиденье, как могли бы вы не изумиться, как могли бы вы оспаривать необычайность этого явления, допустим, примелькавшегося для нас! Сновиденье, сдается мне, обороняет нас от жизни, удручающе размеренной и привычной, освобождает узницу-фантазию, чтобы та отдохнула, разбрасывая вперемежку все зарисовки жизненного опыта, веселой детской игрой рассеивая всегдашнюю взрослую деловитость. Если бы не сновиденья, старость приходила бы гораздо скорее. Даже если греза — не откровение свыше, я склонен полагать, что она — Божественное напутствие, доброжелательная проводница в нашем паломничестве к Святому Гробу. Нет сомнений, то, что мне снилось нынче ночью, не останется в моей жизни без последствий: у меня такое чувство, что этот сон для моей души — стремительное колесо, влекущее вдаль.
С ласковой улыбкой отец молвил, глядя на мать, только что вошедшую:
— Мать, а ведь по Генриху видно, какой час привел его в этот мир. В его словах прямо-таки играет огненное италийское вино, которым я догадался запастись в Риме, и как оно пригодилось на нашей свадьбе! Я и сам был тогда молодцом, не то, что теперь. Я оттаял на юге, удаль и страсть переполняли меня, да и ты была девица пылкая и прекрасная. А как великолепно было у твоего отца; сколько скоморохов и певцов нагрянуло отовсюду; небось Аугсбург не запомнит свадьбы веселее.
— Вы рассуждали давеча о снах, — молвила мать. — Ты мне, знаешь ли, сам тогда рассказывал о том, что тебе приснилось в Риме и впервые навело тебя на мысль вернуться в Аугсбург и посвататься за меня.
— Ты кстати напомнила мне, — ответил старик. — Я совсем было запамятовал тот причудливый сон, хоть, признаться, довольно долго раздумывал над ним тогда, но ведь он как раз доказывает, что я не ошибаюсь насчет снов. Вряд ли может присниться сон, более отчетливый и связный, так что и ныне нетрудно восстановить все его обстоятельства, и что же, спрашивается, этот сон означал? Мне снилась ты, и сразу же я пожелал, чтобы ты стала моею, так ведь нет ничего естественнее: ты была уже знакома мне. Твоя красота и твое радушие глубоко тронули меня едва ли не с первого взгляда, и разве только потому, что меня одолевала охота проведать чужие края, отсрочил я свое сватовство. Мой сон совпадает со временем, когда любопытство мое было почти утолено и сердечная склонность могла взять свое.
— Поведайте нам, однако, то причудливое сновиденье, — попросил сын.
— Бродил я как-то вечерней порою, — начал отец. — Погода стояла ясная, луна светила, и в бледных ее лучах старые колонны и стены выглядели жутковато. Мои приятели бегали за девушками, а я затосковал по родным местам, да и любовь меня влекла под открытое небо. В конце концов я почувствовал жажду и не преминул зайти на первую попавшуюся мызу в надежде выпить вина или хоть молока. Старик встретил меня, и, судя по всему, я не внушил ему сперва особого доверия. Я обратился к нему с моей просьбой, и, стоило ему узнать, что я немец, то есть чужестранец, он любезно пригласил меня в горницу и достал бутылку вина. Мой гостеприимец усадил меня и осведомился, какое у меня ремесло. Горница была забита книгами и разными антиками. Мало-помалу завязался обстоятельный разговор; сколько он мне всего поведал о былом, о живописцах, ваятелях, стихотворцах! Я не слыхивал, чтобы кто-нибудь о них говорил так. Ни дать ни взять, я вступил на почву некоего неведомого мира. А какие резные каменные печати, какие художественные поделки показал он мне, какие великолепные стихи читал, и с каким жаром! Не знаю, сколько часов слилось для меня в единый миг. И сейчас у меня на сердце теплеет, стоит мне вспомнить, какая красочная сумятица странных помыслов и чаяний переполняла меня тогда ночью. Он освоился с древностью, как будто сам жил в языческие времена, и вы не поверите, как он томился, как тосковал по седой старине.
Потом он указал мне комнату, где мне предстояло дождаться утра; поздний час не позволял уже пуститься в обратный путь. Сон не заставил себя ждать, и мне привиделось, будто я в родном городе и куда-то направляюсь через городские ворота. Идти мне нужно вроде бы по делу, только невдомек мне, куда идти и что сделать. Гарц привлек меня, и я зашагал такими большими шага ми и так весело, будто отправился венчаться. Дорогу я вскоре потерял и пошел просто напрямик по долам и по лесам, пока не вышел к высокой горе. Когда я взобрался на гору, оказалось, что внизу пролегает Золотая долина, и вся Тюрингия видна была как на ладони, соседние горы не мешали мне смотреть. Прямо перед собой видел я темные горы Гарца с бесчисленными замками, монастырями, хуторами. Тут я поистине возвеселился сердцем, и представился мне старик, у которого я заснул, только думалось мне, я гостил у него когда-то, и много воды утекло с тех пор.
Вдруг заприметил я лестницу, ведущую в недра горы, и устремился вниз. Долго спускался я, пока не попал в пещеру, где за железным столом восседал старец в длинном одеянии, не сводя очей с прекраснейшей девы, которая стояла перед ним, изваянная из мрамора.
В железный стол вросла и сквозь него пробивалась борода, покрывая уже ноги старцу. Вид у него был суровый, но приветливый, я, помнится, видел похожие черты, рассматривая одну древнюю голову, намедни вечером показанную мне моим гостеприимцем. Пещеру заливал ослепительный свет. Я бы все еще стоял, всматриваясь в старца, когда бы хозяин пещеры, похлопав меня по плечу, не взял меня за руку и не повлек прочь из пещеры в длинные подземелья. Некоторое время спустя я заметил, как вдали забрезжило, словно белый день прорывался во тьму. Я поспешил туда и вскоре вышел на зеленую поляну, правда, в Тюрингии ничего подобного мне видеть как будто не доводилось. Чудовищные деревья с большими, сверкающими листьями росли вокруг, и тени от них падали далеко-далеко. Воздух был знойный, однако легко дышалось. Всюду родники, всюду цветы, и среди цветов особенно приглянулся мне один, которому другие цветы вроде бы кланялись.
— Ах, дорогой отец, не скажете ли вы мне, какова была окраска этого цветка? — вскричал сын в страстном порыве.
— Что забыл, то забыл, хотя все остальное и сейчас вижу чуть ли не воочию.
— Не голубой ли то был цветок?
— Может статься, — продолжал старик, от которого ускользнула неизъяснимая страстность Генриха. — Сколько помню, я все равно не мог бы высказать, что творится в моей душе, и мне было не до моего провожатого. Наконец я обернулся и увидел, что он пристально за мной наблюдает и улыбается мне с неподдельной радостью. Не припомню, как я покинул эту поляну. Я стоял опять на той же горе. Рядом я увидел моего провожатого, который молвил: «Чудо мира явлено тебе. От тебя теперь зависит, обретешь ли ты величайшее счастье и достигнешь ли славы в придачу. Слушай внимательно мои слова: если ты в Иванов день, когда свечереет, снова побываешь здесь и от всего сердца помолишься Богу, чтобы Он даровал тебе уразумение этого сна, ты сподобишься высочайшего земного удела; только ты не пропусти голубого цветка, найди и сорви его здесь, а дальнейшее смиренно предоставь Провидению». И меня в том же сне окружили прекраснейшие образы и живые люди, у меня перед глазами промелькнули бесконечные переменчивые века чарующей чередой. Язык мой, что ли, тогда развязался, я говорил, а слышалась музыка. Потом все померкло, сузилось, примелькалось; твоя мать предстала мне, глядя на меня стыдливо и ласково: на руках у нее был младенец, подобный светочу, она принесла его мне, и младенец рос на глазах, и светил все ярче, и наконец взмыл над нами, раскинув ослепительно белые крылья, взял нас на руки и так высоко вознес, что земля в моих глазах походила на золотое блюдо с тончайшей резьбой. Потом, вспоминается мне, опять был тот цветок, была гора и был старец, только вряд ли я долго спал: неодолимая любовь пробудила меня. На прощанье гостеприимный хозяин пригласил меня заходить к нему, я, конечно, не возражал и, наверное, зашел бы, задержись я в Риме, но я сломя голову кинулся в Аугсбург.
Глава вторая
Иванов день уже прошел, а между тем давно пора было матери посетить в Аугсбурге отцовский дом, пора было ей привезти к деду дорогого внука, еще не знакомого с дедом. Нашлись попутчики: купцов, испытанных друзей старого Офтердингена, влекли в Аугсбург торговые дела. Тут мать решила не упускать случая и последовать своему давнему намерению, чему немало способствовала душевная тревога, так как мать не могла не видеть: с некоторых пор Генрих сосредоточен и молчалив больше прежнего. Ей думалось, Генрих заскучал или ему нездоровится и дальняя дорога, знакомство с новыми людьми и землями, а также, как она уповала про себя, обаяние юной уроженки Аугсбурга преодолеют сыновнюю мрачность и снова сделают Генриха общительным и беспечным, каким она его всегда знала. Старый Офтердинген одобрил это начинание, а сам Генрих был рад-радехонек посетить страну, о которой столько слышал от матери и разных путников, что давно привык считать ее настоящим земным раем, куда он порывался часто, но покуда напрасно.
Генриху как раз минуло двадцать лет. Ему никогда еще не доводилось покидать пределы области, прилегающей к родному городу; остальной мир был ведом Генриху только с чужих слов. При дворе ландграфа, как тогда было заведено, избегали всякого шума и суеты, так что княжеский уют и даже роскошь княжеского обихода явно уступали бы тому благополучию, которое в позднейшие времена обеспечивал себе и своим домочадцам любой зажиточный обыватель, не впадая при этом в расточительство. Тем проникновеннее и сердечнее была привязанность к пожиткам и утвари, окружающим человека ради разнообразных повседневных нужд. Пожитки и утварь не просто дороже ценились, они больше значили. Сама тайна их естества, состав их вещественности пленяли чающий дух; при этом склонность к безмолвной свите, сопровождающей человеческую жизнь, усугублялась особым навыком, их романтической далью, откуда они происходят, освященные древностью, бережно хранимые, нередко наследие многих поколений. Сплошь и рядом подобные предметы обретали такое достоинство, что в них начинали видеть благословенные реликвии, чуть ли не талисманы, ниспосланные судьбой на благо целым державам или многочисленным разветвлениям какого-нибудь старинного рода. Отрадная бедность красила те времена своей особой, невинной и строгой безыскусственностью, и сокровища, угадываемые кое-где, тем знаменательнее поблескивали в сумерках, внушая глубокомыслию чудесные предчувствия. Если сокровенное великолепие зримого мира выявляется разве только известным распределением света, тени, красок и при этом как бы дано отверзаться новому высшему взору, подобное действенное освещение распространялось тогда повсюду, а более позднее, более зажиточное время, напротив, являет картину вездесущего дня, бедную оттенками и смыслом. Кажется, высшая духовная мощь всегда готова прорываться в переходах, в промежутках между двумя царствами, и как в пространстве, нами заселенном, изобильнейшие богатства почвы и недр находятся на одинаковом расстоянии от пустынных бесплодных гор и бескрайних степей между теми и другими, так между веками неотесанного варварства и сведущими, искушенными, запасливыми временами осталась глубокомысленная романтическая пора, чей возвышенный облик таится в простом облачении. Кому не по душе бродить в сумерках, когда тьма и свет как бы преломляются друг во друге величественными тенями и красками! Так и мы рады углубиться в годы, когда жил Генрих, устремляясь всем сердцем навстречу тому новому, что ожидало его. Он простился со своими сверстниками и со своим наставником, престарелым придворным капелланом, которому были ведомы обнадеживающие задатки Генриха, так что мудрый старец напутствовал его своей тихой молитвой, сердечно тронутый. Генрих был крестником ландграфини и всегда посещал ее, будучи принят при Вартбургском дворе, и теперь он отпросился в путь у своей покровительницы, которая его удостоила добрых наставлений и пожаловала ему золотую цепь, обласкав юношу на прощанье.
В печальном настроении расставался Генрих и со своим отцом, и со своим родным городом. Только теперь изведал он расставание; до сих пор, воображая себе дальнюю дорогу, он вовсе не испытывал неизъяснимого чувства, охватившего его теперь, когда, отторгнутый от своего прежнего мира, он был как бы влеком к чужому побережью. Такова беспредельная печаль юности, впервые познающей, как проходит все земное, казавшееся насущным и незаменимым, в своем переплетении с бытием невольно принимаемое за само вечное бытие. Первое предвестие смерти, первая разлука незабываема, она сначала устрашает, как устрашает ночной морок, потом, притупляя вкус к дневному разнообразию, усиливая тоску по надежному прочному существованию, она сопутствует в жизни как дружественное указание и привычное утешение. Мать была рядом, и это успокаивало юношу. Еще не совсем канул в былое прежний мир, близкий вдвойне. За ворота Эйзенаха выехали спозаранку, и в предрассветном сумраке Генрих был растроган еще более. С рассветом все отчетливее простирались перед ним новые неведомые области, а когда на некой возвышенности ему открылась покинутая округа, освещенная солнцем, мелодии былого поразили юношу, вмешавшись в унылую череду его помышлений. Он почувствовал себя в преддверии тех далей, куда частенько всматривался с ближних вершин, разрисовывая недосягаемое причудливейшими красками своего воображения. Достигнув этого потока, он собирался погрузиться в его глубизну. Чудо-цветок манил его, и Генрих оглядывался на Тюрингию, оставшуюся позади, охваченный несказанным чаяньем, как будто долгое странствие в направлении, выбранном ими теперь, ведет назад, на родину, куда он, собственно, и держит путь. Остальное общество, присмиревшее было, подобно Генриху, ожило постепенно, коротая время во всевозможных беседах и россказнях. Мать Генриха решила, что пора прервать мечтания сына, и не скупилась на рассказы о своей родине, об отчем доме, о веселой Швабии. Купцы вторили ей, подкрепляя ее слова новыми подробностями, превозносили гостеприимство старого Шванинга и без устали расточали похвалы прелестным единоземкам своей спутницы.
— Вы поступаете как нельзя лучше, — сказали купцы, — вашему сыну там стоит побывать. На вашей родине обычаи не столь суровы, там больше любезности. Полезное там не в забросе, однако приятное тоже в чести. Там тоже никто своего не упускает, но при этом ценится и привлекательная общительность. Купцы там благоденствуют, снискав людское уважение. Ремесла и промыслы приумножаются, совершенствуются; прилежному работа легка, так как работа сулит немало удовольствий, и скучные тяготы, вне сомнения, вознаграждаются, позволяя разделить красочные плоды различных прибыльных предприятий. Деньги, деятельность и товар друг друга порождают, способствуя процветанию городов и весей. Если день поглощен ревностной предприимчивостью, тем безраздельнее вечер принадлежит восхитительным развлечениям в дружеском кругу. Хочется отдохнуть и рассеяться, а как при этом сочетать приличие и очарование, не предаваясь вольным играм, пренебрегая плодами совершеннейшей внутренней силы, зиждительного глубокомыслия? Нигде не поют лучше, нигде не рисуют красивее, нигде не танцуют с таким изяществом при такой приглядной стати. Соседство италийской земли дает себя знать в непринужденных манерах и в занимательных разговорах. Отнюдь не возбраняется блистать в обществе прекрасному полу, чья милая любезность без малейшего страха перед кривотолками вправе поощрять обожателей, каждый из которых старается превзойти других в надежде привлечь к себе внимание. Вместо хмурой строгости или грубой мужской развязности царит приятное оживление со своими тихими кроткими радостями, так что счастливое общество руководствуется духом любви в тысячекратных проявлениях. Все это нимало не способствует распущенности или распространению дурных правил, напротив: злым духам как бы нельзя не скрыться перед лицом красоты, и уж наверное швабские девы самые безупречные, а швабские жены самые верные во всей Германии.
Да, юный друг, ясный, теплый воздух юга поможет вам избавиться от вашей сумрачной робости; в девичьем веселом кругу вы отешетесь и разговоритесь. Где старый Шванинг, там и веселье; вы Шванингу сродни, да еще и приезжий к тому же; этого достаточно, чтобы привлечь прелестные девичьи очи, и, если вы в дедушку пошли, вы непременно осчастливите родной город, привезете оттуда красавицу жену, как некогда ваш батюшка.
Польщенно покраснев, мать Генриха поблагодарила купцов, красноречиво расхваливавших ее родину и добродетель ее молодых единоземок, а Генриху в его задумчивости ничего другого не оставалось, кроме как внимательно, с глубоким удовлетворением слушать описание земли, которую Генрих надеялся вскоре увидеть.
— Даже если вам неохота осваивать отцовское искусство, — продолжали купцы, — и вас, как нам говорили, больше привлекают науки, вам незачем принимать духовное звание, незачем отвергать лучшие житейские радости. Нет ничего хорошего в том, что науки сосредоточены в руках сословия, пренебрегающего мирской жизнью, и государи окружены такими нелюдимыми несведущими советниками. Уединение не позволяет им участвовать в мирских начинаниях, так что их помыслы приобретают бесполезную направленность, и суть мирских происшествий от них ускользает. В Швабии вам встретятся миряне, без сомнения, рассудительные и многоопытные; тогда и выбирайте, какая отрасль человеческих знаний вам по душе; за добрым советом и уроком дело не станет.
Тут Генриху пришел на память его друг, придворный капеллан, и юноша молвил немного погодя:
— Конечно, мне при моей неосведомленности во всем житейском не подобает перечить, когда вы утверждаете, будто священнику не доступно суждение и руководство в мирских обстоятельствах, однако не позволительно ли мне напомнить вам о нашем достойнейшем придворном капеллане: уж если кто мудр, так это он; его уроки и наставления со мной неразлучны.
— Всем сердцем, — ответили купцы, — мы благоговеем перед этим превосходным человеком, но мы можем одобрить ваше мнение о нем лишь постольку, поскольку вы имеете в виду мудрый образ жизни, угодный Богу. Если вы полагаете, что его жизненный опыт не уступает его благочестию, то мы должны возразить вам, не взыщите. Однако, сдается нам, добрая слава святого человека ничуть не пострадает от этого; он слишком привержен горнему, чтобы изощряться в проницательном исследовании вещей, свойственных нашей земной юдоли.
— Однако, — молвил Генрих, — разве наука горнего не заключает в себе умения невозмутимо держать в своих руках бразды деяний человеческих? Разве младенчески непредвзятое простодушие не находит верного пути в лабиринте здешних обстоятельств быстрее, нежели рассудительность, подавленная и постоянно сбиваемая с толку оглядкой на собственную выгоду, ослепленная неисчислимым множеством новых превратностей и осложнений? Не берусь утверждать, но, по-моему, человеческая история познается двумя путями. Первый, тягостный, бесконечный, извилистый, — путь опыта, второй, чуть ли не просто скачок, путь проникновения. Избравшему первый путь придется нудными вычислениями изыскивать одно в другом, тогда как на втором пути сразу же раскрывается сама природа всякого случая и дела, так что можно созерцать их в живых, многообразных сочетаниях, как фигуры на доске. Не сердитесь, если вы сочли мои слова ребяческими бреднями, моя дерзость объясняется лишь надеждой на вашу снисходительность, к тому же мой учитель заблаговременно явил мне второй путь, то есть свой собственный.
— Откровенно говоря, — ответили купцы дружелюбно, — ваши рассуждения для нас трудноваты, но вы говорите о вашем превосходном учителе так тепло, что это не может не нравиться нам; похоже, его уроки не пропали для вас даром.
Сдается нам, что у вас есть наклонность к поэзии. Вы без труда выражаете все оттенки вашего чувства, не скупитесь на утонченные обороты и меткие сравнения. И чудесное влечет вас, а где же стихия поэта, если не в чудесном!
— Знать не знаю, — молвил Генрих, — откуда это идет. Не в первый раз я слышу разговоры о поэтах и певцах, но ни один из них еще не встречался мне. Их странное искусство непостижимо для меня, все бы о них слушал да слушал. Может быть, я уразумел бы свои неясные чаянья, кто знает. Ходит много толков о стихотворениях, но мне доселе не попадалось ни одно, и моему учителю не довелось приобщиться к этому искусству, о котором он рассказывал мне, только я не очень-то понимал его. Правда, мой учитель всегда полагал, что это искусство достойное и я бы ничем другим не стал заниматься, едва узнав его. В древности будто бы оно встречалось намного чаще, ведомое так или иначе каждому хотя бы понаслышке, родственное другим великолепным искусствам, ныне утраченным. Взысканные Божественной милостью, вдохновленные наитием незримого, певцы слыли провозвестниками небесной мудрости, которую своими отрадными ладами они способны были открывать земле.
Купцы ответили на это:
— Тайны стихослагателей, признаться, до сих пор не заботили нас, когда нам нравилась песня, но, быть может, звезды и вправду сочетаются необычным образом, когда поэт посещает мир, спору нет, это искусство дивное. Да и другие искусства совсем не таковы, постигнуть их куда проще. Взять хотя бы живописцев или музыкантов, у них сразу видать что к чему, и музыка и живопись поддаются упорной, усердной выучке. Лады-то в струнах, и требуется лишь сноровка для того, чтобы, перебирая струны, вызвать сладостное чередование ладов. А что касается живописи, то в ней сама природа — непревзойденная мастерица. Природа располагает неисчислимыми, изящными, причудливыми очертаниями, расточает цвета, свет и тень, набьешь себе руку, коли глаз верен, освоишь состав и сочетание красок и знай совершенствуйся, следуя природе. Долго ли сообразить, почему эти искусства воздействуют на нас и услаждают нас. Соловьиная песня, веянье ветра, цвета, проблески, облики радуют нас, отрадно развлекая наши чувства, в которых проявляется та же самая природа, так что нас не может не радовать искусство, верное природе. Сама природа, желая полюбоваться своим несравненным искусством, обернулась человеком и в человеке упивается своим роскошеством, обособляет в предметах отрадное и милое, ею самой воспроизводимое в таком разнообразии, что наслаждение даровано всем временам и странам. А вот ни малейшего намека на поэтическое искусство не найдешь нигде во внешнем мире. Это ведь не рукоделие, тут снастей нет; поэзия ничего не говорит ни зрению, ни слуху; просто слушая слова, не приобщишься к чудодейственной тайне этого искусства. Тут все в сокровенном, и, если другие художники услаждают наши внешние чувства, поэт привносит в святилище нашего внутреннего мира изобилие неизведанных чудных, упоительных помыслов. Ему дано по своей прихоти в нас пробуждать затаенные силы, так что нам явлен словами невиданный великолепный мир. Словно из глубочайших недр возникает в нас былое и грядущее, неисчислимые людские сонмы, неведомые области, невероятные свершения, так что мы теряем из виду обжитое настоящее. Слышишь чужое наречие, а все как будто понятно. Магическим обаянием покоряет нас глагол поэта, привычнейшие слова выступают в пленительных созвучиях и чаруют завороженного слушателя.
— Любопытство мое благодаря вам переходит в жгучее нетерпение, — молвил Генрих. — Умоляю вас, опишите мне всех певцов, известных вам. Мне никогда не надоест слушать об этих диковинных людях. Мне даже чудится, будто я слыхал о них чуть ли не в младенчестве, только все запамятовал. Вы говорите, и что-то проясняется для меня, что-то распознается, и мне так хорошо от этих удивительных подробностей.
— Мы сами не прочь вспомнить, — продолжали купцы, — как весело мы проводили время в Италии, во Франции, в Швабии среди певцов, и мы довольны, если наши рассказы так захватывают вас. Когда путь пролегает, как сейчас, в горах, вдвойне приятно потолковать, нет лучше способа скоротать время. Может быть, вас позабавят кое-какие занятные предания о поэтах, мы сами слышали эти предания в дороге. Песни мы тоже слышали, но что сказать о песнях: много ли запомнишь, когда восхищаешься, упиваясь мгновением, а среди беспрестанных торговых дел поневоле забудешь и то, что запомнилось.
В старину не иначе как вся природа отличалась большей жизненностью и осмысленностью. То, что теперь едва ли доступно животным и движет разве только людьми, трогая и услаждая их, овладевало прежде даже безжизненными телами, так что искусник осуществлял и творил тогда такое, что мы сочли бы теперь баснословным и несбыточным. Так, в стародавние времена в землях, принадлежащих нынешней греческой империи, как нам передавали странники, еще заставшие там подобные сказанья в простонародье, обретались будто бы поэты, которые необычайным ладом чудотворных струн будили в лесах сокровенную жизнь, вызывали духов, таящихся в деревах, животворили засохшие семена растений в пустынной глуши, расцветавшей садом, приручали хищников, прививали одичавшим племенам общежительное благонравие, умиляя души, воспитывая склонность к миролюбивому художеству, усмиряли яростные потоки, и даже мертвейшие камни в согласии с песней начинали равномерно двигаться, как бы танцуя. Не иначе как подобные певцы были сразу и волхвами, и жрецами, и законодателями, и целителями, если сами нездешние силы, привлеченные колдовским искусством, приобщали певцов к тайнам будущего, являя им соразмерность и естественный состав, присущие вещам, а также сокровенную благость и целительную мощь, свойственную числам, злакам, всякой твари. По преданию, тогда и распространились в мире многообразные лады, непостижимые узы и союзы, а прежде всюду царила сумятица, неистовство и ненависть. При этом озадачивает одно: красота, которой запечатлелось пришествие этих благотворцев, не исчезла бесследно, однако исчезло их искусство или былая чувствительность природы притупилась. В ту пору среди многого другого и такое было: один из этих диковинных поэтов или, вернее, музыкантов, ибо музыка и поэзия почти тождественны, то есть одна другой соответствует, как ухо и уста, которые тоже ухо, только способное отвечать своим движением, — так вот некий музыкант отправлялся на чужбину, за море. Он брал с собою целое богатство: украшения и драгоценности, преподнесенные ему благодарными почитателями. У берега нашелся корабль, и корабельщики как будто охотно соглашались доставить певца за обещанную плату туда, куда ему хотелось. Однако драгоценности так блистали своей отделкой, что корыстные корабельщики не устояли перед соблазном: их всех объединил жестокий замысел схватить певца, утопить его в море, а тогда уж каждый получит свою долю сокровища. Отдалившись от берега, они набросились на певца, сказав ему, что смерть неминуема, они, мол, порешили утопить его. Певец трогательно молил сохранить ему жизнь, пытался откупиться своими богатствами, пророчил корабельщикам великую беду, если они не откажутся от своего замысла. Все напрасно, корабельщики остались непреклонны; преступники опасались, как бы не обличил он их однажды. Убедившись в их беспощадности, он просил у них разрешения спеть хотя бы свою лебединую песнь, после чего, мол, он сам утопится со своим простым деревянным инструментом. Корабельщики не сомневались, что чарующий напев растрогает их сердца, вызвав неодолимое раскаяние, так что условились, не отказывая певцу в его последнем желании, крепко заткнуть себе уши, чтобы не слышать песни и привести свой замысел в исполнение. Так и поступили. Прекрасно и трогательно запел певец. Весь корабль зазвучал в лад песне, волны подпевали, солнце и ночные созвездия встретились на небе, в зеленой воде заплясали целые сонмы рыб и морских чудищ, выпрыгивая из глубин. Одни только злобные корабельщики стояли особняком с крепко заткнутыми ушами и никак не могли дождаться, когда кончится песня. Сияя, певец ринулся в сумрачную глубь, не выпуская из рук своего чудодейственного орудия. Лучезарные воды, однако, не успели коснуться его: признательное морское страшилище всплыло, приняв потрясенного певца на свой могучий хребет и устремившись прочь со своей ношей. Вскоре они достигли побережья, которого певец хотел достигнуть, отплывая, и где теперь был бережно высажен в тростниках. Певец почтил своего избавителя ликующей песней и, благодарный, удалился. Немного времени минуло, и снова пришел он, одинокий, на берег моря, умилительно и жалобно оплакивая своей песней пропавшие драгоценности, желанные ему, потому что они напоминали ему былые счастливые часы, признательность и приязнь дарителей. Он пел, а из воды весело вынырнул его старый морской благодетель, извергая из своей пасти на песок богатства, присвоенные грабителями. Едва певец исчез, корабельщики нетерпеливо бросились делить свою добычу. Раздоры привели к смертоубийству, выжили немногие, которым не под силу было совладать с кораблем, так что кораблекрушение постигло их у ближайшего берега. Едва-едва они спаслись, выбравшись на землю, оборванные и нищие, а сокровища, собранные в море признательным его обитателем, оказались в прежних руках.
Произведения
Критика