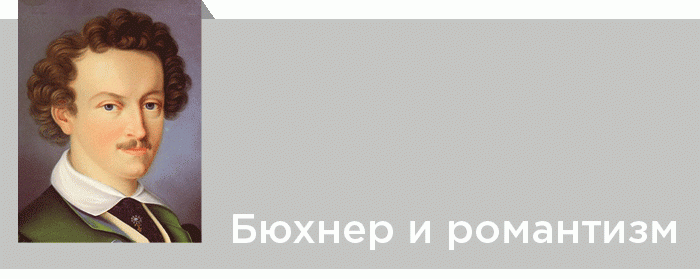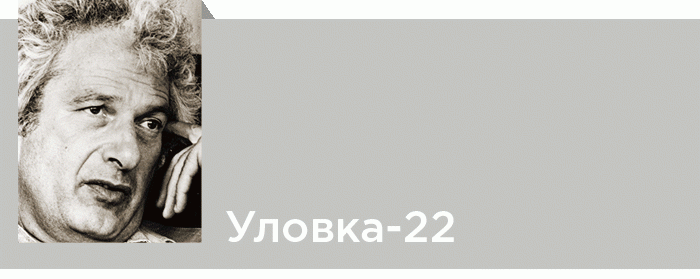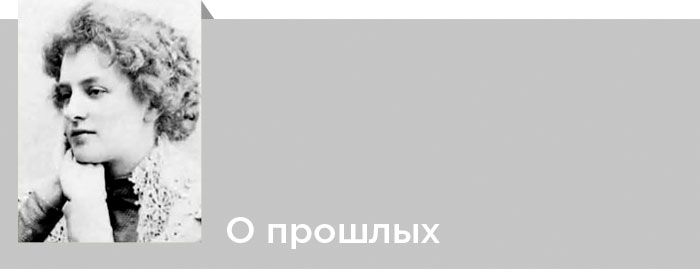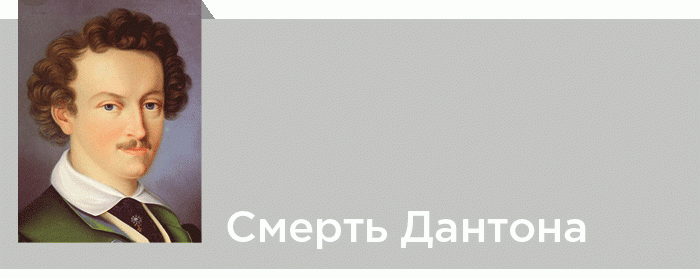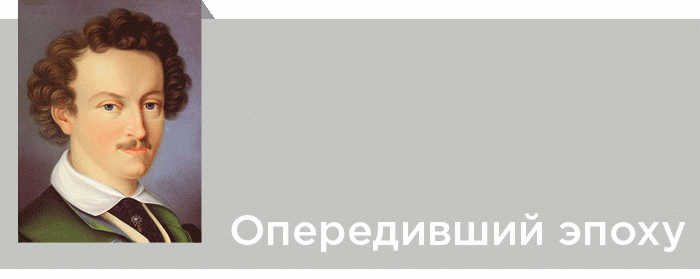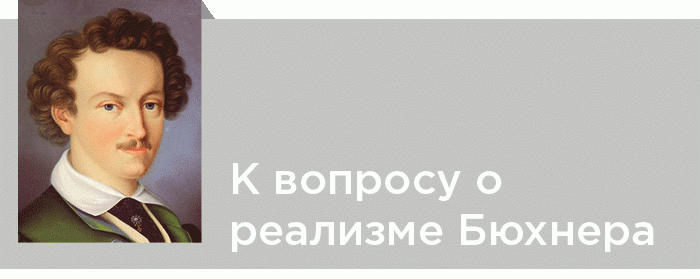Георг Бюхнер. Ленц

(Отрывок)
Двадцатого января Ленц отправился через горы. На вершинах и склонах — снег, ниже — сероватые гряды в зеленых пятнах, скалы и ели.
Было холодно, сыро, вода, клокоча и брызжа, срывалась со скал на тропу. Влажный воздух окутывал тяжело поникшие ветви елей. По небу тянулись облака, густые, низкие; а внизу, продираясь сквозь чащобы, стлался тяжелый и влажный туман — медленно, лениво.
Ленц шел, погруженный в раздумья, не глядя вокруг, то спускаясь, то поднимаясь. Он не чувствовал усталости, только досадовал, что не может пройтись вверх ногами.
Пока он шел и под его ногой осыпались камни, раскачивался внизу седой лес, а туман то поглощал, то приоткрывал могучие массивы, его грудь теснили неясные чувства, он точно искал что-то в ускользающих снах и не мог найти. И все казалось ему таким маленьким, таким жалким, промокшим — так бы и взял всю землю да сунул за печку. Его изумляло, что так много времени нужно, чтобы спуститься с горы или дойти до намеченного вдали места; ему казалось, любое расстояние он одолеет в несколько шагов.
Иногда порыв ветра сбрасывал тучи в долину и лес начинал дымиться, разверзались немые уста скал и раскаты грома то рокотали вдали, то надвигались мощным ревом, будто силясь в неистовом ликовании воспеть землю, тучи взмывали, словно дико ржущие кони, а солнце прорезало эту кутерьму сверкающим мечом, вонзая его в снежные грани и отбрасывая в долину слепящий и резкий свет. Или ветер, разметав облака, внезапно стихал и лишь где-то внизу отзывался в верхушках елей то колыбельной песней, то колокольным звоном; на глубокой сини всплывали нежно-багровые пятна, а мелкие облачка проплывали на серебряных крыльях, и вершины сверкали, остро и твердо очерчиваясь в дальней дали. В такие минуты в груди у него клокотало, он стоял задыхаясь, подавшись вперед, против ветра, широко раскрыв глаза и рот, словно желая вобрать в себя эту стихию, он припадал к земле, простирался в бился на ней, изнемогая от острого наслаждения, либо весь замирал, прислонясь головой ко мху, полузакрыв глаза, и все уплывало далеко-далеко, земля ускользала, становилась маленькой, словно мерцающая звезда, и пропадала в бушующем потоке, ясным пламенем протекавшем под ним. Но то были мгновения, они проходили — и он решительно поднимался, спокойный, с ясной головой, забыв фантасмагории, покончив с ними. Под вечер он достиг вершины горы, снежной площадки, откуда предстояло вновь спуститься на запад. Наверху он присел. К вечеру стало спокойнее, тучи неподвижно застыли на небе; кругом, насколько хватало глаз, одни лишь вершины с широкими гранями скатов, и так все тихо, сумеречно, тускло. Острое чувство одиночества пронзило его, он был один, совсем один. Он попробовал говорить сам с собой, но не смог, он задыхался, каждый шаг отдавался в голове его громом, он не мог идти. Невыразимо жуткая тревога охватила его в этой пустоте! Он сорвался с места и бросился вниз по склону. Темнота сгустилась, земля и небо слились воедино. Чудилось, будто его преследуют по пятам и что-то ужасное вот-вот настигнет его, что-то невыносимое, непосильное человеку — будто само безумие гонится за ним на конях.
Наконец он услыхал голоса, увидел огни, на душе стало легче. До Вальдбаха, сказали ему, еще полчаса ходу.
Он шел по деревне. В окнах светились огни, и, проходя, он заглядывал внутрь: за столом дети, старухи, девушки, у всех спокойные, тихие лица. Казалось, свет исходил от них; он вздохнул свободно и скоро добрался до дома священника в Вальдбахе.
Все сидели за столом, когда он вошел; вокруг бледного лица белокурые пряди, глаза лихорадочно блестят, губы дрожат, одежда порвана. Оберлии принял его за ремесленника:
- Милости просим, мы рады познакомиться с вами.
- Я цриятель Кауфмана, он велел вам кланяться.
- Ваше имя, если позволите?
- Ленц.
- Уж не сочинитель ли? Помнится, мне случалось читать пьесы, подписанные этим именем.
- Да, но прошу вас, не судите по ним обо мне.
Разговор продолжался, Ленц подыскивал слова и рассказывал сбивчиво, в муках, однако понемногу успокоился. В уютной комнате царил полумрак, тихие лица выступали из тени: лицо матери, ангельски тихо сидевшей в тени, и ясное детское личико, на котором, казалось, сосредоточился весь свет и которое глядело доверчиво и с любопытством. Ленц принялся с жаром рассказывать о своей родине, ему внимали с участием, и скоро он почувствовал себя как дома. Как озарилось улыбкой бледное детское лицо его, и сколько живости было в его рассказе! Он совсем успокоился, он чувствовал, как из темноты вновь выступают прежние образы, забытые лица, просыпаются старые песни — он был далеко, далеко отсюда.
Hаконец настала пора уходить. Его проводили через улицу: дом пастора был слишком тесен, и ему отвели комнату при школе. Он поднялся наверх. Наверху было холодно, комната большая, пустая, с высокой кроватью у дальней стены. Он поставил свечу на стол и принялся расхаживать по комнате. Минувший день вновь встал перед ним, комната в доме пастора с ее полумраком и милыми лицами показалась ему призрачной, нереальной, и опять ему сделалось одиноко, как тогда, на горе, но ничем не заполнялась теперь пустота, свет погас, и тьма все объяла. Невыразимая тревога охватила его. Он вскочил, бросился вон из комнаты, вниз по лестнице, на крыльцо, но напрасно — всюду темно и пустынно, он чувствовал себя как во сне. Обрывки мыслей проносились в голове, он силился их разобрать, ему казалось, что нужно твердить «Отче наш». Он не находил себе места, темный инстинкт толкал его искать спасения. Он спотыкался о камни, раздирал ногти в кровь, и боль возвращала ему сознание. Он бросился в водоем у колодца, он бился в нем и кричал. На шум сбежались люди, и среди них Оберлии. Ленц снова пришел в себя, и снова у него отлегло от сердца. Ему было стыдно, он был огорчен, что напугал столько людей, он сказал им, что привык купаться в холодной воде, снова поднялся к себе наверх и наконец заснул от изнеможения. На другой день все шло хорошо. С Оберлином они отправились верхом по долине: широкие горные луговины стягивались в узкую, извилистую долину, могучие гряды скал расширялись книзу; леса немного, но повсюду унылая поросль; на западе открывались просторные дали, а с юга на север тянулась цепочка гор — отдельные каменные исполины высились в тихом молчании, как в полудреме. Мощные потоки света вырывались порой из долин, затем вновь облака, осевшие на вершинах, медленно сползали вниз по деревьям или летучим серебряным призраком скользили и взмывали в сверкании солнца; ни шума, ни движения, ни птицы, ничего, кроме завываний ветра, то где-то вдали, то совсем близко. Кое-где уныло чернели остовы хижин, крытых соломой. Люди молчаливо, серьезно, не решаясь нарушить тишину долины, чинно приветствовали их, когда они проезжали мимо.
В жилищах было оживленно, все теснились вокруг Оберлина, он наставлял, советовал, утешал; повсюду доверчивые лица, молитва. Люди рассказывали сны, делились предчувствиями. Затем возвращались к повседневным заботам: расчищали дороги, рыли канавы, ходили в школу.
Оберлин был неутомим, Ленц сопутствовал ему неотлучно, он то беседовал с ним, то погружался в созерцание природы. Все действовало на него благотворно и успокаивающе. Он часто смотрел в глаза Оберлину, и, казалось, от этих спокойных глаз, от этого серьезного, благородного лица нисходил на него тот могучий покой, который охватывает нас на природе, в лунные тающие летние ночи. Он испытывал робость, однако делился впечатлениями, говорил. Оберлин слушал его с удовольствием, его радовало это по-детски трогательное лицо. Но Ленц лишь до тех пор чувствовал себя сносно, пока в долине было светло, в сумерках им овладевала странная тревога, ему хотелось идти вслед за солнцем. Чем больше сливались с тенью предметы, тем неразрывнее переплетались явь и сон, страх охватывал его, словно ребенка, проснувшегося в темноте; ему казалось, он слепнет. Страх назойливым наваждением садился к его ногам, безнадежная мысль преследовала его, мысль, что все это только сон. Призрачные видения мелькали перед ним, он приникал к ним, но они ускользали, жизнь оставляла его, и члены немели Он говорил вслух, пел, читал па память куски из Шекспира, хватался за все, что прежде будоражило кровь, пробовал все, но... холод, холод! То и дело выбегал он на улицу. Когда глаза его и пикали к темноте, скудный, рассеянный в ночи свет был благом; он бросался к источнику, и пронзительная студеность воды была ему благом; втайне он мечтал о болезни и старался принимать теперь свою ванну бесшумно.
Все же, привыкая к новой жизни, он становился спокойнее. Он помогал Оберлину, рисовал, читал Библию; в нем пробуждались минувшие, прежние надежды, ему открывался здесь Новый завет... Оберлин рассказал ему, как однажды ночью невидимая рука остановила его на мосту, глаза ослепил яркий свет и был голос — бог настолько приблизился к нему, что он мог довериться ему как ребенок.,. Вера наполнила его, вечная твердь разверзлась, Святое писание обрело тайный смысл. Природа точно приблизилась к человеку в некоей божественной мистерии, но не царственно-величаво, а доверительно-задушевно.
Однажды утром Ленц вышел из дома. Ночью выпал снег; долина полнилась солнечным светом, но вдали голубела туманная дымка. Кругом было безлюдно. Скоро он свернул с тропы и, минуя ельник, стал подниматься по отлогому склону. Солнце высекало кристаллы на пушистом снегу, на котором то тут, то там проступали следы зверья, ведущие в горы. Никакого движения в воздухе, только тихое веянье ветерка, только шорох птицы, легко отряхивающей перья от снега. Тишь кругом, только заснеженные ели едва-едва колышут на глубокой лазури свои белые иглы. Отрада наполнила его сердце. Однообразные, мощные цветовые пятна и линии, прежде с грубым гулом несшиеся на него, растворились теперь в легкой дымке; пахнуло чем-то домашним, святочным, представилось, будто из-за деревьев вот-вот выйдет мать и скажет, что все это — ее подарок. Спускаясь, он видел, как вокруг его тени искрилась радуга, ему почудилось, будто кто-то коснулся его лба и заговорил с ним.
Он спустился. Оберлин был у себя в комнате; Ленц быстро подошел к нему и сказал, что хотел бы прочесть проповедь.
Разве вы теолог?
Да!
Что ж, коли так — в воскресенье.
Ленц, довольный, удалился в свою комнату. Проповедь не выходила у него из головы, из-за раздумий о ней. и ночи его стали покойней. На воскресное утро пришлась оттепель. Облака были резвы, между ними синели просветы. Церковь, окруженная кладбищем, располагалась неподалеку, на пригорке. Ленц стоял наверху, когда ударили в колокола и по узким крутым тропинкам стали подниматься со всех сторон прихожане, женщины и девушки в строгих черных одеждах, с белыми платочками на молитвенниках и ветками розмарина. Солнце проглядывало иногда сквозь облака, теплый пар шел от земли, долина благоухала, вдали отдавался мерный колокольный звон — ровная волна гармонии, казалось, все поглотила.
Снег на кладбище стаял, под черными крестами темнел мох, розовый куст ютился в углу у ограды, другие цветы пробивались сквозь мох; на всем то пятна тени, то солнце. В церкви началась служба, людские голоса сливались в светлом, чистом звучании — впечатление такое, будто смотришь в прозрачный, чистый источник. Пение смолкло — Ленц заговорил. Он был в смятении весь день, от пения муки его утихли, теперь же вся боль вновь проснулась и прихлынула к сердцу. Сладостное, бесконечное блаженство охватило его. Он говорил просто, люди проникались его страданием, и было отрадно думать, что слова его даруют сон веждам, изможденным слезами, и отдохновение истерзанным душам, что они обращают к небу существа, измученные земной юдолью. К концу голос его окреп, и тут вновь послышалось пение:
«Дай принять святую муку,
Душу мне омыть слезами,
Благость сладкую страданья,
Святый боже, даруй мне».
Волнение, музыка, боль потрясли его. Весь мир обратил к нему свои раны, он чувствовал глубокую, неизреченную боль. Трепещущие уста господа склонились к нему и приникли к его губам. Он направился в свою пустынную комнату. Он был один, один! И тут словно прорвался источник, потоки брызнули из его глаз, он корчился, извивался, ему казалось, он разрывается, гибнет, и не было конца той сладостной боли. Наконец покой сошел на него, он почувствовал острую жалость к себе и заплакал, голова его поникла, он уснул. Полный месяц стоял на небе; пряди разметались по его вискам и лицу, капли слез повисли на ресницах и высыхали на щеках — так он лежал, совсем один, и было тихо, спокойно, холодно, и месяц светил всю ночь и стоял над горами...
На другое утро он сошел вниз и совершенно спокойно рассказал Оберлину, как ему ночью явилась мать: в белом платье, она вышла из темной церковной стены с двумя приколотыми розами на груди, белой и красной, потом исчезла в углу, и розы медленно выросли над ней; нет сомнений, она умерла, он был в том совершенно уверен. Тогда Оберлин в свою очередь вспомнил, что, когда умирал его отец, он был в поле и вдруг услыхал голос, возвестивший, что отец его мертв, и, вернувшись, увидел, что это правда. Это увлекло их дальше: Оберлин вспомнил о горцах, о девушках, которые чуют под землей металлы я воду, о мужчинах, которым на горных тропах приходилось бороться с духами, рассказал, как однажды, заглядевшись в глубокую чистую воду, он погрузился в сомнамбулическое состояние. Ленц заметил, что это, по-видимому, дух воды овладел Оберлином и он стал причастен бытию этой стихии. Он продолжал: самые простые и чистые натуры всего ближе к стихиям; чем утонченнее мыслит и чувствует человек, тем слабее в нем это чутье к первоосновам. Такое чутье нельзя считать неким высшим состоянием — для того оно слишком неразвито, но есть, полагает он, бесконечная радость в прикосновении ко всем сущим формам жизни, в таинственной связи с камнями, металлами, растениями и водой, в этом свойстве души вбирать в себя Природу, как пчелы вбирают воздух в зависимости от лунного противостояния.
Он высказал свои заветные мысли: во всем, говорил он, царит невыразимая гармония, созвучность, блаженство, в высших, развитых существах все это обнаруживается, звучит и воспринимается более тонко, но зато и награждает болезненной возбудимостью, в низших же формах гармония более скрыта, более ограничена, однако в них больше внутреннего покоя. - Он увлекся рассуждениями, но Оберлин прервал их, его простой душе они были непривычны. В другой раз Оберлин показал ему цветные таблички, разъяснил, в какой связи находится с человеком каждый цвет, упомянул про двенадцать апостолов, каждому из которых соответствовал определенный цвет. Ленц заинтересовался, загорелся, предался грезам и, уединившись, принялся в духе Штиллинга толковать Апокалипсис и долго не расставался с Библией.
В эту пору в долину приехал Кауфман со своей невестой. Поначалу встреча страшила Ленца, он был устроен, наслаждался малой толикой покоя — и вот к нему приближался тот, кто о многом напоминал ему, с кем он должен был говорить, беседовать, кто знал о нем все. Оберлин же не знал о нем ничего, он его принял, ходил за ним, он привязался сердцем к несчастному и в его приходе видел промысел божий. Никому здесь он не казался лишним, он был среди них как свой, и никто не спрашивал, откуда он и куда намерен держать путь.
За столом Ленц вновь развеялся: говорили о литературе, то была его область. Идеалистический период в то время уже начинался, Кауфман был приверженцем этого направления, Ленц горячо на него нападал. Он говорил: поэты, о которых принято говорить, что они передают действительность, как правило, тоже не имеют о ней ни малейшего представления, по они все-таки болеe сносны, чем те, кто пытается действительность приукрасить. Он говорил: господь создал мир таким, каким ему надобно быть, и нам, пачкунам, не придумать ничего лучшего, все наше рвение должно состоять в том, чтобы хоть немного уловить его замысел. Я во всем ищу жизни, неисчерпаемых возможностей бытия, есть это — и все хорошо, и тогда сам собой отпадает вопрос— прекрасно это или безобразно. Ибо ощущение того, что сотворенная человеком вещь исполнена жизни, выше этих двух оценок, оно — единственный признак искусства. Впрочем, довольно редкий — мы найдем его лишь у Шекспира, в полной мере —в народных песнях, местами у Гёте, все же прочтее можно смело швырнуть в печку. Люди не могут нарисовать простой конуры, а им подавай идеальные фигуры — все, что я видел в этом роде, не более как деревянные куклы. Такой идеализм пренебрегает самой природой человека. Художник должен проникнуть в жизнь самых малых и сирых, передать ее во всех наметках, проблесках, во всей тонкости едва приметной мимики; он сам пытался достичь этого в «Солдатах» и «Гувернере». Пусть то зауряднейшие люди под солнцем, но ведь чувства почти у всех людей одинаковы, разной бывает лишь оболочка, сквозь которую им приходится пробиваться. Умей только слышать и видеть! Вот вчера, в лесу, я увидел двух девушек; одна, в черном, сидела на камне, распустив золотистые волосы, обрамлявшие серьезное, бледное и такое юное личико, а другая склонялась над ней с такой нежной заботой! Лучшие, чувствительнейшие картины старой немецкой школы ничто в сравнении с этой натурой. Иногда хочется быть головой Медузы, чтобы обратить в камень подобную группу,— пускай люди вечно любуются ею. Они встали — и прелестная группа распалась, но когда они начали спускаться вниз между скал, образовались новые сочетания.
Произведения
Критика