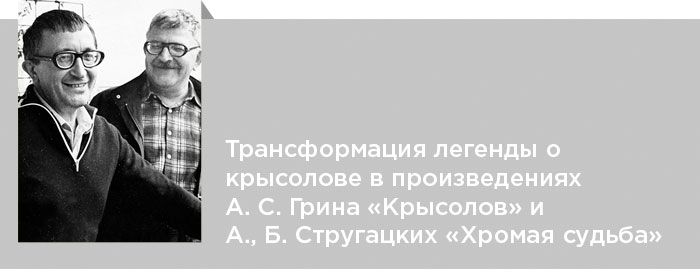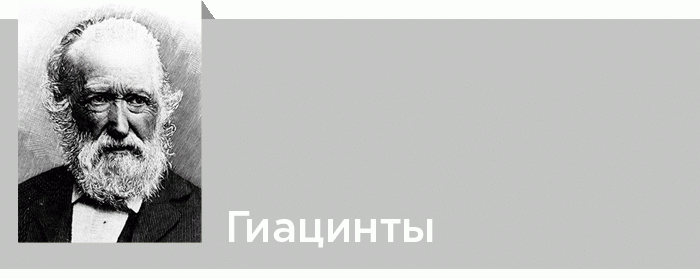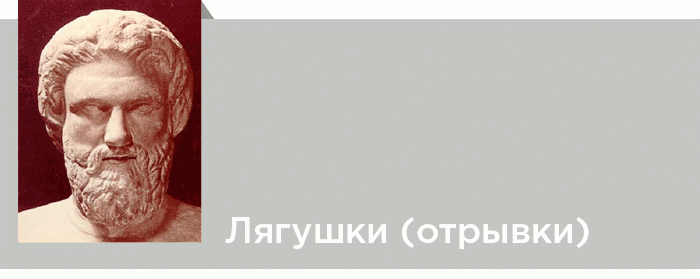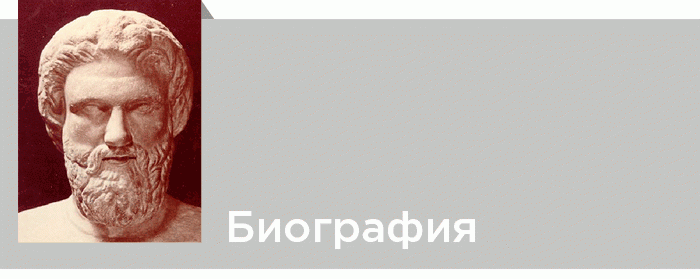Теодор Шторм и немецкая «областническая» литература
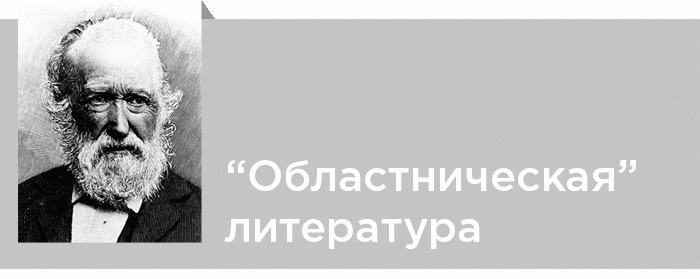
Д. Калниня
Вопросы реализма все еще стоят на повестке дня литературных дискуссий в нашей стране и за рубежом, но почти совсем не затронуты проблемы, касающиеся немецкого реализма после революции 1848 года. Не выработана здесь даже терминология — некоторые исследователи называют одного и того же писателя послереволюционного («послемартовского») периода «поэтическим» реалистом, другие «критическим», третьи — «бюргерским», «психологическим» или даже «художественным» реалистом. Чаще же всего этих писателей называют «областниками». Этот термин встречается не только в зарубежной литературной критике, но и в историях литературы, изданных за последние годы в нашей стране, или в статьях о немецких авторах прошлого столетия.
Так, в 30-м томе Большой Советской Энциклопедии на стр. 315 читаем: «Областническая литература — течение в немецкой литературе 50-60-х годов 19 в., ставившее своей задачей изображение местного провинциального быта, консервативных устоев крестьянской жизни, описываемой с известной реалистичностью (Б. Ауэрбах, В. Раабе и др.). Представители областнической литературы культивировали местные диалекты, противопоставляя их общенациональному литературному языку».
В 11 томе («Германия», раздел XVII, «Литература») к представителям «областничества» в литературе причисляются еще «поэт и новеллист Т. Шторм» и «писатель-мекленбуржец Ф. Рейтер, писавший на нижненемецком диалекте». Понятие «областничества» уточняется; подчеркивается, что кроме изображения жизни крестьянства оно включает еще описание мещанской, обывательской жизни, проникнутое идеализацией консервативных «устоев» местного быта.
Если о творчестве Б. Ауэрбаха судить по его роману «Neues Leben» и по «Schwarzwalder Dorfgeschichten», то здесь автор действительно ставит задачу — изобразить быт шварцвальдского крестьянства и для полноты картины использует местный диалект. Не подлежит сомнению, что этим произведениям свойственна известная идеализация крестьян и противопоставление их горожанам. Социальные противоречия в деревне автором затушевываются. В сочинениях В. Раабе также чувствуются симпатии автора к старой, докапиталистической деревне в противоположность «цивилизованному» городу, хотя тематика его отнюдь не крестьянская. Не является характерным для Раабе и употребление диалекта. Нет у него также какого-нибудь определенного «локального идеала», который противопоставлялся бы общенациональному. Напротив, несмотря на отрицательное отношение к развивающемуся капитализму, Раабе все же находился среди тех, кто приветствовал объединение Германии в 1871 году.
Б. Ауэрбах, В. Раабе, Ф. Рейтер, Т. Шторм — можно пополнить этот перечень «послемартовцев» еще именами О. Людвига, Г. Фрейтага, А. Штифтера, Т. Фонтане, Ф. Шпильгагена. Какое место занимает среди них Шторм? Можно ли отметить что-либо общее в их художественном методе? Лежат ли в основе этого метода принципы «областничества»? Обоснованно ли вообще выделение «областничества» как течения, объединяющего целую группу писателей? Вот вопросы, возникающие при исследовании особенностей немецкой литературы послереволюционного периода.
Термин Heimatkunst появился в литературоведении и искусствоведении Германии в конце прошлого столетия. Этот термин ввел в литературу А. Бартельс, литературовед крайне националистической школы. Проблеме Heimatkunst посвящена его книга под таким же названием, вышедшая в 1904 году, и целая глава в «Die deutsche Dichtung der Gegenwart». Бартельс называет и себя среди основоположников направления, которое, по его словам, должно было противостоять «бессмыслице еврейских писателей», а также «шаблонизированным и нелепым взглядам либеральной буржуазии и интернационализму социал-демократов». «Heimatkunst ist die Kunst der vollsten Hingabe, des innigsten Anschmiegens an die Kunst der Heimat und ihr eigentümliches Leben, Natur- und Menschenleben ... absolute Treue ist ihr Hauptbestreben, Treue in der Erfassung der Natureigenart und der Volksseele ihrer Heimat».
Ясно, что речь здесь может быть лишь о «полном слиянии» и «абсолютной верности» национал-шовинистическому духу прусских высших слоев, подготовивших почву национал-социализму.
Интересно отметить, однако, то обстоятельство, что к художникам Heimatkunst А. Бартельс не относит О. Людвига, Г. Келлера и Т. Шторма, а лишь их эпигонов, как например писательниц Ильзу Фрапан, Клару Фибих, Лулу фон Штраус, писателей К. Крегера, А. Зонрея, В. Поленца, П. Гольцаммера и, конечно, самого себя. К тому же, он обращает внимание читателя на то, что художники эти не являются эпигонами (хотя говорит, что О. Людвиг, Г. Келлер, Т. Шторм были их учителями!) и указывает на близость их к натурализму.
Это последнее обстоятельство побудило, очевидно, составителей Большого Брокгауза (1931) отнести к этому направлению Г. Зудермана, М. Гальбе, Д. Лилиенкрона и некоторых других немецких писателей натуралистического направления. Этот же лексикон (том восьмой, стр. 325) причисляет все-таки к Heimatdichter и Ф. Геббеля, О. Людвига, Т. Шторма, А. Штифтера, Т. Фонтане, Ф. Рейтера и П. Розеггера. Дается следующее определение Heimatkunst: «In der Dichtkunst wird Heimatkunst eine Richtiing bezeichnet, die im Gegensatz zu den in ihrer Wesensart beinahe international gewordenen Großstädten Landschaft, Volk, Sitte und Sprache eines enger begrenzten Gebietes, der Heimat des Dichters, zur Grundlage ihres Schaffens machen will, und das Volkstum und die Stammesart der deutschen Landschaften gegen die politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Ansprüche der großen Städte zu sichern».
Такое представление о Heimatkunst является явно тенденциозным. Умолчать об элементах критики в творчестве писателя, который избрал фоном своих произведений родные места, подчеркнуть этот фон как наиболее существенное в его творчестве, противопоставив его, «интернационализму социал-демократов» и «бессмыслице евреев», могли только «литературоведы» — приспешники националистов. Правильно ли продолжать придерживаться этого термина?
Заслуживает внимания мысль, высказанная в Литературной Энциклопедии (том 8, М., 1934, стр. 163-164). Правда, здесь авторы объясняют особенность не «областнической», а «областной» литературы, подразумевая под этим термином больше географические, нежели идеологические понятия. Ценной, однако, является мысль, что при изучении творчества какого-либо областного писателя нас должен интересовать «процесс превращения его из писателя, выражающего интерес узкой областной прослойки класса, в писателя, выражающего интересы всего классового массива в пределах страны». Да лее отмечается, что в отдельных случаях «областная замкнутость писателя может в некоторой степени обусловливать собой узость его мировоззрения. Последнее часто ослабляет социальную функцию его творчества». Кажется, не должно вызывать сомнения, что именно прослеживание этого превращения (или — непревращения!) «областного» писателя в писателя, выражающего интересы общенационального порядка, и должно быть положено в основу исследования творчества таких писателей, как шлезвиг-голштинец Шторм, тюрингенец Людвиг и т. д.
Г. Лукач в своей книге «Die deutschen Realisten des 19. Jahrhunderts» говорит, что немецкая литература в XIX веке «провинциализировалась», причем эту «провинциализацию» он связывает с термином Heimatkunst. С одной стороны, эта «прошкщиализация» должна означать неспособность «die lokalen Ereignisse der Provinz in nationalem noch sozialem Gesamtzusammenhang zu betrachten», с другой стороны, «diese provinzielle Literatur ist zugleich der Ausdruck einer Opposition gegen den entstehenden Kapitalismus, ein gesunder Keim für eine realistisch kritische Gesellschaftsschilderung».
Лукач далее характеризует эту литературу и причисляет к ней таких высокоодаренных писателей, как Г. Келлер, К. Мейер, Т. Шторм, Ф. Рейтер и В. Раабе.
«Провинциализирование» двух последних Лукач считает «внутренним», у остальных же — выраженным также и географически (т. е. по месту рождения и творчества). Спрашивается, однако, разве в романе Г. Келлера «Мартин Заландер» описываются только события узко местного, характера, а не присущие капиталистическому обществу вообще? Разве Раабе и Рейтер в самом деле не имели никакого представления о больших переменах, происшедших в Германии? Разве трагизм Шторма относится только к закату голштинского бюргерства, разве этот закат не был закатом всей бюргерской культуры?
Можно было бы согласиться с утверждением Лукача, что перечисленные выше писатели принадлежали к оппозиции в немецкой литературе XIX века. Следует отметить, что их имена не вписаны золотыми буквами в историю, потому что их оппозиция не была достаточно сильной и принципиальной, однако это являлось не столько слабостью писателей, сколько слабостью «послемартовской» германской действительности, ибо где они могли почерпнуть «Kenntnis des kritisierten Gegenstandes», если «der Marxismus meistens in einer mehr als vereinfachten, oft geradezu entstellten Form erst in den sechziger bis siebziger Jahren eine verhältnismäßig kleine Vorhut der Arbeiterklasse zu erfassen begann».
Но этим все-таки вопрос о «провинциализации», об «областничестве» немецкой послереволюционной литературы не исчерпан.
Не исчерпывается он и Францем Шиллером, когда последний в своей истории западноевропейской литературы называет рядом имена Ф. Шпильгагена и Г. Фрейтага или ставит А. Штифтера рядом со Штормом.
[…]
Вполне можно согласиться с С. Гиджеу, когда он в отказе от больших исторических и философских тем видит проявление провинциального характера немецкой литературы 50-60-х годов XIX века. Если это в полной мере не относится к Ф. Геббелю, то в творчестве О. Людвига, Г. Фрейтага, Ф. Шпильгагена, Б. Ауэрбаха, Т. Шторма, В. Раабе, Т. Фонтане, Г. Келлера, К. Мейера и «мюнхенских поэтов» больших философских и исторических тем действительно нет. Но это все-таки не дает права говорить об «областнической тенденции многих писателей этого периода» и, не дифференцируя, ставить рядом имена Людвига, Ауэрбаха и Шторма, в творчестве которых якобы «большая правда искусства, ставящего смело важнейшие вопросы, заменяется маленькой правдой этнографически точных описаний жизни и нравов жителей определенной местности». Даже творчество Ауэрбаха, писателя, ограничивающегося больше остальных изображением одной местности и одной классовой прослойки, не исчерпывается этнографически точными описаниями. Как известно, одна из его главных тем — это еврейский вопрос. Решение его может вызывать сомнения так же, как рассуждения автора о религии и искусстве, но утверждением, что его творческая цель заключается только в этнографическом описании шварцвальдского крестьянства, мы несправедливо суживаем его тематику, забываем его образы мыслителей, его романы в духе К. Гуцкова «Auf der Höhe», «Das Landhaus am Rhein». Вызывает сомнение и утверждение С. Гиджеу, будто бы с 50-х годов немецкая литература потеряла связь с лучшими тенденциями «домартовской» эпохи, в частности с традицией Гете. Романы и повести Ауэрбаха, в художественном отношении, конечно, даже не приближаются к творчеству Гете, однако нельзя не отметить, что они в какой-то мере являются продолжением «романов воспитания» Гете.
Интерпретируя О. Людвига и Ф. Геббеля, С. Гиджеу, однако, отступает от своей трактовки творчества писателей этой группы. Он говорит о стремлении этих писателей продолжить некоторые традиции большого буржуазного искусства недавнего прошлого, ставившего важнейшие мировоззренческие проблемы, а также и о неспособности их (этих писателей) достичь масштабов искусства Гете, Гейне и выдающихся романтиков.
То же самое должно быть отнесено к большинству послереволюционных писателей. Нет больших идейных и художественных масштабов, но нет и отказа от лучших традиций бюргерского прошлого. Наоборот, есть стремление стать продолжателями этой традиции, но так как эпоха сама по себе не дает богатого материала, касающегося жизни бюргерства, и немецкий бюргер уже превратился в мещанина или буржуа, идеология которого не имеет ничего общего с идеологией старого бюргерства, то искусство писателей этого периода не может отразить больше того, что дает сама жизнь. Найти свое место художнику-«послемартовцу» к тому же не всегда было легко. В Германии второй половины XIX века отмечался известный хозяйственный подъем, можно было предполагать, что немецкое «третье сословие» только сейчас по-настоящему начнет развиваться. Это мнение поддерживалось идеологией господствующих классов и могло повлиять на писателя, слабо ориентировавшегося в политической ситуации. Чрезвычайно актуальной стала и проблема объединения Германии, и многие честно мыслящие писатели пришли к выводу, что лучше все-таки объединение «сверху», чем прежняя раздробленность. Другого выбора, собственно, и не было — слабость демократического движения в Германии не давала возможности разрешить этот вопрос по-иному. Оставалось только либо принять существующее и стать апологетом власти Бисмарка, как это сделали, например, Фонтане и Мейер, либо продолжать испытывать внутренний протест против него, но отказаться от любого рода действия. Этот последний путь избрал Шторм.
Ошибочно считать, что Шторм является немецким бюргером-гуманистом, не осознавшим крушения своего мира. Шторм своевременно осознал упадок буржуазного гуманизма и видел в этом связь с определенными историческими условиями в Германии. Историческое же значение пролетариата было Шторму непонятно. Он не имел поэтому никакого представления о гуманизме социализма. Не выходя из границ своего класса, он не видел гуманизма будущего.
Стремясь продолжить реалистическую традицию Гете, но будучи поставлен лицом к лицу с действительностью послереволюционной Германии, Шторм не может идти путем утверждения этой действительности. В его искусстве развиваются элементы критицизма, отрицания и сомнения, не присущие Гете. Они означают новое в немецком реализме второй половины XIX века. Подобным критицизмом, который особенно сильно проявляется в последнем периоде творчества Т. Шторма, не отмечены произведения ни Людвига, ни Раабе или Фонтане, не говоря о Фрейтаге или «мюнхенских поэтах».
Из немецких писателей второй половины XIX века, относимых к представителям «областнической» литературы, ближе всех к Т. Шторму стоит В. Раабе. Франц Шиллер очень образно характеризует Раабе в своей истории западноевропейской литературы. Он сравнивает его с А. Штифтером и говорит, что если Штифтер старательно закрывал свое «окно в окружающий мир», то Раабе внимательно наблюдал мир через свое «маленькое окно». Он, подобно своему герою «Хроники Воробьиной улицы», нашел такое место в стекле своего окна, сквозь которое все видимое уменьшается, но становится ясным, отчетливым. Действительно, образы Раабе кажутся как бы нарочито уменьшенными, хотя живыми и правдоподобными. Обычно эти герои — мелкий люд, обездоленный и обойденный, это целая галерея неудачников. Образы Шторма не таковы, они обыкновеннее, а в некоторых случаях и жизненнее: для них не характерен такой последовательный отказ от действия и уход в свой личный мирок, как это бывает почти со всеми героями Раабе.
Могло бы казаться, что как раз благодаря такой трактовке проблемы положительного героя Раабе в большей мере является критическим реалистом, чем Шторм. Ведь известно, что в критическом реализме не разработан образ действенного героя — в этом выражается нечеткость его положительной программы. Как в таком случае объяснить образ Хауке Хайена? («Der Schimmelreiter»). Утверждающее начало в трактовке героя отмечается и в новеллах «Im Schloß», «Eine Malerarbeit», «Pole Poppenspäler», но здесь еще нет повода говорить о трудовой деятельности героев. Хауке Хайен же утверждает себя в труде, и это является новой чертой в реализме Т. Шторма, а равно и в немецком реализме второй половины XIX века вообще. Неверно искать здесь слабость критических элементов писателя. Наоборот, это знаменует новую ступень штормовского реализма, ибо герой, сумевший себя утвердить в общественном служении, происходит не из среды обреченных на гибель классов, а из трудового народа. Нет основания видеть в этом какую-то просветительскую веру в крестьянство, как это утверждает Ф. Бетгер в своей монографии о Шторме. Такому пониманию противоречит вся эволюция мировоззрения Шторма. Это, конечно, не означает, что Шторм в конце своей жизни пришел к правильному осмыслению общественных событий, что он понял, где надо искать истоки нового гуманизма. Но Шторм был хорошо знаком с русским критическим реализмом, и это обстоятельство могло в какой-то мере повлиять на его лучшее произведение.
Имеются у Шторма и новеллы, в которых звучат мещанско-идиллические интонации («Psyche», «Ein stiller Musikant»). Однако такой мещанской ограниченности идеалов, как у «голодного пастора» Раабе, нет ни у одного из героев Шторма. Примитивное противопоставление эгоизма Мозеса Фрейденштейна и благородства Унвирша для Шторма было бы неприемлемо как нехудожественное. К тому же характеристика героев у Шторма гораздо более связана с социальной проблематикой.
По своему идейному смыслу самым близким к Шторму произведением Раабе является «Unser Herrgotts Kanzlei», которое свидетельствует о глубоких симпатиях Раабе к старой бюргерской культуре. Общим в художественной манере обоих писателей является их лиризм, но надо все же отметить, что Раабе в лирических описаниях природы иногда употребляет технические приемы романтиков, выражающиеся в довольно банальных описаниях края мельниц и обрушившихся дворцов. У Шторма подобных пейзажей нет.
По своей народности искусство Шторма можно сравнить с произведениями Ф. Рейтера. Общим в восприятии мира обоих писателей является и глубоко укоренившаяся ненависть ко всему феодальному. В выражении этих антифеодальных настроений, однако, мало сходного — Шторму чужд публицистический тон, характерный для его мекленбургского соратника. Но присущий произведениям Рейтера юмор притупляет остроту критики. В его реализме больше примирения, чем в произведениях Шторма. Нельзя не заметить и идеализацию мелкого крестьянства у Рейтера, особенно в его «Franzosentid». «Kein Hüsung» — произведение, где меньше всего юмора и идеализации, — является поэтому вершиной критического реализма Рейтера и стоит ближе всего к реализму Шторма.
Если принять во внимание определение «областничества», признаком которого является употребление диалекта, то творчество Рейтера, казалось бы, может служить самым ярким примером такой «областнической» литературы. Нет, однако, никакого основания предполагать, что Рейтер хотел свои сочинения как бы противопоставлять творчеству своих современников, произведения которых появились на литературном немецком языке. Диалект он употреблял лишь для того, чтобы красочнее, живее, сочнее нарисовать близкие ему образы, чтобы добиться яркого локального колорита.
Вряд ли будет верным придавать особое значение этнографическим элементам и употреблению диалекта в творчестве немецких писателей вообще. Ведь глубиной различий между диалектами и этнографическими особенностями областей Германия резко выделяется среди других стран Европы. Весь исторический ход событий определил это своеобразие немецкой речи и немецких нравов. Поэтому вполне понятно желание писателя придать своим образам сочность и жизненность, точно изображая именно ту среду, из которой герой происходит или в которой он живет. Народную речь и описания быта определенного края, в котором происходит действие произведения, используют многие писатели различных стран, и если это сделано умело, то такие художественные приемы свидетельствуют лишь о мастерстве писателя. В немецкой литературе употребление подобных приемов особенно, заметно. Но если художник не хотел этим подчеркнуть, что он принадлежит только определенной области, и не хотел свои произведения, написанные на диалекте, с подробными описаниями быта этого края, противопоставить своей национальной литературе, если этой сознательной тенденции обособления нет, то нет и никакого основания характеризовать его творчество как «областническое».
Интересно в этой связи отметить, что ученые Германии, составители двухтомного лексикона, вышедшего в Лейпциге в 1956 году, существенно изменяют обычную трактовку понятия «областничества» (Heimatkunst). Они ограничивают это понятие, обозначая им узкое, политически крайне реакционное литературное объединение начала ХХ века, которое являлось реакцией на натурализм с его мотивами города и преследовало цель воссоздать в литературе ландшафты и образы жителей узких этнографических областей. Это литературное направление нашло свое продолжение в гитлеровской «поэзии крови и земли». К представителям Heimatkunst причислены И. Френзен, Г. Лёне и А. Шёнхер.
Имена этих писателей не вошли в историю немецкой литературы. Вряд ли в Германии еще найдутся читатели их сочинений, ибо не могут в литературу войти произведения, в которых отсутствует какая-нибудь общая цель, в которых не отражены общие явления. В сочинениях Френзена, Лёнса и Шёнхера такой общей цели нет. Но она имеется в произведениях таких причисляемых к «областническому» течению писателей, как Т. Шторм, В. Раабе, Ф. Рейтер. Как ни сужена их тематика, в ней все же отражаются общие явления, исторические явления, имеющие значение не для одной ограниченной области или общественного слоя, но для всей страны. Если бы не так, немецкий читатель давно уже забыл бы их так же, как он забыл Френзена и Шёнхера, писателей более раннего периода.
Поэтому понятие «областничество» следует применять очень осторожно, ибо оно может, как видим, в ряде случаев незаслуженно суживать представление о писателе, мешать »раскрытию его значения во всей полноте.
Немецкий критический реализм складывался в борьбе с откровенно тенденциозной апологетической буржуазной литературой, восхваляющей капиталистическое делячество, филистерские добродетели, которые выражаются в «разумном» компромиссе с юнкерством. Во второй половине века, когда за антидемократическое объединение Германии «сверху» выступают даже такие по существу демократические писатели, как Раабе, и в последней трети века, когда реакционные тенденции буржуазной литературы еще более усиливаются и выдвигаются уже милитаристские и национал-шовинистические лозунги, особенно выделяется творчество Т. Шторма. В своем отрицательном отношении к юнкерской политике Шторм оказывается наиболее последовательным, любого рода компромисс остается чуждым ему в течение всей его жизни. Это, в свою очередь, определяет критицизм его искусства.
Некоторые авторы (Франц Шиллер, Г. Мейер) утверждают, что Шторм предпочитал стоять в стороне от политических событий. Сам Шторм в письме к Э. Ку говорит, что писателем-классиком является тот, в чьих произведениях со всей полнотой отражается эпоха. Скромно уделяя себе место в «боковой ложе», он признает, что не принадлежит к этим писателям-классикам.
Однако не всегда исследование творчества писателя может основываться на его собственных высказываниях. Кроме того, если даже считать, что замечание Шторма соответствует действительности, необходимо еще раз напомнить, что в его литературной деятельности не всегда отображались его мысли, как это имело место в письмах и в личной жизни Шторма. Если Шторм сознает, что жизнь эпохи не получила должного отображения в его произведениях, это уже значит, что он сумел увидеть и оценить «жизнь эпохи».
Многие все еще оценивают Шторма по настроениям, звучащим в его новелле «Immensee». Эта новелла стала одним из популярнейших произведений писателя, она многократно издавалась и чуть ли не навязывалась читателю как наиболее рекомендуемый материал для чтения. Реализм Шторма, безусловно, проявляется и в этой юношеской новелле. Характерен уже выбор темы: обыкновенная, встречающаяся в бюргерской Германии (да и не только в Германии) на каждом шагу история молодой женщины, по материальным соображениям вышедшей замуж за нелюбимого человека, жалеющей о своей неудачной жизни и после многих лет вновь встречающейся с любовью своей юности. Елизавета не обладает сильным характером, она типичное дитя своей" среды. Художественно утонченная обработка сюжетной линии часто вводила в заблуждение критиков, видевших благодаря красоте, тонкости, даже филигранности формы произведение, овеянное поэзией и романтической лиричностью. Если бы первое произведение Шторма не было написано с такой самокритичной тщательностью, не было облачено в столь филигранную форму, если бы развитие сюжетной линии шло более грубо, просто, не столь художественно, то писатель не был бы отнесен к романтикам или, в лучшем случае, к «поэтическим реалистам».
Что же представляет собой в действительности «поэтический реализм», этот загадочный термин, вновь «возродившийся» даже в критике демократических государств? Наблюдения показывают, что он обычно появляется тогда, когда критикам не совсем ясен критикуемый объект, когда этот объект не может быть просто и без противоречий отнесен в соответствующую рубрику заранее подготовленной шаблонной схемы. Никто никогда не оспаривал истины, что Бальзак — критический реалист: круг тематики его произведений был слишком ясен для того чтобы сомневаться в месте, по праву отводимом ему в истории мировой литературы. Точно так же никто не пытался оспаривать, что «Как закалялась сталь» Н. Островского — произведение социалистического реализма. Это авторы и произведения с ясно выраженной исторической линией, единственные в своем роде авторы и единственные в своем роде классические произведения. Но как быть со Штормом, со всеми теми, кто не обладает широтой кругозора и могучей силой Бальзака и не создал написанных кровью сердца строк незабываемой книги Островского? Они не столь велики, и вместе с тем их творчество не столь ясно, путь их развития более сложен, и его расшифровка требует немалых усилий.
Трудно согласиться с тезисом П. Гольцаммера, согласно которому реализм Шторма является синтезом критики и поэтизации, действительности Впечатление поэтизации создает отсутствие широкого размаха, больших обобщений в критике Шторма. Тематика Шторма не обширна, его главной темой остается немецкая буржуазия, при этом не крупная (дающая больше пищи для критики). Писателя интересует мещанская среда, единственная, которую он знал хорошо. Изображение этой узкой среды проникнуто теплотой, потому что Шторм чувствует себя сросшимся с ней. Мир, который он изображал, стал ему дорог еще с детских лет, когда он, не зная забот, рос в среде немецкого бюргерства и наблюдал его тогда еще относительно «идиллическую» трудовую жизнь. Он охотно описывал фрагменты из этой жизни даже тогда, когда понял, что это «идиллическое» время уже прошло безвозвратно.
Многие критики, говоря о «поэтическом реализме» Шторма, ссылаются на эстетические взгляды самого Шторма, цитируют письма, в которых идет речь о поисках «красоты» и ее изображении. Процитируем по этому поводу отрывок из письма Шторма Бринкману. Шторм пишет об «Immensee», «Im Schloß», «Auf der Universität» и других новеллах и говорит: «Diese Novellen sind überall ganz realistisch ausgeprägt und dabei in der Durchführung durch den Drang der Vorstellung des Schönen und Idealen getragen». Следовательно, Шторм считает, что реалистическое изображение должно быть «von dem Schönen und Idealen getragen». Как он это понимал?
Как уже указывалось, во второй половине XIX века в Германии стали развиваться натуралистические тенденции. Шторм с самого начала решительно восстал против этого, так как видел в натурализме серьезную угрозу истинному искусству. Позднее он критиковал натурализм в лице Э. Золя и Г. Ибсена, считая последнего, подобно своим современникам, натуралистом. В натурализме самым неприемлемым для Шторма было изображение неэстетического, патологического, изображение ради изображения, без типизации, без обобщения.
Восставая против смакования натуралистами уродливого, Шторм выдвигает требование прекрасного («идеального»). Натуралисты стремились быть единственными истинными реалистами, правдиво изображать, т. е. копировать жизнь. Стремясь доказать, что реализму отнюдь не надо заниматься только поисками и фиксированием уродливого, Шторм подчеркивает: «realistisch... und dabei in der Durchführung durch den Drang nach der Darstellung des Schönen und Idealen getragen».
Так можно объяснить более поздние высказывания Шторма об изображении прекрасного в искусстве. Однако вряд ли он уже в 1849 году мог предвидеть, что вскоре ему придется бороться против натурализма, а новелла «Иммензее» была написана именно в этом году... Говоря в письме к Бринкману в 1867 году о «реалистической и в то же время красивой» новелле «Иммензее», он, следовательно, должен был констатировать уже свершившийся факт. Новелла не была написана с целью литературной полемики против натурализма. Таким образом, для опоэтизирования образов и смягчения шероховатостей имелось еще и другое основание.
Как уже отвечалось, новелле свойствен тон спокойно-отрешенный. Первый вариант новеллы (Рейнгардт после прощания с Елизаветой начинает работать, женится на другой женщине, становится отцом семейства, затем теряет жену и детей, на старости лет остается одиноким и однажды, в сумеречный час осеннего дня, вспоминает о возлюбленной своей юности) является, собственно говоря, более реалистичным. Шторм отбросил этот вариант, придав новелле более стройную композицию, концентрируя ее на одно основное настроение, которое дано уже в экспозиции: клонящийся к вечеру день поздней осени, старый дом, старик в старомодной одетжде. Следовательно, минорные тона частично могут быть объяснены стремлением к единству формы (следует вспомнить при этом, какое внимание Шторм обращал на мастерство формы).
Искусству полутонов других произведений также отвечает излюбленная Штормом техника новелл-воспоминаний. В воспоминаниях шероховатости сглаживаются, в особенности если мы вспоминаем о любимом нами человеке или приятном событии. Отсюда реализм пастельных красок Шторма. Шторм любил вспоминать сильное, жизнеутверждающее бюргерства XVIII века, — поэтому с такой тщательностью написаны новеллы «Beim Vetter Christian», «Im Saal», «Im Sonnenschein».
Не без основания П. Гольцаммер говорит о «Zwiespältiges, zwischen der Sehnsucht nach dem Idyll und dem Bewußtsein» von dessen Zerstörung schwankendes Lebensgefühl». «Хузумская проблематика» ему близка. Прав, однако, К. Кронек — «er überwindet Husum, er wird realistisch»Хотелось бы только уточнить — «wird noch realistischer», ибо реализм присущ уже самым первым наброскам Шторма. «Преодолев Хузум», Шторм приблизился к критическому реализму.
В отечественном литературоведении принято рассматривать развитие критического реализма параллельно развитию капитализма. Должны ли в таком случае новеллы Шторма считаться произведениями критического реализма? Их тематика не вскрывает непосредственно капиталистических противоречий, в них нет речи о борьбе классов, финансовых махинациях, промышленном пролетариате. Чаще всего автор выступает в них против феодализма, клерикализма, немецкой «золотой молодежи», разоблачает буржуазную мораль, критикует буржуазные предрассудки.
Правда, причинами конфликтов автор считает не «индивидуальную» вину (Schuld), а «социальную» (см. записи в дневнике от 1 октября 1880 года и письмо к Г. Келлеру: «... nicht eine spezielle einige Schuld des Helden, aber Schuld des Allgemeinen»).
При этом «das Allgemeine» не представляет собой некую идеалистическую категорию «вне времени и пространства», а «вину эпохи... или социального класса». Какое «поколение», какой социальный класс он подразумевал, считая его причиной трагического конфликта? Ответ на этот вопрос дают примеры из новелл Шторма. Сказанное в письме к Келлеру относится непосредственно к «Aquis submersus». Шторм оспаривал попытку своих читателей искать в его новелле главного «виновного». Подобные «поиски вины» Шторм считал чрезмерно юридическими. По его мнению, причиной трагедии «Aquis submersus» является не «вина» героя, художника Иоганнеса, а обстоятельства, которые превратили в вину его поступок (желание взять в жены дочь дворянина). Острие новеллы направлено, таким образом, против привилегий феодального сословия. Сходный конфликт мы найдем в новеллах «Im Schloß», «Auf der Universität», «Zur Chronik von Grieshuus». В «Doppelgänger» трагедию порождает буржуазный суд и в еще большей степени буржуазное общество, не прощающее представителю другого класса ни одного ошибочного шага и не вскрывающее причин, из-за которых этот шаг был сделан. В основе трагического конфликта Ганса и Гейнца Кирков — уродливая буржуазная мораль, расценивающая человека не по его духовным качествам, а по месту на церковной скамье (т. е. по занимаемой должности и накопленному богатству). Проблема накопления имущества является в действительности основной и в новелле «Draußen im Heidedorf». Какую трагедию может повлечь за собой стремление к собственности; показывает новелла «Im B.rauerhause». Все эти новеллы резко осуждают новые отрицательные явления, зародившиеся в буржуазном обществе. Здесь нет отеческой улыбки Келлера, благожелательной иронии, с которой он говорит о некоторых заслуживающих порицания чертах в характере представителей его собственного класса. Это трагизм человека, чувствующего упадок своего класса, видящего его близкую гибель. Ни в одной новелле Шторм не призывает к возвращению к идиллической жизни на селе вместо «порочной» в городе, как это делают многие его товарищи по профессии (И. Готхельф, Б. Ауэрбах, В. Раабе). Следовательно, ему ясно, что спасение надо искать не в старых, патриархальных формах общества. Трудно сказать, понял ли он полностью истинную причину обреченности буржуазного общества: он слишком мало интересовался философскими и социальными проблемами, ему не приходилось также конкретно сталкиваться с противоречиями капиталистической жизни. Проживая в Хейлигенштадте и Хузуме, он только издали мог наблюдать перемены, происходившие в мире. Трагическое звучание его новелл последних лет показывает, что эти наблюдения были правильны.
Итак, как ни ограниченна тематика Шторма по сравнению с произведениями немецких писателей первой половины века или с произведениями английских, французских или русских реалистов (проблематика его творчества не соотносима, конечно, с большой темой исторического пути Германии), — все же его произведения дают возможность судить о событиях в Германии второй половины XIX века и свидетельствуют о критическом подходе писателя к немецкой действительности.
Л-ра: Латвийский университет. Ученые записки. – 1966. – Т. 80. – С. 40-56.
Произведения
Критика