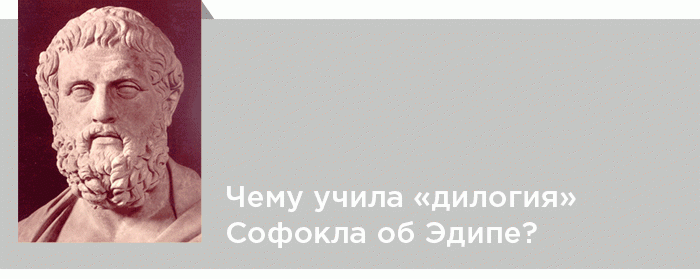Герхарт Гауптман. Перед заходом солнца

(Отрывок)
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Маттиас Клаузен – холеный господин, 70 лет, тайный коммерции советник.
Вольфганг Клаузен – его сын, около 42 лет, профессор филологии. Суховат, тип немецкого профессора.
Эгмонт Клаузен (дома зовут Эгерт) – младший сын тайного советника, 20 лет, строен, красив, спортсмен.
Беттина Клаузен – дочь тайного советника, 36 лет. Слегка кривобока. Скорее сентиментальна, чем умна.
Оттилия – дочь тайного советника, 27 лет, по мужу Кламрот; хорошенькая, привлекательная женщина, ничем не выделяющаяся.
Эрих Кламрот – муж Оттилии, 37 лет. Директор предприятий Клаузена. Неотесан, деловит, провинциален.
Паула Клотильда Клаузен – урожденная фон Рюбзамен, 35 лет. У нее резкие, неприятные черты лица, длинная шея, как у стервятника. Грубая, явно чувственная внешность.
Штейниц – санитарный советник, около 50 лет. Домашний врач и друг семьи Клаузен. Холост; состоятелен, сократил свою практику.
Ганефельдт – советник юстиции, гибкий человек, 44 лет.
Иммоос – пастор.
Гейгер – профессор Кембриджского университета. Старый друг тайного советника Клаузена.
Доктор Вуттке – личный секретарь Клаузена. Маленький, кругленький, в очках.
Эбиш – садовник, за 50 лет.
Фрау Петерс, урожденная Эбиш, – сестра садовника, около 45 лет.
Инкен Петерс – ее дочь. Тип северянки.
Винтер – личный слуга тайного советника Клаузена.
Обер-бургомистр.
Председатель муниципалитета.
Члены муниципалитета.
Муниципальные советники.
Место действия – большой немецкий город.
Действие первое
Библиотека и кабинет тайного советника Маттиаса Клаузена в его городском доме. Слева над камином портрет красивой молодой девушки кисти Фридриха Августа Каульбаха. По стенам до потолка книги. В углу бронзовый бюст императора Марка Аврелия. Две двери – одна против другой, ведущие в другие помещения дома, открыты, так же как и широкая стеклянная дверь в задней стене, выходящая на каменный балкон.
На полу стоят несколько больших глобусов; на одном из столиков – микроскоп. За балконом виднеются верхушки деревьев парка, из парка доносятся звуки джаза.
Жаркий июльский день. Время – около часа.
Входит Беттина Клаузен; ее сопровождает профессор Гейгер.
Гейгер. Вот уже три года, как умерла ваша мать, и я с тех пор здесь не был.
Беттина. С отцом было очень трудно, особенно первый год. Он никак не мог прийти в себя.
Гейгер. Ваши письма, дорогая Беттина, часто внушали мне тревогу. Почти не верилось в его выздоровление.
Беттина. А я непоколебимо верила, и потому, что верила, так и случилось! (С мечтательно просветленным лицом.) Правда, я исполняла последнюю волю мамы; она буквально передала отца мне, буквально возложила на меня ответственность за его судьбу, буквально умоляла меня заботиться о нем. За два дня до смерти мама сказала: «У такого человека еще много дела на земле; его нужно сохранить надолго, и ты, Беттина, позаботься об этом. С той минуты, как я закрою глаза, начнутся твои обязанности».
Гейгер. Эти трудные обязанности вы с честью выполнили.
Беттина. Они были одновременно и трудны и легки. Вы – лучший друг отца, господин профессор, вы знали его задолго до меня и лучше меня; мне только в последние годы было дано по-настоящему понять его и приблизиться к нему. Вы представляете себе, какое значение имело для меня это время! И наконец такое счастье, такая награда за нее сделанное мной.
Гейгер. Он стал теперь совсем прежним.
Беттина. После смерти матери он словно ослеп. И должен был медленно, почти ощупью возвращаться к жизни! Он сам мне в этом признался.
Гейгер (подходит к открытой двери балкона, смотрит в сад, откуда доносятся звуки джаза). И вот в доме снова жизнь – в саду праздник: вино, прохладительные напитки… как бывало в прежние, счастливые времена.
Беттина. Да, он вернулся к жизни.
Разговаривая и, видимо, направляясь в сад, они выходят в противоположную дверь. Из той двери, откуда они раньше вошли, появляются профессор Вольфганг Клаузен и его супруга Паула Клотильда.
Вольфганг. Только что отцу преподнесли грамоту почетного гражданина нашего города.
Паула Клотильда (с притворным равнодушием). Об этом намерении уже давно болтают… Что тут особенного?
Вольфганг. Вечером от двух до трех тысяч человек – представители разных партий – устраивают в его честь факельное шествие.
Паула Клотильда. Что ж, это придется вытерпеть.
Вольфганг. Придется вытерпеть? Что ты этим хочешь сказать?
Паула Клотильда. В конце концов, что такое факельное шествие? Моему отцу, когда он был корпусным командиром, то и дело приходилось выносить подобные забавы. Дошло до того, что он почти не вставал из-за стола…
Вольфганг (слегка раздраженный). Конечно, твой отец привык к таким вещам. Но для папы это нечто новое, это доказательство, что его любят. Его это очень порадует.
Паула Клотильда. Я ничего не понимаю во всей этой истории. Сперва ваш отец забивается в нору, прячется, ни с кем не хочет говорить. И вдруг приводится в движение весь этот балаган. За этим что-то кроется.
Вольфганг. Папа уступил нашим просьбам: моей, Оттилии, Беттины – и не уехал вдень рождения. По мнению зятя Кламрота и нашему, отцу, как человеку, связанному с жизнью города, это было необходимо. Отец не должен отталкивать от себя широкие общественные круги.
Паула Клотильда. К сожалению, раньше он это часто делал.
Вольфганг. Что ты, собственно говоря, хочешь этим сказать, Паула? Быть может, тебе не нравятся почести, которые ему в избытке оказывает весь город?
Паула Клотильда. Нравятся или не нравятся – какое это имеет значение? Какие могут быть у меня, обедневшей дворянки, претензии? В конце концов, через тридцать или сорок лет твои студенты и тебе устроят факельное шествие. (Вышла на балкон и смотрит в лорнет.) С кем это кружится зять Кламрот? Что за белобрысая жердь?
Вольфганг (подходит к ней). Эта долговязая блондинка? Не знаю. Я почти не знаю наших служащих.
Паула Клотильда. А я, Вольфганг, знаю, кто она. Мать ее – вдова. Они живут в Бройхе. Дядя – садовник при замке. Зовут ее Инкен Петерс или что-то в этом роде. За всем надо иметь глаз!..
Вольфганг. Откуда у тебя эти сведения?
Паула Клотильда. Они идут от советника юстиции Ганефельдта. Он управляет имением в Бройхе. Кстати, говорят, ваш отец там иногда бывает.
Вольфганг. Отчего же нет? Зачем ты это мне рассказываешь?
Супруги уходят. Входит санитарный советник доктор Штейниц и личный секретарь Клаузена доктор Вуттке.
Штейниц (глядя вслед Клотильде). Зубастая дама!
Вуттке (притворяясь непонимающим). О какой даме вы говорите?
Штейниц. О некой особе, которой, как говорится, пальца в рот не клади.
Вуттке. Какой же это особе пальца в рот не клади?
Штейниц. Я говорю о небезызвестной вам Пауле Клотильде, урожденной фон Рюбзамен; или вы считаете, что ей можно положить палец в рот?
Вуттке (смеется). Нет, этого никто не станет утверждать. О вкусах не спорят, но оба эти брака – Вольфганга и Оттилии Клаузен – мне непонятны. Славный Вольфганг и эта заноза… Избалованное, тепличное растение Оттилия, бросающаяся на шею настоящему ломовому извозчику…
Из противоположной двери несколько торопливо входит директор Эрих Кламрот.
Кламрот (вытирая пот со лба). Дикая жара! Вы жену мою не видали?
Вуттке. Нет. Но ваш шурин Вольфганг и его жена только что были здесь.
Кламрот. Вольфик с урожденной фон Рюбзамен! Эта женщина воображает, что она всем управляет.
Вуттке. Если она еще не управляет, то не по своей вине.
Кламрот. Между прочим, это, может быть, и по моей вине. Кстати, наш патрон держится прекрасно. Говорят, ему собираются преподнести грамоту почетного гражданина. Мне кажется, все идет как по маслу. А где сейчас пребывает виновник торжества? Я не хотел бы пропустить эту церемонию.
Штейниц. Если у вас было такое намерение, следовало прийти раньше.
Кламрот (побагровев). Что? (К Вуттке.) Послушайте, мы! Вам следовало предупредить меня! Разве это не входит в ваши обязанности?
Вуттке. Нет, это не моя обязанность.
Кламрот. Ваша лаконичность иногда раздражает.
Вуттке. Без всякого намерения с моей стороны.
Кламрот. Но нельзя отрицать, что это так. Кстати, что у вас в портфеле?
Вуттке. Кое-что для юбиляра.
Кламрот. Не важничайте, Вуттке. Я и без вас узнаю все, решительно все, что мне надо узнать!
Вуттке. Не смею в этом сомневаться.
Кламрот. Стрелку часов вам не повернуть назад! (Быстро уходит.)
Штейниц. У милейшего Кламрота бывают странные вспышки.
Вуттке (вслед Кламроту). Плевать мне на вас, господин директор!
Штейниц. «Стрелку часов вам не повернуть назад».
Вуттке. Что он сказал?
Штейниц. Стрелку часов вам не повернуть назад.
Вуттке. Разве я собираюсь вертеть часовые стрелки?
Штейниц. По-видимому, он имел в виду нас обоих: меня – потому что я в конце концов поставил нашего патрона на ноги; вас – потому что вы тоже преданы тайному советнику и не перешли с развернутыми знаменами в лагерь Кламрота.
Вуттке. Пока я жив, никто не вырвет из рук тайного советника бразды правления.
Входит Эгмонт Клаузен. У него быстрые и непринужденные движения. Он кладет одну руку на правое плечо Штейница, другую – на левое плечо Вуттке и просовывает сзади между их головами свою.
Эгмонт. Ага! Это называется: одной хлопушкой – двух мух… Знаете, господа, почему я так говорю?
Штейниц. Нет. Не собираетесь ли вы прикончить нас? Вы – хлопушка!
Вуттке. Я тоже ничего не понимаю. Хлопушка!
Эгмонт. Должен ли я стать перед вами, господа, или вы думаете, что отсюда я скорее достигну цели?
Вуттке. Смотря по тому, предпочитаете ли вы дуэль или убийство из-за угла.
Штейниц. Карманники достигают цели, подкрадываясь сзади.
Эгмонт (выходит вперед, но сейчас же хватает обоих за руки). Око за око, зуб за зуб! Только одна просьба, господа: выслушайте мое стихотворение ко дню рождения папы.
Штейниц. Прошу. Валяйте!
Эгмонт (значительно, патетично и несколько таинственно).
Я философию постиг,
Я стал юристом, стал врачом,
Увы; с усердьем и трудом
И в богословье я проник.
Но все ж глупцом остался. Ах!
И, как майор, кругом в долгах.
Штейниц и Вуттке невольно смеются.
Штейниц. Лучше не читайте этого вашему отцу, дорогой Эгерт! Это горькая пилюля, да еще с оскорблением Гёте; ваш отец этого не перенесет.
Эгмонт. Поэтому мне и нужна ваша протекция: исцелите меня, доктор! Замолвите за меня словечко перед этим всемогущим мужем с портфелем!
Вуттке. Я, как всегда, посмотрю, что можно для вас сделать. Но ведь вы мне твердо обещали подождать с обменом автомобиля до весны. Помните?
Эгмонт. Помню, конечно, помню. И я сдержал бы слово, если бы не заманчивый случай. Но случай есть случай. Он сбил все мои расчеты. И потом папа недавно сам сказал, что мне следовало бы ознакомиться с Испанией, а моя старая разбитая кастрюля, в которой я до сих пор ездил, для этого совсем не годится. Итак, доктор, когда мне рассчитывать на ответ?
Вуттке. Через несколько дней. Конечно, не сегодня. Ни одной капли горечи сегодня в его вино.
Входят тайный советник Маттиас Клаузен, за ним – обер-бургомистр, председатель муниципалитета, профессор Гейгер, профессор Вольфганг Клаузен, Эрих Кламрот, Беттина, которая льнет к отцу, Паула Клотильда Клаузен, Оттилия Кламрот и советник юстиции Ганефельдт.
Эгмонт (быстро поворачивается и подходит к отцу). Поздравляю тебя, папа, со званием почетного гражданина!(Непринужденно целует отца в лоб.)
Клаузен. Да, дорогой Эгерт, эти господа действительно удостоили меня величайшего отличия, какое существует в нашем городском самоуправлении. Сознание ничтожности моих заслуг все еще протестует против этого. Будь я моложе, я бы мог, ваше превосходительство и уважаемые господа, надеяться постепенно оправдать ваше необоснованно высокое мнение обо мне. Но, к сожалению, этот радостный праздник только подчеркивает мою старость. Уходящие силы, уходящие годы заставляют меня стремиться совсем к другому, чем то, чего требует в наше тревожное, трудное время натиск молодых сил. Здесь потребуются совсем другие кормчие.
Обер-бургомистр. Вы остались юным, господин тайный советник!
Клаузен. Этот комплимент по праву относится к моему другу Гейгеру. Он специально приехал из Кембриджа ко дню моего рождения.
Гейгер (благодушно). Чур меня! Чур! Не сглазь!
Обер-бургомистр (оглядываясь). Не верится, что мы в кабинете делового человека. Скорее, это комната ученого.
Клаузен. Признаюсь, у меня слабости, которых обычно не прощают деловому человеку. Я собираю автографы, первоиздания и тому подобное. У меня есть, например, старинное издание Библии Фуста, «Лаокоон», написанный рукой самого Лессинга. Вы знакомы с моими детьми? (Указывая на Вольфганга.) Он достиг в жизни большего, чем я. Этот мальчишка – уже профессор.
Паула Клотильда (вполголоса, Ганефельдту). «Мальчишка». Ну и скажет! Как это вам нравится?
Клаузен. А вот это Эгмонт. Мы его зовем Эгерт. Ему двадцать лет, и он еще не вполне осознал серьезность жизни. Но пока что я за него не беспокоюсь. Для каждого из нас приходит час прозрения.
Обер-бургомистр. Без вашего сына картина жизни нашего города была бы неполной. Мы всегда с удовольствием наблюдаем, как он проносится на своем «мерседесе».
Один из членов муниципалитета. И, кстати, многие наши дамы свернули себе шею, вытягивая ее вслед вашему сыну.
Эгмонт. Ну меня бывают мрачные минуты, но я не выношу нашей серой послевоенной эпохи и хватаюсь за кусочек живой жизни всюду, где только возможно.
Один из членов муниципалитета. «Радость – дочь благого неба».
Гейгер. О, конечно! «Радость – искра божества».
Обер-бургомистр. Без дочери благого неба молодым людям, конечно, не обойтись. (Сдержанный смех.)
Клаузен. Возможно, мы не правы, когда в открытых дискуссиях обходим психологические моменты. Раньше философы говорили о блаженстве и счастье, а теперь только о готовых товарах, полуфабрикатах и сырье… А вот моя дочь Беттина…
Один из членов муниципалитета…хорошо известная в благотворительных кругах.
Клаузен. У моей Беттины доброе сердце. Часто она и мне приходила на помощь в тяжелые минуты. А это моя младшая дочь Оттилия. В детстве она доставляла много забот своей матери и мне, – зато как много радости принесла она нам в дальнейшие годы. А вот ее муж – мой зять. Господина Кламрота, надеюсь, мне нечего вам представлять.
Кламрот (слегка раздраженно, но стараясь быть любезным). Как мужа своей жены – конечно, нет.
Оттилия испуганно хватает мужа за руку.
В чем дело? Ведь я говорю правду, Оттилия.
Клаузен. Вы всегда это делаете.
Обер-бургомистр. Сердечная прямота господина директора Кламрота известна всему городу.
Один из членов муниципалитета. Но у вас есть большой недостаток, господин Кламрот. Несмотря на наши настоятельные просьбы, вы отказываетесь войти в состав магистрата.
Кламрот. Терпение, господин муниципальный советник, поживем – увидим.
Обер-бургомистр. Какой чудесный портрет висит у вас на стене, господин тайный советник!
Клаузен. Разве вы никогда не были в этой комнате? Это портрет моей покойной жены, когда она была девушкой. Его написал Фридрих Август Каульбах.
Гейгер. Это была самая красивая молодая дама, какую я когда-либо видел в своей жизни.
Беттина. Посмотрите, господа, вот справа, на этой длинной шведской перчатке, бабочка; художник сказал маме, что это – он сам, и он будет таким образом сопровождать ее всю жизнь…
Клаузен. Не угодно ли дорогим гостям окунуться в праздничный водоворот! Спустимся в сад.
Обер-бургомистр (на балконе, смотрит в сад). Этот сад в самом центре города – настоящее чудо. Тишина, как в деревне, не слышно автомобильных гудков. Я каждый раз заново этому поражаюсь.
Вуттке (подходит к Клаузену). Господин тайный советник, разрешите вас на секунду.
Клаузен. В чем дело?
Вуттке (умоляюще). Только одна подпись.
Клаузен (со вздохом). Мой настоящий крест этот доктор Вуттке! (Подписывает и уходит вместе с гостями в сад.)
Остаются Вуттке и доктор Штейниц. Вуттке кладет подписанную бумагу в портфель.
Вуттке. Будьте здоровы. Я ухожу. Что это у вас в руке?
Штейниц (показывает мазок на стекле). Капли крови.
Вуттке. Надеюсь, реакция Вассермана отрицательная?
Штейниц. Только хлороз, очень просто.
Вуттке. А, малокровие? Кто этот счастливец?
Штейниц. Это не он, а она. Инкен Петерс, родом из Хузума или Итцегоэ. Она завоевала сердце нашего старого хозяина.
Вуттке. Да ну! И он тут же требует анализа крови?
Штейниц. Нет, это была моя мысль. Тайный советник поручил мне наблюдение за ее здоровьем.
Вуттке. Как вы относитесь ко всей этой истории?
Штейниц. Маленький каприз – не больше. Его можно простить человеку, вновь почувствовавшему себя здоровым.
Вуттке. Однако этот каприз начинает уже кое-кого беспокоить.
Штейниц. Неужели? Только потому, что тайный советник иногда бывает в Бройхе? И привозит детям шоколад. Инкен, или, вернее, ее мать, руководит детским садом. Чего только не вынюхают ищейки.
Вуттке. Во всяком случае, я далек от этого. Мне об этом ничего не известно. Мне до этого нет дела. (Кивает и быстро уходит.)
Штейниц подходит к балюстраде балкона и смотрит в сад. Не замечая его, входит Инкен Петерс, за ней – ее мать.
Инкен (смущается, оглядывается). Скажи, мама, где мы? Фрау Петерс. Не спеши так. За тобой едва поспеешь.
Инкен. Как будто все уже расходятся, мама.
Фрау Петерс. Мчишься, словно за тобой гонятся. И вообще немного странно: как только тайный советник, окруженный свитой, выходит в сад, ты убегаешь.
Инкен. Там и без меня достаточно молодых дам, которые делают ему придворные реверансы. Что мне тайный советник, если он окружен стеной?
Фрау Петерс. Наша обязанность поздравить его, а так, ни с того ни с сего, удирать – неприлично. По крайней мере с фрейлен Беттиной ты должна была проститься. Она так долго и сердечно говорила с тобой.
Инкен. Мне ничего не оставалось, как отвечать ей на бесконечные вопросы. Точно на экзамене. Я даже отметки получала. Меня хвалили за то, что я решительная и дельная: и машинистка, и швея, и детей умею воспитывать. Каждая новая специальность – новая похвала, но приятней от этого мне не стало.
Фрау Петерс. Опять твои причуды, Инкен.
Инкен. А как этот господин директор Кламрот снисходит до того, чтобы танцевать! Противно! Чего он только не нашептывает на ухо!.. А его жена ничего не подозревает и молится на него. Единственный человек, с которым можно потанцевать и поговорить, – это Эгмонт Клаузен. Скажи, где здесь выход? Я почувствую себя хорошо только на улице. (Пытается бежать наугад, в первую попавшуюся дверь, наталкивается на Паулу Клотильду Клаузен в сопровождении советника юстиции Ганефельдта.)
Ганефельдт. Куда спешите, прелестное дитя?
Инкен. О, господин советник юстиции Ганефельдт! Я и не знала, что вы тоже на празднике.
Ганефельдт. Весь город на празднике. К тому же мои отношения с семьей Клаузен давнишние и многообразные.(Пауле Клотильде.) Возможно, сударыня, вы и не знаете: вот в этой комнате я играл в детстве с вашим супругом. (Обращается к Инкен.) Вам было весело?
Паула Клотильда (лорнируя Инкен). Ну, наверно! Вы бойко пляшете. Я наблюдала за вами с интересом.
Инкен. Я танцую кое-как… по-домашнему.
Ганефельдт. Вы знаете, перед кем вы стоите, Инкен? Это супруга профессора – доктора Вольфганга, невестка господина тайного советника. Тетка фрау Паулы Клотильды когда-то владела имением Бройх, где вы теперь нашли себе пристанище и которым я управляю.
Паула Клотильда. В моем отце было слишком много от генерала. Он наделал много непростительных ошибок, особенно в старости. Иначе мы бы и сейчас владели этим имением… За стариками надо следить в оба!..
Ганефельдт (Клотильде). Разрешите представить вам эту малютку: Инкен Петерс, прилежная, порядочная девушка. Смело берется за любую работу, которая ей попадается. А это ее уважаемая матушка.
Паула Клотильда. Да, теперь так: жри, пташка, что дают, или подыхай! Кто в наше время хочет быть разборчивым, тому крышка!
Ганефельдт. Ну как же не хвалить семью Клаузен? Господа Клаузен снова показали свою исключительную доброжелательность и сердечность.
Фрау Петерс. Выше всяких похвал, господин управляющий.
Ганефельдт (к фрау Петерс). Вы довольны праздником?
Фрау Петерс. Чудесный праздник! О нем будут вспоминать много лет.
Паула Клотильда (к фрау Петерс). Где работает ваша дочь?
Инкен. Мама, я избавлю тебя от ответа. Если вам, сударыня, угодно знать, я сейчас нигде не служу. Но благодаря поддержке управляющего, господина Ганефельдта, мы с мамой устроили детский сад в большой пустой оранжерее. Мой дядюшка – садовник в Бройхе.
Паула Клотильда. Значит, вы руководительница детского сада?
Инкен. Да. Я сдала для этого необходимый экзамен.
Паула Клотильда. Сколько вы зарабатываете?
Инкен (улыбается, но с еле заметным раздражением). Шестнадцать дурачков – по две марки в неделю за каждого.
Ганефельдт. Вы сегодня очень нетерпеливы, дитя мое.
Инкен. Разрешите мне проститься. (Слегка поклонившись, хочет уйти.)
Внезапно в дверях появляется Эгмонт и преграждает ей путь.
Эгмонт. Ни в коем случае! Пока вы не станцуете со мной еще это танго!
Инкен (смеется). Иди, мама, подожди меня у подъезда. Я в плену.
Инкен и Эгмонт уходят.
Ганефельдт. Как она вам понравилась?
Паула Клотильда. В конце концов, это безразлично! Нет! Она мне не нравится.
Ганефельдт. Что же вам, Паула, в ней не нравится?
Паула Клотильда. Прежде всего, она неженственна.
Ганефельдт. Вы находите малютку неженственной? А ведь она умеет быть нежной и женственной, как никто.
Паула Клотильда. Вам это известно по собственному опыту?
Ганефельдт. Да, но, разумеется, не в том смысле, какой подразумеваете вы. Ее поведение безупречно во всем. Сегодня она, правда, чем-то раздражена. Обычно, когда находишься в ее обществе, она производит впечатление свежести, прямоты и в то же время большой приветливости.
Паула Клотильда. А все-таки она себе на уме.
Ганефельдт. Вы, быть может, хотите сказать, что она не глупа. Вы правы, Паула. Кстати, бедная девушка не знает, какой роковой удар постиг ее семью. Отец Инкен во время следствия покончил с собой в тюрьме из-за тяготевшего над ним подозрения.
Штейниц (который все время оставался в комнате незамеченным). Несчастный глупец! Впоследствии его невиновность была доказана на девяносто процентов.
Ганефельдт (только сейчас увидев Штейница). Ах, вы здесь?
Штейниц. Я был занят своим делом.
Паула Клотильда (в ужасе). Покончил с собой в тюрьме?! Значит, по-видимому, было мерзкое дело! Как вы думаете, свекор знает об этом? Если нет, необходимо ему сообщить.
Штейниц. А мне это не кажется важным.
Входят тайный советник Клаузен с Беттиной, которая, как и раньше, льнет к отцу, профессор Гейгер, профессор Вольфганг Клаузен, Эгмонт Клаузен, Кламрот со своей женой Оттилией. Вольфганг ведет за руку восьмилетнего сына. Оттилия несет на руках полуторагодовалого сына и ведет за руку четырехлетнюю дочку. Позади – старый слуга Винтер.
Клаузен. Благодарю вас всех, благодарю всех – дорогие друзья, дорогие дети и внуки – за этот очень удавшийся праздник.
Беттина (растроганно, достаточно громко, чтобы все слышали, но обращаясь только к отцу). Я уверена, что мама взирает на нас с небес.
Оттилия (подходит вплотную к отцу). Ленхен, дай дедушке лапку и скажи: «поздравляю». Только ясно.
Клаузен. Будем считать, Оттилия, что она уже доставила мне это удовольствие.
Девочка подходит к Гейгеру.
Ленхен. Поздравляю тебя с днем рождения, дорогой дедушка!
Гейгер. Вот тебе на! А я и не знал – оказывается, я твой дедушка! (Весело смеется.) Я вообще еще не дедушка. Почему ты так решила? Все уверяют, что я выгляжу как юноша.
Оттилия. Ленхен, что с тобой? Разве ты не узнала дедушку?
Клаузен. Она поступает как умеет, дорогой Гейгер.
Гейгер. Малютка смутила меня. Твоя величественная роль патриарха мне не подходит.
Ганефельдт. Как сказано в Библии: «Я сделаю тебя великим народом земли!»
Паула Клотильда (злобно на ухо Ганефельдту). Остается еще прибавить: «Я умножу семя твое, как песок на морском берегу»!..
Клаузен. Итак, еще раз спасибо, спасибо, спасибо! Увидимся все за ужином.
Бенина. Прости, папа, но сегодня вечером банкет в ратуше.
Клаузен. Верно! Значит, встретимся в другой раз.
Бенина. А теперь я принесу тебе лимонад.
Клаузен. Нет, милая Беттина, сегодня я обойдусь без лимонада. – Винтер, сервируйте красиво и уютно стол, поставьте две бутылки поммери, и мы поболтаем с тобой, милый Гейгер, о добром старом времени. – До свидания, до свидания, мои дорогие дети!
Волей-неволей всем приходится уйти; Гейгер и Беттина остались. Винтер накрывает на стол.
Беттина (смущенно). Я только хотела спросить: я не помешаю?
Клаузен. Ты знаешь, что никогда не мешаешь, Беттина. Но, боюсь, тебе будет скучно слушать воспоминания двух старых университетских товарищей.
Беттина. Нет-нет, папа, я этого не боюсь.
Клаузен. Итак, спокойно оставь нас вдвоем на полчаса. Отдыхаешь, когда можешь поболтать с глазу па глаз о том о сем.
Беттина. Тебе ничего не нужно, отец?
Клаузен. Сейчас абсолютно ничего.
Беттина. Если понадоблюсь – я рядом, в музыкальной комнате. (Уходит.)
В доме вес затихло. Чувствуется, что праздник в саду окончился. Замолк джаз. По сцене прошли несколько уходящих гостей. Среди них музыкант с инструментом. Винтер подает шампанское.
Клаузен. Винтер, закройте все двери, а перед одной, которая останется открытой, встаньте цербером.
Винтер. В доме осталось только несколько музыкантов.
Клаузен (улыбаясь). Несколько хороших и несколько плохих.
Гейгер. Такие торжества всегда устраиваются больше для гостей, чем для юбиляра… Твоя библиотека очень разрослась, Маттиас.
Клаузен. Наверху, на втором этаже, помещается основная масса книг. Я даже держу библиотекаря. Сейчас он в Арт-Гольдау. Поехал навестить мать; он – швейцарец.
Гейгер (рассматривает большую фотографию). Конная статуя Марка Аврелия…
Клаузен. Да, эта самая прекрасная в мире конная статуя. Она в Риме, на Капитолии. On revient toujours à ses premiers amours. Итак, сядем, дорогой Гейгер.
Гейгер. Бургомистр прав: если не знать, что ты основатель и глава крупного предприятия, действительно можно подумать, что это жилище ученого.
Клаузен. Бывали люди, в которых уживалось и то и другое. Шлиман и Грот были одновременно крупными коммерсантами. Я, к сожалению, этим похвастаться не могу.
Гейгер. О, прошу тебя, Маттиас, не говори так. Твои статьи в журналах составили бы несколько томов… Какая изумительная шахматная доска, Маттиас!
Клаузен. Это подарок моих редакторов. Мне даже было неловко. При иных обстоятельствах это доставило бы мне большую радость.
Гейгер (указывая на шахматную доску с расставленными фигурами). Чудесная старинная вещь. Наверно, персидская. Не правда ли? Поля из перламутра и ляпис-лазури, фигуры из серебра и золота. Настоящие произведения искусства!
Клаузен. Такой вещи, пожалуй, не найдешь во всей Европе. Мои редакторы знали, что я иногда люблю сыграть партию.
Винтер подал шампанское, Клаузен и Гейгер садятся. Винтер наполняет бокалы. Тайный советник поднимает бокал.
Благодарю тебя за то, что приехал.
Гейгер. О, благодарить тут не за что. Все очень удачно сложилось. Я всегда с радостью возвращаюсь на родину… Тем более по такому счастливому поводу.
Винтер подносит Гейгеру спичку. Он закуривает.
Ты все еще не предался этому прекрасному пороку?
Клаузен. Нет. Зато я щедро наделен другими пороками.
Оба некоторое время молчат.
Гейгер. Твоя дочь – жемчужина.
Клаузен. Я привык с тобой соглашаться. Твое слово подобно печати, которую прикладывают к истине.
Гейгер. Беттина тебя боготворит.
Клаузен. Это, пожалуй, верно, но иногда меня это страшит.
Гейгер. Дочери почти всегда преклоняются перед отцами, и я даже позволяю своей дочери, когда это забавляет ее, называть меня Зевсом или Вотаном.
Клаузен. В таких восторгах кроются опасности, известные психологам и которые могут вредить обеим сторонам. А в общем, я действительно многим обязан Беттине и благодарен ей. Она милый и добрый ребенок. Кстати, твоя дочь рассказывает тебе когда-нибудь свои сны?
Гейгер. Нет. У моей Алисы слишком практический ум. В лучшем случае она говорит о гимнастике, гребном спорте и преподавании.
Клаузен. А моя дочь рассказывает мне свои сны, и в этих снах я почти всегда участвую в качестве какого-то высшего существа! Иногда – вместе с покойной женой.
Гейгер. Ну да, ведь Беттина религиозна. Смерть матери сильно повлияла на нее.
Клаузен. Она говорит, что наш брак ни на минуту не прерывался, что мы – я и моя покойная жена – неразрывно связаны даже теперь.
Гейгер. Этим, я думаю, она пыталась смягчить для тебя боль утраты.
Клаузен. Первое время я принимал это и даже находил в этом некоторое утешение. Не то чтобы я был согласен с Беттиной, а просто ее детские вымыслы невольно трогали меня. Но потом вера в мою связь с покойной женой приобрела у нее такие формы, от которых отвернулось все мое здоровое естество. У меня нет склонности к оккультизму. И хотя я не останавливал Беттину, чтобы не оскорблять ее, когда она говорила о моей связи с потусторонним миром, это становилось мне все более неприятно.
Гейгер. Душевная жизнь стареющей девушки, которая к тому же физически неполноценна, распускается иногда странным цветом, но отец может не обращать на это внимания.
Клаузен. Гейгер, ты голос нашей здоровой юности, который так долго молчал во мне. Теперь он снова звучит во мне. Я его слышу! Поэтому твой приезд – дар провидения. Выпьем за нашу юность!
Гейгер. О, отчего же нет? Хотя сейчас тщетно искать на моей голове черный волос, как некогда – седой.
Чокаются и пьют.
Клаузен. Я думаю, что должен тебе поведать о том кризисе, который я пережил в этом пустом доме, в этом, сказал бы я, пустом мире после того, как похоронил жену.
Гейгер. Говорят, тебе было плохо.
Клаузен. Это правда. Утрата жены привела меня в какое-то странное состояние. Врата смерти, через которые она ушла из жизни, казалось, не могли сомкнуться. Мне чудился в этом какой-то скрытый смысл; с другой стороны, нужно сказать… жизнь потеряла для меня всякий смысл. И вдруг я увидел – или подумал, что вижу, – вокруг себя отчужденность, бесполезность и безнадежность. Мои близкие, конечно, делали все, чтобы вернуть меня к бытию, но манящие голоса моих ранее ушедших друзей не умолкали. Почему бы мне не последовать за ними? Эта мысль соблазняла меня. В ней было облегчение, покой и несомненное наслаждение… Право, Гейгер, если бы не мои дети, я, вероятно, решился бы на этот последний путь… Я говорю это не из сентиментальных побуждений. Простая забота о детях, об их существовании, их благе удерживала меня. Я хотел продержаться хотя бы до тех пор, пока их будущность будет обеспечена, насколько только это возможно в пределах человеческого предвидения. В этом – нельзя забывать – была немалая заслуга и моего настойчивого домашнего врача Штейница и доктора Вуттке. Всеми правдами и неправдами они добились того, что я наконец отвратил свой взор от черных дум, к которым постоянно возвращался, и снова стал человеком среди людей!
Гейгер. Итак, ты, слава Богу, выкарабкался!
Клаузен. Я должен ответить на это и да и нет. Я все еще не совсем принадлежу жизни. Иногда я оглядываюсь вокруг, и мне кажется, будто все это меня не касается. К этому присоединяется, – конечно, не сейчас, когда ты здесь, – чувство одиночества и покинутости.
Гейгер. Одиночества? Странная мысль: ведь только что ты был центром всей этой праздничной шумливой суеты.
Клаузен. Ты, милый Гейгер, уничтожаешь мое одиночество, а не праздничная суета. Она проникает ко мне, как сквозь обитую войлоком дверь. Поистине верный друг – это «исцеление жизни», как говорил бесконечно мудрый Иисус Сирах. Но сейчас мне значительно лучше, несмотря па довольно коварные рецидивы. Тогда во мне поднимается отвращение, тогда я вижу лишь крутящийся в пляске смерти сброд, беспощадно и бесконечно гонимый в вихре некоей машиной, и тогда моя рука снова тянется к известной мне двери, ручку которой легко нажать, чтобы молча уйти от жизни. Но довольно психологической метафизики! Поговорим о действительности. Как тебе нравится мой зять?
Гейгер. Бизнесмен с головы до пят.
Клаузен. Так это, значит, бизнесмен? Раньше таких людей называли коммивояжерами. Мне он не нравится. Но я признаю, что для благополучного хода дел он необходим.
Гейгер. У тебя есть разногласия с зятем?
Клаузен. О нет, мы прекрасно ладим. Но я вижу яснее ясного, как прекрасное и высокое дело всей моей жизни в его цепких руках превращается в мерзкое торгашество.
Гейгер. Да, в самом деле, в наше время все чаще ставят своей единственной целью грубую наживу.
Клаузен. Будь последователен и добавь, что такой зять, как Кламрот, перед которым отцы города уже мечут бисер, – счастливое приобретение для меня и моей семьи.
Гейгер. В известной мере! Я не отрицаю.
Клаузен. Можешь ли ты сказать еще что-нибудь в его пользу?
Гейгер. Только спросить: довольна ли Оттилия своим браком?
Клаузен. Как это ни удивительно, довольна. Чувствительная маленькая Оттилия, которая менялась в лице от каждого громкого слова, наша хрупкая фарфоровая куколка, которую нужно было оберегать от малейшего дуновения ветерка, обожает этого неуклюжего молодчика, хотя каждый его шаг и каждое его слово должны были бы ежедневно, ежечасно ее оскорблять. И он еще обманывает ее.
Гейгер. Ничего не поделаешь. Нужно мириться, когда наши дочери отдают себя во власть мужской грубости.
Клаузен. С потерей дочери примириться можно, но, странно, стоит мне хотя бы мельком подумать о моем зяте, как я вижу направленное на меня оружие.
Гейгер. Ты мне не нравишься, дорогой Маттиас! Я согласен, что каждый должен ежедневно, ежечасно защищать место, которое он занимает в жизни. Но как это ты, всеми уважаемый и всеми любимый человек, вообразил, что кто-то из круга твоей семьи направляет на тебя оружие? Я полагаю, ты должен отказаться от этой мысли.
Клаузен. Нет, я не откажусь. Поговорим лучше о чем-нибудь другом. (Кладет руку на стоящую поблизости шахматную доску.) Взгляни на эту шахматную доску, подарок моих редакторов. Меня поразило как электрическим током, когда я увидел ее! Я был так потрясен, что едва мог поблагодарить их. Мне чудился в этом подарке какой-то скрытый смысл: лучшего символа моей деятельности нельзя придумать. Вся моя жизнь была шахматной игрой, я играл с раннего утра до поздней ночи, даже во сне. Вот эти слоны, кони, пешки – произведения искусства; но разве в этом дело? А там фигуры и доску, в сущности, держишь в уме. Самые трудные партии, иногда с полдюжины зараз, приходится разыгрывать мысленно; шахматные фигуры – это живые существа, живые люди.
Гейгер. В этом можно тебе поверить, Маттиас.
Клаузен. Да. Но вот постепенно приближается моя заключительная партия. Противник, быть может, еще не смерть, но это уже не здоровая, брызжущая соками жизнь. Тогда фигуры превращаются в демонов. Как раз теперь я разыгрываю такую партию; она день и ночь держит меня словно в тисках и терзает своими сложными задачами.
Гейгер. Как обычно, ты выйдешь победителем.
Клаузен. Что-то в этой партии вселяет в меня ужас: черные – у них у всех такие знакомые лица – неумолимо наступают на меня, они все больше и больше закрывают мне выходы и безжалостно угрожают сделать мат, как только я перестаю напрягать усталые глаза. Тысячу раз, даже в повторяющихся каждую ночь кошмарах, я принужден отскакивать от доски.
Гейгер. Просто опрокинь эти фигуры, если они тебя мучают. Эту призрачную шахматную партию тебе незачем доигрывать.
Клаузен (изменившись, встает, решительно). Да, так и будет, Гейгер! Я опрокину их!.. И зачеркну этим всю мою прежнюю жизнь. Я сделаю из нее tabula rasa.
Гейгер. Tabula rasa из твоей жизни, которая была одной из плодотворнейших в мире?
Клаузен. Но ты же сам говоришь – была! Верь мне, все, что сейчас происходило, и все, что меня окружает: дети, картины, ковры, столы, стулья, да и все мое прошлое, – для меня хлам. Все для меня мертво, и я хочу передать его тем, для кого в этом – жизнь.
Гейгер. Значит, ты хочешь от всего отойти?
Клаузен. Я только окончу партию с призраками. Я не хочу, чтобы мои близкие постепенно, хотя бы даже только в душе, превращались в моих убийц и с нетерпением ждали моей смерти. Ведь то, чем они так страстно стремятся завладеть, для меня теперь – ничто!
Гейгер. Ради Бога, дорогой друг, отрешись от этих гнетущих мыслей. Нет отца, которого бы так уважали его дети, как тебя!
Клаузен. Я не говорю ни да ни нет. Прав я или не прав, мой друг, я решил обрубить канат, который привязывает меня к старому кораблю, к его прежнему курсу. Либо так, либо вовсе не жить! Как ни странно, но совсем не легко отринуть то, чего в действительности уже нет, освободиться от него. Для этого нужны суровые упражнения воли. Но кое-чего я уже достиг: в моей психологии появилось что-то новое. А теперь, когда я становлюсь как бы человеком без прошлого…
Гейгер (все еще шутливо). Значит, ты просто не жил? Ты ведешь себя так, словно только что родился.
Клаузен. Так оно и есть. В этом есть своя правда. (Встает, словно испытывая облегчение, глубоко дышит, ходит взад и вперед по комнате, потом пристально смотрит на портрет своей жены, когда она была еще его невестой.) Вот здесь, на стене, моя вечно молодая прекрасная невеста. Если существует не только потусторонняя жизнь, но и божественное понимание, то я уверен, ты меня поймешь, поймешь мою vita nova, которая теперь началась. Я не должен оправдываться перед тобой, – но мои мысли должны остаться неизвестными для моей семьи. Я должен скрывать их даже от Беттины.
Гейгер. Я хочу знать больше. Твое поведение меня удивляет. Оно кажется мне странным и загадочным.
Клаузен. Удачнее нельзя определить мое состояние. Во мне бродит чудесное… Я окружен загадками.
Гейгер. Извини меня за глупый вопрос. Скажи, в этом, как ты называешь, освобождении, в этом сознании избавления играют роль внешние обстоятельства, или же все это связано только с твоим душевным состоянием?
Клаузен. На это не так легко ответить. Внешние обстоятельства? Возможно. Но все-таки главная причина внутри меня. Впрочем, тут можно было бы обойтись без обиняков. На вопрос я мог бы ответить вопросом. Я бы спросил: скажи, на празднике в толпе там, в саду, не привлекло ли твоего особенного внимания одно женское лицо?
Гейгер. О, конечно, лицо миловидной блондинки!
Клаузен (останавливается перед Гейгером). Сегодня я тебе больше ничего не скажу. Но завтра мы с тобой поедем на моей машине за город, в садоводство при маленьком пустующем замке. Ты сам все увидишь и поймешь, какое для меня связано с этим переживание…
Гейгер. О, я догадываюсь. Об этом идет молва…
Занавес
Произведения
Критика