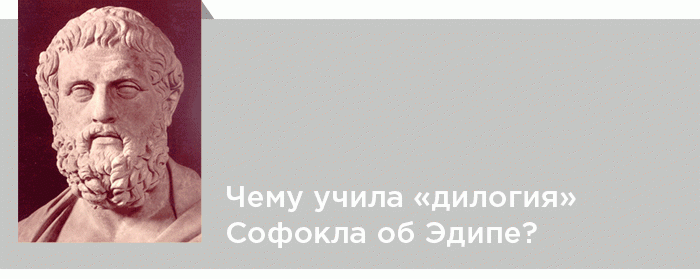Пророк – в своём отечестве

Марк Бент
«В сущности, он ничего не сказал, но голова его была настолько внушительна, мимика и жесты до такой степени категоричны, проникновенны и выразительны, что слушателям... казалось, будто они узнали нечто чрезвычайно важное...» Не следует искать этих строк в рецензируемой книге. Они взяты из другого источника — из романа Т. Манна «Волшебная гора» — и относятся к монументально-гротескной, исполненной комического величия фигуре мингеера Пееперкорна, косноязычное красноречие которого заставляет в каждом его слове предполагать невысказанные тайны. Как позднее признавался Т. Манн, образ богатого голландца «списан» с Г. Гауптмана, бывшего на рубеже веков самым знаменитым драматургом, сохранившего и в дальнейшем «жреческий» авторитет в немецкой словесности.
Когда обдумываешь прозу Гауптмана, когда обращаешься к его очень не бесспорным статьям, трудно не заметить несовпадения художнических масштабов писателя и его, выражаясь по-кантовски, «способности критического суждения». Едва ли не каждый раз, когда Гауптман берется истолковывать социальные или метафизические проблемы, обнаруживается многозначительная невнятность его мыслей, порой они просто удручающе банальны. То, что будет сказано ниже о смысле гауптмановской прозы, — скорее прозрения большого художника, нежели концепция мыслителя.
Автобиографичен в романе «Атлантида» (1911-1912) образ главного героя — врача, ученого, художника Фридриха фон Каммахера. Переживаемый им душевный и творческий кризис, связанный с семейной драмой и с критикой его научных исследований, отсылает к событиям 90-х годов, когда Гауптман совершил первое путешествие в Америку по бурной Атлантике и даже какое-то время строил планы «новой жизни» по ту сторону океана. В свои тридцать лет Фридрих довольно преуспел, но все достигнутое теперь идет прахом: жена в клинике для душевнобольных, дети — у чужих людей, претят прежние научные интересы, в довершение всего он охвачен лихорадочной и несколько постыдной страстью к шестнадцатилетней танцовщице Ингигерд Хальштрем, чей облик на протяжении романа подвергается радикальной переоценке: из капризно-очаровательного и изнеженно-порочного подростка, играющего в куклы и помыкающего поклонниками, она деградирует до «убогой Кармен», до «Ламии» (вампир в женском облике) и «паука-удавщика», становится «восковой фигурой из паноптикума» и «предметом торга». Общение на корабле с этой новоявленной Цирцеей почти излечивает Фридриха. Остальное довершает искусство: скульптурный портрет возлюбленной, возникающий у него на глазах, открывает Фридриху ее вульгарность, тщеславие, пошлость.
Недолгое пребывание в американской провинции, сопровождаемое попытками опрощения и опустошающими видениями на грани помешательства, очищает молодого человека для нового начала, он возвращается в Европу полный надежд, а его счастье с деятельной и любящей Евой Бернс должно послужить достойной наградой за перенесенные испытания и залогом творческого возрождения.
Таков зримый рисунок сюжета (мы опустили лишь центральное событие — кораблекрушение). За ним просматривается традиционная в немецкой литературе тема художника, полемически осваиваемая «мейстериада». Благословляя тех, кто отправлялся в Америку на поиски счастья, герои Гете для себя решали иначе: «Здесь мой Гернгут (религиозно-трудовая община. — М. Б.), здесь моя Америка». Фридрих, по видимости, приходит к такому же итогу. Однако, в отличие от Мейстера, пережившего увлечение театром, но сделавшего выбор в пользу практической медицины, он проделывает обратный путь и становится художником, то есть поступает в духе романтических оппонентов Гете — Новалиса, Вакенродера, Тика, Ф. Шлегеля.
В свою очередь, и над этой «эстетической» моделью надстраивается философская мистика всякого человеческого бытия, предполагающего блуждания и заблуждения в земном мире, очищающее нисхождение в загробное царство (сны Фридриха, гибель «Роланда») и возрождение. Можно поэтому говорить о «дантовской» структуре романа, где Америке отведена роль «чистилища», а возвращение на родину и спасение в искусстве приобретают серафические черты обретенного рая.
Гибель «Титаника» в апреле 1912 года придала роману Гауптмана оттенок сенсационного пророчества, хотя, по справедливому суждению автора предисловия А. В. Русаковой, «замкнутый мир «Роланда» изображался как символ современного общества, а его погружение в пучину имеет не только мистический, но и социальный, хотя и не очень ясный, смысл». Напомним, что тема «заката Европы» муссировалась в литературе и искусстве и раньше. Уже в ибсеновском «Письме к даме с воздушным шаром» Европа уподобляется кораблю, несущему труп в своем трюме. Этот мотив почти буквально повторен Гауптманом (смерть кочегара и обряд его погребения в волнах), а вслед за ним И. А. Буниным («Господин из Сан-Франциско»), С. Цвейгом («Амок») и др. Борт корабля — вообще излюбленное пространство для изображения экзистенциальных, социальных, космических катастроф.
Имена «властителей дум» современности: Дарвина, Достоевского, Шопенгауэра, Толстого, Кропоткина — не напрасно звучат со страниц романа. Современное общество переживает сложные процессы. Великолепный сверкающий корабль воплощает все достижения западной цивилизации, но если команда, как на подбор, состоит из обаятельных образцов расовой чистоты и национальных немецких добродетелей («отвага и скромность, ум и простодушие»), то «чистая публика» — это в основном малопривлекательный обывательский сброд, истеричный, тщеславный и вздорный; на палубе маются скитальцы — эмигранты-евреи из России, а в самом низу «полуголые илоты» швыряют уголь в ненасытную топку. Всего этого автор крамольных некогда «Ткачей» не замечать не может, но и осмыслить не в состоянии.
Впрочем, порой писатель проявляет почти ясновидение, — например, в дискуссии о цивилизации, которую Фридрих ведет с корабельным врачом. Отвечая на оптимистическое заявление последнего о том, что, несмотря на безжалостность цивилизации по отношению к человеку, худшие времена варварства позади, Фридрих мрачно пророчествует: если вырвутся наружу силы фанатизма, «махровым цветом расцветут вновь все ужасы Тридцатилетней войны и процессов еретиков, кровавой бойни средневековья». Борьба за место на шлюпках во время гибели «Роланда» подтверждает это зловещее предсказание: атавистические инстинкты затаились в человеке, любая катастрофа способна их разбудить.
Уже первые слова романа многозначительно намекают на предстоящий юбилей — 400-летие со времени открытия Америки Колумбом. Американская тема настойчиво звучит в романе, но, пережив встречу с Новым Светом в качестве ошеломленного путешественника, Гауптман лишь набрасывает еще один отчасти сатирический, отчасти полный энтузиазма портрет молодой, динамичной, бесцеремонной нации. Он не может утаить росхищения энергией и деловой хваткой американцев, но жить здесь... «Куда угодно, но только не оставайся в этой гигантской торговой конторе, где искусство, наука и подлинная культура никому не нужны и никого не волнуют!» В финале Фридрих назван «одним из действительно спасенных». Спасают ли искусство и любовь? Об этом — второй из помещенных здесь романов, «Вихрь призвания» (1936).
Написанный в пору «подведения итогов», этот «театральный роман» отразил стремление старого писателя вернуться в атмосферу своей молодости, в атмосферу искусства и там укрыться от одиночества и отчаяния, на которые его обрекало двусмысленное положение в Третьей империи. Сопоставляя оба романа, можно увидеть их структурное сходство, не в последнюю очередь связанное с автобиографизмом. Во втором романе, правда, отражен более ранний, относящийся к 80-м годам, мучительный поиск Гауптманом своего творческого предназначения. Важнее, впрочем, другое, а именно то, что оба романа обладают содержательной и композиционной «иерархичностью». И во втором сквозь «видимый» сюжет просматриваются сюжеты метафизические.
Вопреки заключенной в «Вихре призвания» ностальгии по юности, образ Эразма Готтера, молодого «гения», вызывает сочувствие, но отнюдь не восхищение читателя. Его метания между тремя женщинами: женой Китти (верной, сильной, прекрасной), не лишенной обаяния ветреной лицедейкой Ириной и загадочной принцессой Диттой, зовущей к приключениям в большом мире,— порой настраивают на иронический лад и самого автора. Если бы содержание романа исчерпывалось душевными драмами Эразма, изображением театральной среды, актерских нравов и типов и т. п. — роман не заслуживал бы серьезного разговора.
Но здесь обсуждается постановка «Гамлета», и это сразу придает событиям частной и светской жизни «глубину». Сумрачная атмосфера здешних мест (дом с «привидениями», разговоры о самоубийствах и смертях, волнующие природные «кулисы»), прозрачные параллели между персонажами романа и героями шекспировской драмы, содержательная интерпретация «Гамлета» — все это побуждает рассматривать роман под углом зрения трагических коллизий человеческого бытия. Гамлет тоже призван к выбору, которого он хотел бы избежать. Он «страшится убийства, крови, вины, всей этой грубой, пахнущей кровью, судейской миссии», думая «укрыться в Виттенберге», оплоте свободомыслия и гуманности.
Тут-то автор и «проговаривается» о своей художнической тайне: он не хочет быть ни палачом, ни жертвой, его призвание — искусство. Совершенно очевидна связь романа Гауптмана с гетевским «Вильгельмом Мейстером», где, напомним, герой тоже занят сценической интерпретацией шекспировской трагедии. Однако, подобно «Атлантиде», роман «Вихрь призвания» — скорее анти-«Мейстер»: отказавшись от суетного, экзальтированного мира театра, преодолев благодаря любовным и творческим волнениям душевный кризис, Эразм под конец «спасается бегством». Давно подтачивавшая его болезнь заставляет искать спасения в горном легочном санатории. Спустя год, выздоровев и посолиднев, он вернется в мир театра, но уже в качестве драматурга. Новый символ веры Эразма выражен в словах: «здоровье, работа и независимость».
Перенести решение жизненных коллизий в сферу искусства и философии — какой «немецкий» ответ на выдвигаемые действительностью проблемы! Не укрылся ли под сенью искусства и сам Гете, разочарованный опытом государственной деятельности? А романтики с их эстетической утопией?
Но, возвращаясь к шекспировским аллюзиям, невольно спрашиваешь себя: если датский принц найдет убежище в Виттенберге, то кто будет править в Эльсиноре? Ответ на этот «гамлетовский» вопрос в 1936 году был уже известен.
«Гете гармонично вписался в причудливые искания моего духа», — говорит рассказчик в новелле «Миньона». В этом признании словно бы запечатлена драма Гауптмана — художника и мыслителя: он пытался удержать гармонию средствами искусства в то время, когда в мире и человеке свирепствовал жестокий и дисгармоничный дух. И потому последние слова книги (из песни Миньоны): «Лишь тот, кто знал тоску...» — звучат как тайное признание автора.
Л-ра: Литературное обозрение. – 1990. – № 12. – С. 67-68.
Произведения
Критика