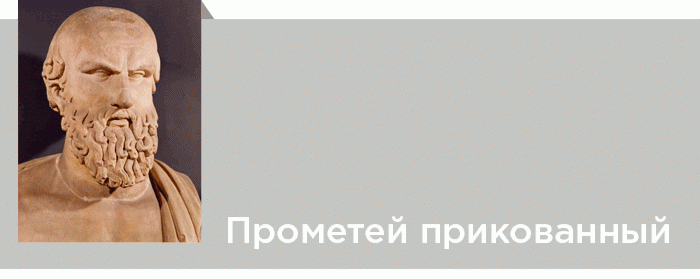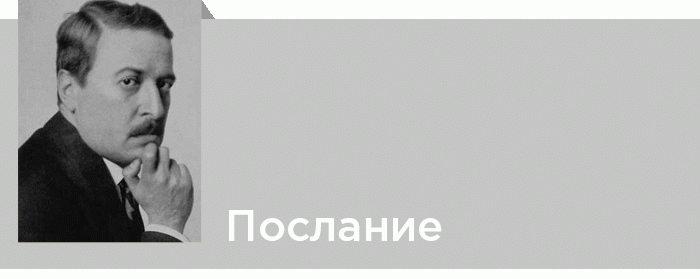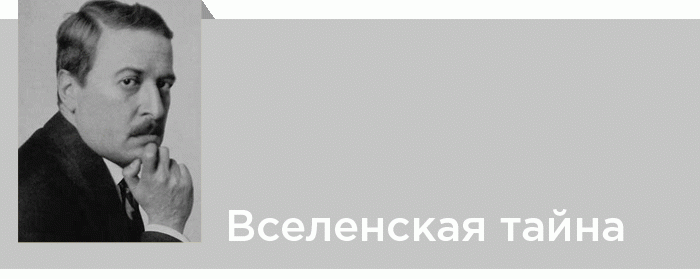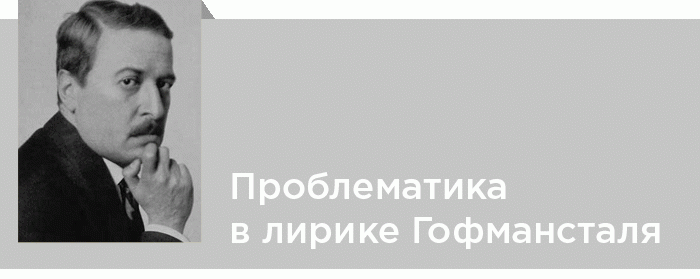Мифы и сны Гуго фон Гофмансталя
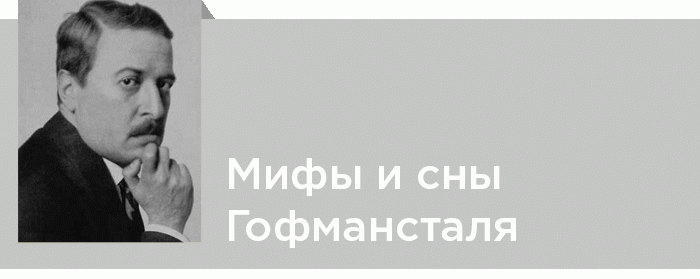
Юрий Архипов
Гофмансталь — одно из устойчивых имен в общеевропейском репертуаре XX века. У нас — это почти полностью забытое имя.
Гуго фон Гофмансталь (1874-1929) — один из тех немногих австрийских драматургов XX века, кто сумел своим творчеством пополнить золотой фонд классики австрийского театра, заложенный в прошлом столетии Грильпарцером, Раймундом, Нестроем.
Весьма немногие из австрийских драматургов нашего века — Шницлер, Хорват, Брукнер, Хохвельдер — могут соревноваться с Гофмансталем по количеству постановок. Да и то, если вести речь только о драматическом театре; если же учитывать и оперные либретто, написанные Гофмансталем («Кавалер роз», «Ариадна в Наксосе» и другие), то он далеко опережает всех.
Многие годы традиционные зальцбургские театральные фестивали открываются философской притчей Гофмансталя «Большой зальцбургский театр жизни». Время от времени возобновляются его театрально-поэтические миниатюры — «Смерть Тициана», «Глупец и смерть», «Вчера». Режиссеры разных поколений пробуют свои силы на глубокой, полной смысловых бездн, философской драме «Башня», пророчески предвосхитившей социальные катаклизмы нашего века. Непреходящей любовью и актеров, и режиссеров, и публики пользуется изящная драматическая комедия «Трудный характер», с ее тонким психологическим рисунком и естественным, жизненным остроумием.
Словом, Гофмансталь — одно из устойчивых имен в немецкоязычном, да, пожалуй, и общеевропейском репертуаре XX века.
Между тем у нас это почти полностью забытое имя.
А ведь в начале века было не так, тогда оно мелькало и на афишных тумбах и на книжных прилавках: сама Комиссаржевская ставила его пьесы, а отдельных изданий на русском языке они выдержали более тридцати. Имя Гофмансталя было среди символов культурной жизни тех насыщенных ожиданиями лет. Может быть, читатель помнит, как в «Чистом понедельнике», своем позднем ностальгическом шедевре, зоркий и внимательный к приметам времени Бунин, перебирая знаки ушедшей эпохи, упоминает и модные новинки иностранной литературы, за которыми считала своим долгом следить разочарованная, но «ищущая» героиня: «Я привозил ей коробки шоколаду, новые книги — Гофмансталя, Шницлера, Тетмайера, Пшибышевского...»
Не случайно Гофмансталь здесь в одном ряду не только с мало кому теперь ведомым Тетмайером, но и с «коробками шоколаду». Духовный десерт — что те же сласти. Может ли на большее притязать литературная, как и всякая, мода? В самой Австрии, растворившейся после «аншлюса» в фашистской Германии, на его книги был наложен запрет. Да и читателям других стран в напряженнейшую для судеб человечества эпоху было не до «эстета» и «декадента» — а именно такие прицепились к Гофмансталю литературоведческие ярлыки.
В послевоенные годы в западноевропейской и нашей критике совершался непростой, но неуклонный пересмотр наиболее весомого литературного наследия рубежа веков: Метерлинк и Уайльд, Валери и Киплинг, Шницлер и Стриндберг постепенно освобождались от пресловутого декадентского клейма, представали во всей своей сложности, оценивались по-новому — по их проверенной временем эстетической жизнеспособности. Изданы и с интересом встречены эти авторы и у нас. Думается, настал черед Гофмансталя. Тем более что у себя на родине, в Австрии, как и во всех прочих странах немецкого языка, он возведен в пантеон мировой литературы: во всяком случае, лучшие образцы его лирики, драматургии, прозы и эссеистики признаны классическими, причислены к вечным ценностям. Тут стоит упомянуть и о том, что еще одна часть наследия Гофмансталя увековечена благодаря музыке Рихарда Штрауса, написавшего на либретто своего венского друга около двадцати опер, часть которых («Ариадна в Наксосе» «Кавалер роз») устойчиво держится в мировом репертуаре.
Всякая переоценка ценностей, однако, чревата увлечением противоположной крайностью. Об этом необходимо помнить — в особенности, когда имеешь дело с культурой кризисной, рожденной пересечением эпох. Пожалуй, как никогда потом или прежде, литература кануна революций умудрялась соединять в себе столько живого и столько мертвого. Редкие, хоть и пышные оазисы посреди монотонной безжизненной пустыни — так выглядят свершения символизма, направления, с которым прежде всего связывается творчество Гофмансталя, и в других европейских странах.
В символизм, как и в любой другой «изм», легко укладываются только второстепенные авторы. Начиная с определенного уровня силы, писатель неизбежно взламывает рамки «изма», как Гвидон свою бочку. В том, что это так, нетрудно убедиться на примере жизненного и поэтического пути Гофмансталя. Следуя его духовной эволюции, можно заметить, как вырастает писатель из детских штанишек неоромантического эстетизма, как все более властно призывает его жизнь в ее полноте, как все шире открывается ему универсальный смысл классических запечатлений жизни.
Изменяется в эстетическом сознании Гофмансталя и само понятие «жизни». Если на первых порах «жизнь» для него — это гедонистское смакование всех подробностей и оттенков индивидуального восприятия — как «игры дробящихся морских волн» (все это в согласии с постницшевской «философией жизни» — Дильтея, Зиммеля и др.), то в дальнейшем, особенно под влиянием событий Первой мировой войны, понятие «жизни» стремительно расширяется, подразумевая слияние индивидуальной судьбы с судьбой общенародной, подразумевая ответственность индивидуума за духовную традицию нации. Параллельно наполняются новыми значениями понятия культуры и литературы, понимаемой под конец как «духовное пространство нации», то есть как живой, постоянно бьющий источник прогрессивной национальной традиции, противопоставленный ублюдочному шовинизму фашистского образца. Все это и обеспечивает современный острый интерес к Гофмансталю не как к музейной реликвии, а как к живому голосу некогда мощной европейской культурной традиции, стойким и ревностным блюстителем которой он оставался всю свою жизнь. Подобно русскому символисту Вячеславу Иванову (во многом близкое типологическое соответствие Гофмансталю), его австрийский собрат всю жизнь поклонялся гётевским «старым истинам» и, конечно, не был новатором; он был, скорее, завершителем классических традиций европейской культуры, пытавшимся в этих традициях, в кристаллизации классических форм обрести противовес современным ему тенденциям распада. Путь, чреватый своими искусами вторичности, книжности, заемной помпезности и нередко приводящий в «тупики эстетизма». Некий ехидный критик давно подметил, что писателя делает писателем... недостаток образования; и действительно избыток книжных знаний, «чужих образцов» нередко гасит непосредственный порыв, парализует творческую волю художника. Вот и Гофмансталь немало сил истратил в борениях с этим параличом рассудочности, до конца изведав это своеобразное «горе от ума». И то, что ему подчас удавалось возобладать над этой болезнью последыша, свидетельствует о его могучих задатках, сделавших его, в конце концов, столь приметной фигурой культурной жизни своей эпохи.
Что же это была за эпоха?
Политэкономия, социология отвечают решительно и точно: загнивание капитализма, кризис социальных и национальных противоречий, канун революционных переворотов на пути от буржуазного индивидуализма к пролетарскому коллективизму. Сложнее приходится искусствознанию и литературоведению, имеющими дело с пестрым водоворотом идейно-эстетических направлений, течений, теорий, концепций, школ.
«Золотой век прочности» (такой представлялась юному Стефану Цвейгу, по его воспоминаниям, действительность конца прошлого века) на поверку оказался с гнильцой и грозил катастрофическим закатом. Это было время, когда многим в Европе — от Владимира Соловьева до Мориса Метерлинка — чуялся близкий конец мира, когда уходящий век в эстетическом томлении любовался своим бессилием, не зная, как и зачем дальше жить, когда появилась чеховская «Чайка», ибсеновские «Привидения», метерлинковские «Слепые», а наступающий век возвещал о себе мрачной футурологией Ницше и истерическими чаяниями Мережковского о «Грядущем хаме»; в этой нервной, экзальтированной обстановке колеблемых ценностей, когда, по воспоминаниям одного русского литератора, каждый номер декадентского журнальчика, доступного любому прохожему, дразнил космическими безднами духа и обещаниями в очередной статье окончательно разрешить все проклятые вопросы жизни, в эти роковые для мира минуты складывались и развивались миросозерцание и взгляды поколения Пруста и Томаса Манна, Валери и Рильке, Джойса и Белого, Кафки и Хлебникова, Блока и Гофмансталя.
Переоценка ценностей стала внутренней необходимостью и лозунгом культуры рубежа веков, рубежа эпох. Жестокая практика капиталистического предпринимательства на каждом шагу попирала «незыблемые» правила и каноны благовоспитанности; культ семьи, пиетет к религии, лояльность к правительству и прочие добродетели XIX века терпели невиданную инфляцию; права личности, человеческое достоинство обернулись пустыми либеральными разговорами, что с обескураживающей отчетливостью выявилось, когда мир был ввергнут в полосу первобытного животного варварства — в Первую мировую войну.
Кроме того, бурное развитие науки и техники впервые породило не утопические надежды, а резонные опасения: сможет ли человек разумно распорядиться изобретениями своего разума?
Гофмансталь-писатель творил ровно сорок лет — с 1889 по 1929 год. Если первые два десятилетия его творчества были годами сейсмографического предчувствия катастрофы, то последующие два — годами настоящей агонии. В европейской культуре распространились настроения прямо-таки апокалипсические. «Апокалипсис нашего времени» — так и назвал свою последнюю книгу (1919) даровитый и чуткий провозвестник кризиса В. Розанов. О «Закате Европы» писал Освальд Шпенглер, о гибели европейской культуры — Андрей Белый, об «апофеозе беспочвенности» — Лев Шестов, о торжестве бессвойственности — Роберт Музиль, о новом трагическом мироощущении — Бердяев, Ясперс и Унамуно, о распаде ценностей — Макс Шелер, о распаде действительности — Гофмансталь. В десятках и сотнях книг этого времени объективировался кризис общества, кризис испытавшего пресловутое отчуждение индивидуума, выраставший в художественном сознании творческой интеллигенции до космических масштабов: «Последние дни человечества» (название обширной, на 35 печатных листа, драмы Карла Крауса), казалось, действительно не за горами, а мысль о том, что «хрупкое летосчисление нашей эры подходит к концу» (Осип Мандельштам), была одной из самых расхожих.
Австрия, именовавшаяся в эту пору Австро-Венгрией, не случайно стала родиной многих печальных и трагических талантов (и не только в литературе, конечно, но и в живописи — Климт, Шиле, Кокошка, в философии — Фрейд, Вейнингер, Бубер и особенно в музыке — Шёнберг, Веберн, Берг, Малер). Ведь она была наиболее яркой и убедительной моделью гибнущего мира.
Во главе государства — этого противоестественного симбиоза наций — стоял древний и дряхлый монарх, пребывавший на троне с 1848 года и давно переживший себя, превратившийся, по слову Стефана Цвейга, в «живую легенду», недосягаемый и далекий, по слову Кафки, как китайский император, являвший собой прямо-таки выдающийся пример отчуждения власти, абстрагированности ее.
Гигантски разросшийся бюрократический аппарат Австро-Венгрии станет в дальнейшем предметом язвительнейшей сатиры, но это будет позднее, уже после того, как «кайзеровская и королевская» империя развалилась: в 20-е годы к Гашеку присоединятся Кафка и Краус, в 30-е — Музиль, Брох, Рот, Хорват, Чокор и Канетти, в 40-50-е — Додерер, Гютерсло, Зайко, Герцмановский-Орландо: раскаты грандиозной исторической катастрофы не смолкают в австрийской литературе вплоть до нашего времени.
Любому австрийскому школьнику ведома многократно описанная театральная, даже оперная сцена появления на литературной арене Гофмансталя. Поистине то был триумф долгожданного принца из сказки.
Время действия — апрель 1891 года. Место действия — венское кафе «Гриенштайдль», служившее чем-то вроде литературного клуба. Маститый Герман Бар с нетерпением поджидал таинственного незнакомца, которому заочно назначил встречу. Нетерпение его было легко объяснимо. Ведь уже несколько лет он в печати и изустно предсказывал решительные перемены в литературе, предсказывал, в частности, появление «легкостопной» и быстрой, шелестящей, как молодые побеги, поэзии. И похоже, предсказания его сбываются. Вот уже с год, как в венской газете «Ди Прессе» стали появляться удивительные стихи, подписанные экзотическим именем — Лорис Меликов. Вслед за ними стали печататься и критические рецензии под той же фамилией. И стихи и рецензии, отделанные как изящные мини-эссе, сразу приковали к себе внимание знатоков и литературных мэтров, не затерявшись в лавине опусов в этих ходовых жанрах. Бар послал в газету запрос, и редактор взялся устроить встречу. Загадочный Лорис должен был вот-вот появиться. Заинтригованные мэтры, ждавшие чуда, не сразу заметили, как к их столику подошел худенький мальчик и, вежливо поклонившись, с достоинством произнес: «Я — Лорис». Выяснилось, что поэту, поразившему коллег классической зрелостью своего письма, всего шестнадцать лет, что он гимназист и как таковой не имеет права печататься, а потому должен скрываться под псевдонимом, который нашел случайно, выбрав в ворохе газетных сообщений фамилию скончавшегося русского сановника.
В шестнадцать лет Гофмансталю дались строки, которые навсегда останутся в немецком языке. Столь ранняя зрелость в мировой поэзии встречается редко.
Мемуаристы вспоминают, что стоило Гофмансталю заговорить, как все немедленно забывали, что перед ними почти ребенок. Это был очень серьезный, невероятно начитанный и рассудительный юноша, очень нервный, с быстрыми движениями и быстрой речью, с острой впечатлительностью и немедленными, спонтанными реакциями на окружающее — «он словно стремился не упустить ни одного мига жизни, будто знал, что времени ему отпущено не так много». Этот отзыв одной из современниц типичен. Артур Шницлер, вернувшись домой после первой встречи с юным Гофмансталем, записал у себя в дневнике, что впервые в жизни беседовал с гением.
«Как человек, в жилах которого течет много самой разной крови, то есть как австриец, я целиком стою за любые съединительные нити, за полное примирение противоречий...», — писал о себе в конце жизни Гофмансталь своему издателю Фишеру. Действительно, кровь в его жилах текла разная: еврейская, итальянская, славянская, немецкая. Благородная приставка «фон» не должна вводить в заблуждение: на протяжении XIX века дворянский титул в Австрии все чаще приобретали выходцы из богатых еврейских семей. Нередко такие семьи выступали в роли коллекционеров предметов искусства и меценатов. Страстным поклонником живописи был дед писателя, а его отец отдавал предпочтение литературе. Мальчик вырос в доме, где отменные коллекции китайского фарфора и венецианского стекла соседствовали с роскошной библиотекой, которая не пылилась. Этой библиотеке прежде всего он обязан поражавшей современников эрудицией.
Гофмансталь был помещен в Академическую гимназию — лучшую в Вене. Уклон был, как водилось в гимназиях, гуманитарный: древние и новые языки, история, философия, литература. Учился легко и блестяще, далеко впереди всего класса. Свое превосходство над ровесниками не подчеркивал, но осознавал; друзей не было, единственными друзьями с ранних лет были книги.
Второе образование, по его воспоминаниям, Гофмансталь получал в театре: «Бургтеатер и предместья... Впечатления мальчика: вот бы соединить стиль Расина и стиль «Праматери» (пьеса Грильпарцера. — Ю. Л.)». Будущая творческая деятельность была во многом предопределена. Нормального детства не получилось, но ведь иначе и быть не могло. Казалось, это не Гофмансталь выбрал литературу и театр, а литература и театр выбрали Гофмансталя. Жребий не из самых счастливых, но и неотвратимый. Задумываясь над ним годы спустя, Гофмансталь писал своему гимназическому товарищу: «С тех пор, как мне перевалило за тридцать и у меня есть жена и ребенок, а я чувствую себя все таким же юным, как прежде, с тех пор я знаю, знаю из собственного опыта и из документальных свидетельств, которые я теперь научился понимать, что это странное, почти жуткое душевное устройство, эта всепроникающая холодность и непостоянство, которые так отталкивали тебя во мне и так пугали меня самого, — «Глупец и смерть» не что иное как выражение этого страха, — что это душевное устройство всего-навсего особая модель существования поэта среди вещей и людей».
С шести лет Гофмансталь писал, с шестнадцати стал печататься. После первых же публикаций предложения и литературные заказы посыпались на него со всех сторон. А ведь до окончания гимназии было еще два года. Началась странная жизнь: с утра за партой, потом уроки, а вечерами — серьезная литературная работа для солидных журналов: стихи, рецензии, статьи. Вряд ли читатели обстоятельного разбора нашумевшей книги Поля Бурже «Физиология современной любви» смогли бы поверить, что выказавшему такое знание современной психологии и культуры эссеисту еще далеко до гимназического аттестата. Тот же Герман Бар, когда прикидывал, сколько лет может быть так взволновавшему его поэту, полагал увидеть перед собой бывалого мужчину лет эдак пятидесяти.
Слава Гофмансталя упрочилась и шагнула далеко за пределы Вены, когда в 1891 году вышел его «драматический этюд» «Вчера». Из Мюнхена в Вену немедленно примчался поэт Стефан Георге. Шестью годами старше Гофмансталя, он в ту пору еще только расправлял свои крылья — замышлял эстетские «Листки для искусства» и, обладая ярко выраженной натурой предводителя, вождя, сколачивал вокруг себя группу сподвижников. Прибыв в Вену, он послал Гофмансталю букет красных роз. Нужно знать гордость этого человека, чтобы оценить этот жест. Любопытно, что когда несколько лет спустя сам Рильке будет искать возможность печататься в «Листках для искусства», Георге ответит ему холодным и уклончивым полуотказом. А тут — розы.
Поначалу Гофмансталь, естественно, с большим пылом откликнулся на такое лестное предложение дружбы. Ее подогревало совместное участие в одних и тех же — программных для «модерна» — изданиях, взаимные стихотворные посвящения друг другу. Но в дальнейшем пути поэтов резко разошлись. Заносчивая гордыня, жреческая ритуальность жестов и поз, которую избрал своей пиитической маской Георге, — все это претило Гофмансталю, а демонстративное «аристократическое» презрение к профанам, к «нехудожникам» просто оскорбляло. Не обеспеченная единством взглядов дружба кончилась не просто разрывом, но и враждой. Эта бурная дружба-вражда еще раз показывает, насколько разных людей могла объединять расплывчатая, лишенная единой программы школа — «модерн». «Модерн» был как бы общей шапкой и для символизма, и для импрессионизма, и для эстетизма всех мастей: «модерном» считались и Метерлинк, и Уайльд, и Ницше, и Ибсен, и Верлен, и Стриндберг.
В 1892 году Гофмансталь окончил гимназию и, уступая настояниям отца, поступил на юридический факультет Венского университета. Юриспруденция внушала ему откровенную скуку, но он твердо решил дисциплинировать свою волю и стойко держался два года, после чего — с тою же целью укрепления воли и познания жизни — поступил добровольцем («фенрихом») на военную службу и ровно год, стиснув зубы, тянул невеселую лямку в одном из отдаленных гарнизонов. Шаг для «эстета» нехарактерный. Ведь к этому времени жизненная и общественная роль его, казалось, вполне определилась: еще больший ажиотаж, чем «Вчера», вызвал второй его «драмолет» «Смерть Тициана», открывший первый номер широко разрекламированных «Листков для искусства» и вскоре поставленный на мюнхенской сцене. А последовавший вслед за ним третий опыт в том же жанре — «Глупец и смерть» — покорил уже не только снобистские литературные круги, но и достаточно широкую публику; включенный в престижную серию издательства «Инзель», этот «драмолет» выдержал в ней двадцать шесть изданий с неслыханным для того времени общим тиражом в 275 тысяч экземпляров! И тем не менее жизненно, а порой и душераздирающе важную дилемму «поэзия и жизнь» Гофмансталь не хотел решать однозначно и в угоду литературным снобам, пусть даже и таким высокоценимым им, как Стефан Георге, поэзия которого никогда — и после разрыва — не переставала завораживать его своим высоким строем. Но у Гофмансталя был свой путь. Он — с самого начала осознавая это как глубинный завет австрийской культурной традиции, без сыновней связи с которой себя не мыслил, — стремился все со всем примирить, увязать, сочетать: традицию классики — с нервной трепетностью современности, горячие земные страсти — с притяжением космических глубин, жизнь — с поэзией. И в уланы его влекла не романтическая память о военно-державных подвигах славных деятелей былых времен (вернее, не только она), но и страстная — в сущности, истинно поэтическая — тяга к универсальности, к познанию и той, другой, обыкновенной и даже низменной жизни, без которого нет и не может быть полного представления о ее таинстве. В ответ на недоумения родственников и друзей он писал: «Я думаю, что красивая жизнь обедняет человека... Жизнь, которую мы ведем в Вене, не хороша... В духовном отношении мы живем, как кокотки, которые питаются только французским салатом и мороженым». В 1890-е годы Гофмансталь дважды побывает на военных лагерных сборах, один раз — на русско-австрийской границе, где будет близко наблюдать еврейские местечковые обычаи. Без этого опыта гарнизонно-армейской жизни ему бы вряд ли удались полнокровные образы людей из народа в таких его пьесах, как «Трудный характер» и «Башня».
Упоминание о друзьях — не оговорка. Настрадавшись в детстве от одиночества, Гофмансталь с тем большей жадностью и привязчивостью завязывал дружеские отношения в молодые и даже зрелые годы. Венские литераторы Леопольд фон Андриан, Рихард Беер-Гофман и Артур Шинцлер, немецкие поэты Рудольф Александр Шредер и Рудольф Борхардт, известные эссеисты австриец Рудольф Касснер, немец Рудольф Паннвиц и швейцарец Карл Якоб Буркгардт, композитор Рихард Штраус, режиссер Макс Рейнхардт и просто светские люди, склонные к музам, такие, как граф Гарри Кесслер, баронесса Елена фон Ностиц и барон Фридрих фон Боденхаузен, на всю жизнь останутся его близкими друзьями. Однако влиться в «богему», превратив, как и большинство из них, свое призвание в профессию Гофмансталь решится не сразу. После службы в армии, в 1894 году он возобновил свои занятия в Венском университете, но на другом факультете — филологическом, где стал специализироваться в области романской филологии. После тяжелого для обеих сторон конфликта (аналогичного тому, который разыгрался в семействе Кафки) отец был вынужден согласиться с решением сына предпочесть чиновничьей службе профессорскую карьеру. Фамильные их средства были все же не столь велики, чтобы можно было не заботиться о заработке. Гофмансталь поставил перед собой еще одну «съединительную», примиряющую цель: сочетать собственное творчество с занятиями историей литературы, с преподавательской деятельностью. Поначалу казалось, что все к тому и идет. Совмещать одно с другим, правда, почти не удавалось, зато удавалось перемежать: написав за три года учебы одну только «Сказку 672 ночи», Гофмансталь с тем большим упоением предается сочинительству после блестящей защиты в 1897 году дипломной работы о поэзии французской «Плеяды», знаменитой поэтической школы XVII века. В короткий срок возникают стихотворные пьесы: «Малый мировой театр», «Женщина в окне», «Белый веер», «Свадьба Собеиды», «Кайзер и колдунья», а также пролог к «Антигоне» Софокла, либретто балета, рассказ «Приключение маршала Бассомпьера» и многочисленные критические глоссы. Затем Гофмансталь на два года усаживается за диссертацию, без которой невозможно получить звание профессора, и, преодолевая скуку, мужественно завершает ее. «Исследование поэтического развития Виктора Гюго» было представлено Венскому университету в качестве требуемой диссертации, но пока ректорат медлил с назначением защиты, Гофмансталь успел, по его слову, «одуматься» и взял свой опус обратно. Долго сдерживаемый сочинительский фонтан забил из него с такой силой, что ни о каком совместительстве не могло быть и речи. Нелегкая, но властно притягательная доля свободного художника не оставляла другого выбора.
К счастью для Гофмансталя, в этом решении укрепила его молодая жена. Летом 1901 года он сочетался браком с Герти (Гертрудой) Шлезингер, дочерью генерального секретаря англо-австрийского банка, которую знал давно и давно наметил себе в жены. Выбор оказался на редкость удачный. Самоотверженную заботу о семье Герти соединяла с живым умом и легким нравом. С самого начала семейству благоприятствовала и житейская удача: приданого жены хватило на покупку небольшого, но весьма изысканного старинного особняка в венском предместье Родаун.
Жизнь сразу и окончательно вошла в берега. Вскоре дом наполнился детским криком и смехом — один за другим появятся на свет Кристиана, Франц и Раймунд. Здесь Гофмансталь проживет до конца своих дней и напишет почти все свои вещи. Лишь в первые годы, пока дети были маленькими, он держал для работы еще одну квартиру в центре Вены. Под сводами старинного особняка в Родауне станут сходиться друзья и собратья по перу и театру — гостевая книга, которую, как полагалось, вела хозяйка, заполнится самыми звучными именами начала века. Потекут недели и месяцы самозабвенного труда, прерываемого лишь визитами и краткими путешествиями — с образовательными целями (Италия, Париж, Швейцария), с докладами (Веймар, Гейдельберг, Базель) или на премьеру собственных пьес или совместных с Рихардом Штраусом опер (чаще всего — Берлин, Мюнхен, Дрезден). Лишь во время Первой мировой войны Гофмансталю придется на сравнительно долгое время оставить Родаун (он был призван в армию и в качестве военного корреспондента служил сначала в Италии, потом в Польше). В 1916 году он был отозван в Вену, в пресс-центр при министерстве обороны, которым руководил Роберт Музиль. Трудные времена настанут в послевоенные годы — годы инфляции и разрухи. Многие друзья-издатели к этому времени разорятся, гонорары иссякнут, и судьба очаровательного маленького поместья повиснет на волоске; дело ограничится, однако, продажей коллекций. В 1922 году друзья устроят Гофмансталю альянс с влиятельным и солидным американским журналистом «The Deal», для которого он станет регулярно писать очерки и тем спасет семью от окончательного разорения. А там наступит оживление театральной жизни, последуют новые премьеры, постановки, экранизации.
В 20-е годы, после пережитых личных и государственных потрясений, Гофмансталь, всю жизнь писавший пьесы, окончательно созреет как драматург — «Трудный характер», «Башня», «Большой зальцбургский мировой театр» будут поставлены в это время; последняя пьеса — впервые после мираклей XVI века — в соборе. Словом, казалось, что впереди еще долгая творческая жизнь. Но в июле 1929 года случилось несчастье, которое он не смог пережить. Покончил с собой его сын Франц, психически не выдержавший славы отца (как и сын Гёте, как и сын Томаса Манна). Сердце пятидесятипятилетнего Гофмансталя разорвалось, когда он собирался на похороны сына. Их похоронили в одной могиле.
«Наглость немецких откликов на эту смерть была отвратительной», — писал критик Вальтер Беньямин, идейно Гофмансталю отнюдь не близкий, но значение его вполне осознававший. Снисходительные упоминания, пошлые полупохвалы, а то и запоздалое сведение счетов... Размышляя о литературных судьбах писателей, Гофмансталь как-то пришел к выводу, что самые трудные испытания для их творческого наследия выпадают в первые два десятилетия после смерти. Он оказался пророчески прав в отношении собственного наследия. Последовали два десятилетия медленного погружения в забвение. И лишь освобожденная от фашистского ига Австрия вновь обратилась к его книгам наряду с творениями других своих замечательных сыновей, отныне навсегда причисленных к золотому фонду чрезвычайно богатой австрийской культуры.
Мировая слава пришла к Гофмансталю на редкость скоро. Пьеса «Глупец и смерть» (1891) не случайно выдержала рекордное количество изданий из всех произведений Гофмансталя. По многим параметрам — и по сжатости, плотности идейной проблематики, и по отделке — она, конечно, хрестоматийна. Прежде всего это совершенные стихи, в которых нет лишнего слова, и совершенная, отточенная композиция, в которой нет лишней реплики или ремарки. Все изящно, точно и соразмерно, как в маленькой искусной статуэтке или шкатулке с секретом. Секрет здесь — в осязании незамечаемой тайны, в конечном прозрении героя. Тайна — в любви, соединяющей все живое. На протяжении всей своей жизни Клаудио вроде бы осязает ее, то есть делает все, что и другие люди, — увлекается, восторгается, дрожит, но в то же время не замечает, потому, что, делая все это, заботится исключительно о себе и, таким образом, лишь имитирует подлинные чувства. И мать, и друг, и возлюбленная — лишь игрушки на время для этого не желающего взрослеть дитяти. Человек, отгородившийся от жизни, сосредоточившийся на себе, — человек полый и обреченный. В герое Гофмансталя узнало себя целое поколение, как некогда в «Вертере» Гёте, всю жизнь остававшегося для Гофмансталя недосягаемым образцом («эпигоном Гёте» дразнил его колючий сатирик Карл Краус). Страдания юного Клаудио отразили самую жгучую проблему европейской интеллигенции рубежа веков — проблему связи, вернее разрыва, с жизнью. Кризисное мироощущение эпохи нашло здесь емкую сценическую формулу, что и предопределило столь широкий успех.
Утрата веры в собственный язык, в собственную способность адекватно отражать и выражать действительность есть, конечно же, проявление утраты веры в себя, есть проявление глубокого кризиса усомнившегося в самом себе сознания. А в этом кризисе, понятно, в свою очередь, отразился другой, глубинный кризис — целого уклада жизни, пошатнувшегося после многих веков кажущейся устойчивости. Проблема этого кризиса станет центральной, по сути дела, для всей европейской литературы XX века. В литературе австрийской первым провозвестником его и стал Гофмансталь.
Привлечь для анализа природы драматического Шекспира («Короли и вельможи Шекспира»), а для разбора сущности эпического — Бальзака — для него самое естественное дело. И все же Гофмансталь недаром прослыл «аустриацистом»: после Грильпарцера не было в Австрии писателя, который бы так глубоко задумывался об особенностях австрийского духовного пути, о специфике австрийской культуры, ее отличиях от культуры немецкой. «Мы, австрийцы, и Германия», «Австрийская библиотека», статьи о Раймунде, Нестрое, Грильпарцере дают об этих патриотических заслугах Гофмансталя-мыслителя исчерпывающее представление.
Любопытно, что к пониманию ценности своего, родного Гофмансталь пришел после долгих и любовных занятий чужеземным, чужим. Так в эссеистике, но так и в драматургии. Все внутреннее развитие писателя выглядит как неуклонное приближение к злободневной современности.
Как и Грильпарцер, Гофмансталь в освоении опыта предшественников прошел путь от античных трагедий до религиозных драм Кальдерона. Как и Грильпарцер, он не миновал при этом и средневековье. Сюжет драмы «Имярек» он почерпнул из знаменитого, хоть и анонимного английского текста, изданного в Лондоне в 1490 году (Everyman, а morality play). Еще один вдохновительный источник этой пьесы Гофмансталя — назидательная комедия знаменитейшего драматурга позднего немецкого средневековья Ганса Сакса («Комедия об умирающем богатом человеке») — отсюда взяты многие детали, да и самый стих Гофмансталя в этой драме, по-старинному лапидарный, грубоватый, тяжеловесный, ориентирован, конечно, на Сакса. Наконец, в сцене с матерью используется рифмованная молитва, принадлежащая перу великого живописца Альбрехта Дюрера. Вживание в стиль далекой эпохи, вообще-то постоянно привлекавшей внимание символистов (в том числе и русских: достаточно вспомнить «Огненного ангела» Брюсова или «Нюрнбергского палача» Сологуба), осуществлено здесь настолько виртуозно и полно, что походит не на стилизацию, а на реставрацию какого-либо средневекового памятника. И будь в натуре Гофмансталя мистификаторская жилка, он вполне мог бы стать автором очередной литературной сенсации в духе «Песен западных славян» Мериме или «Поэм Оссиана» Макферсона.
«У Гофмансталя никогда не поймешь, где он сам, а где чужое», — укорял его влиятельнейший театральный критик Альфред Керр, придумавший даже уничижительную формулу — неологизм «Spätlingstum» (примерно: «запоздалость»).
Как и многие свои сюжеты, Гофмансталь вынашивал план «Имярека» очень долго. Впервые идея этого драматургического отзвука средневековых мистерий возникла у него в 1903 году в связи с предполагавшимся открытием зальцбургских театральных фестивалей. «Имярек» и откроет фестивали, но лишь годы спустя эти, ныне всемирно известные театральные празднества возьмут старт уже в послевоенной Австрии, в 1920 году. Переделки были вызваны прохладным приемом, оказанным этому детищу Гофмансталя современниками: восторженные поклонники «Электры», к досаде писателя, не желали следовать за ним в его новых опытах. Видимо, «Имярек» принадлежал к любимым детищам Гофмансталя, поскольку в этом случае он единственный раз изменил своему правилу: не вступаться за собственные произведения. И в письмах к друзьям и в публичных выступлениях он горячо доказывал, что «Имярек» ничуть не уступает «Электре» в художественном отношении и что обе пьесы идейно близки: «...в обеих ставится вопрос: что остается от человека, если отнять у него все? В обеих содержится ответ: остается то, чем человек связывает себя с миром — содеянное или сотворенное... В обеих ведется поиск закона сверхличного и внеличного...».
Тематически «Имярек» близок маленькой стихотворной драме Гофмансталя «Глупец и смерть». И там и тут неумолимая смерть призывает героя дать отчет о прожитой жизни. В обоих случаях речь идет о неправедной, а, стало быть, мнимой жизни. Но если Клаудио виновен перед людьми и судим по скрижалям гуманизма, то безымянный, обыкновенный, «каждый» человек драмы-мистерии предстает суду надмирных, космических сил, кладет свои грехи на весы абсолюта. Сценой становится само мироздание, и действуют на ней не существа, но сущность — добра и зла, жизни и смерти. Силы преисподней и силы поднебесные пристально вглядываются в человека и властно манят его к себе. Одни сулят осязаемые, земные, очезримые ценности, но эти ценности бренны и поэтому призрачны, мнимы. Противоположные ценности, предлагаемые апологетами неба — любовь, добро, истина, — бесплотны, кажутся призрачными по самой природе своей, но они — нетленны и поэтому вечны.
У надмирного, космического зла есть самый что ни на есть обыденный земной корень — это золото, деньги. Демонологизация денег здесь равно далека от публицистической назывной прямоты и от абстрактной бесплотности символа. Деньги у Гофмансталя — такая же стихия, как вода, земля, огонь или воздух. Более того, они словно бы человекоподобны — они работают, они размножаются, они убивают. Не они — и не человек; смущая и соблазняя смертного преходящими благами, сами они непреходящи, бессмертны. Ибо они и есть — дьявол. И рост их могущества в мире следует рассматривать — если держаться символического ряда, заданного пьесой, — как приближение царства антихриста.
В этом духе Гофмансталь высказывался о сущности современной ему эпохи в докладе «Идея Европы», сделанном вскоре после завершения работы над «Имяреком». Здесь он прямо говорит о том, что жизнь современной Европы развивается таким образом, что «деньги заступают место бога».
Деньги в пьесе «Имярек» подменяют собой все — справедливость, сострадание, счастье людской близости. Их действие на богача — наркотическое: они приглушают диссонансы жизни, убаюкивают совесть. Богач самому себе не кажется злым и жестоким: да, он дерет шкуру с соседа, но ведь и проявляет заботу о его семье необременительными для себя подачками. Он не прочь отмерить толику чувств и сыновнему и дружескому долгу — лишь бы чувства эти не доходили до подлинных жертв, а тихо и сладко нежили душу, верно служа собственному покою и процветанию.
Но основанное на злате процветание мнимо, и звон колоколов посреди разгульного пира об этом напоминает — как всегда, не урочно, но неотвратимо. Смерть сдергивает с человека все, чем он прикрывался при жизни, сир и наг, он сходит в могилу, лицом к лицу встречаясь с олицетворенными деяниями своих рук — жестокосердием, черствостью, эгоизмом. Смерть опрокидывает, выворачивает наизнанку все ценности. Высшей из них оказывается та, которой богач более всего при жизни пренебрегал, — любовь к ближнему.
«Человеческая сказка в христианском обличии», — так сам Гофмансталь определил свою пьесу. Однако его христианскую «ангажированность», как теперь принято говорить, не следует преувеличивать. Формально Гофмансталь, как и большинство австрийцев, принадлежал к католическому вероисповеданию, но назвать его «католическим драматургом» нельзя. При всем постоянном любопытстве к Ш. Пеги и П. Клоделю и при всей постоянной же в последние годы творчества оглядке на Кальдерона он в своем мировоззрении был «поэтически» неопределенен и смутен; в тех заветах европейского гуманизма, кои были для него святы, легко прослеживается преемственность как с христианскими, так и с античными культурными традициями. Из всех умственных течений начала века ближе всего Гофмансталю был, пожалуй, неоплатонизм, что для символиста неудивительно: как музыка, музыкальность была непреложным догматом поэтики европейского символизма, так Платон с его пониманием вещных реалий как отблесков (в сущности — символов) потусторонних идей подкреплял своим авторитетом идейные основания школы. Своего философского наставника Гофмансталь обрел в неоплатонике Рудольфе Касснере, сыгравшем заметную роль в духовной жизни Австрии XX века. Блестящий литератор, эссеист, критик, переводчик философской и художественной литературы с санскрита, древнегреческого (Платон), английского, французского, русского (Пушкин, Гоголь, Толстой), Касснер был в то же время основателем философской физиогномики, понимаемой весьма широко — как толкование внутренних свойств вещей и явлений на основе их внешних признаков. И центральное понятие метода Касснера — «сила воображения» и постоянно применяемые им противопоставления образов-символов: числа и лица, маски и лица, зеркала и воронки, человека и зверя и т. п. оказались в естественной близости с поэтическим мироощущением и поэтическим словотворчеством. Может быть, поэтому «несистематическая философия» Касснера произвела глубочайшее впечатление прежде всего на поэтов, причем на самых значительных в поколении — на Рильке и Гофмансталя. Оба они отзывались о Касснере восторженно и благодарно. Познакомившись с сочинениями Касснера, Гофмансталь писал: «Никогда прежде даже самые впечатляющие мысли Шопенгауэра, Ницше и им подобных не были в состоянии дать мне столько внутреннего счастья, столько внутреннего света, осветившего и самые глубокие закоулки меня самого, столько понимания, откуда происходит поэзия и что она означает, в каком отношении к бытию она находится».
Завязавшаяся тесная дружба с ровесником-философом ничем не была омрачена до самой смерти Гофмансталя. Касснер оставил о нем, пожалуй, самые яркие и проникновенные воспоминания.
В разгар первой мировой войны, урывая время у корреспондентских обязанностей, Гофмансталь работал над социальной комедией, которой суждено было стать одним из важнейших его произведений. Завершенный в 1917 году «Трудный характер» был впервые поставлен уже в послевоенные годы и к нашему времени из всех пьес Гофмансталя выдержал рекордное количество постановок.
В самом деле, эта пьеса излучает, пожалуй, самое большое обаяние из всех сценических созданий Гофмансталя. Не соревнуясь с «Большим зальцбургским театром жизни» в грандиозности мироохватных проблем, а с «Башней» — в глубинном чутье к подводным устремлениям времени, эта как будто внешнеописательная — лишь быт и нравы определенной социальной группы в определенное время — комедия отличается ладной сценической статью, стройностью, соразмерностью и глубиной. «Глубина лежит на поверхности», — эта любимая максима Гофмансталя здесь вполне применима. По глубине подтекста, по насыщенности нюансов, по многоголосию будто бы случайных, но столь осмысленных перекличек Гофмансталь здесь всего более приблизился к Чехову. Нет прямых указаний на знакомство Гофмансталя с «Вишневым садом» или «Дядей Ваней», но такое знакомство нетрудно предположить; скорее всего, драматургия Чехова входила в поэтический заряд подсознания австрийского писателя.
Комедией «Трудный характер» можно признать лишь условно, во всяком случае с некоторыми оговорками. В ней мало перлов юмора и остроумия, которыми гордится жанр от Аристофана и Лопе де Вега до Мольера и Гоголя. Юмор здесь приглушен, на австрийский манер смягчен. Комическое почти всецело помещено в сферу несоответствий: характеров — обстоятельствам, намерений — поступкам. Никакой гротескности не заметно ни в одном из персонажей, все вроде бы вполне натуральны — и самоуверенный рационалист Стани, и любвеобильная Антуанетта, и напыщенный выскочка-профессор, и поверхностный резонер барон Нойхоф, и легкомысленные салонные дамы. И в то же время все немного смешны; не без иронии обрисован даже Карл Бюль, этот не лишенный автобиографических черт положительный герой, призванный олицетворять былую, прекрасную, уходящую Австрию. Этот чародей обаяния, воплощение аристократической сдержанности и такта, этот Дон Жуан наоборот — не преследующий женщин, но властно притягивающий их, предстает в комическом свете из-за своей нерешительности, из-за путаной противоречивости поступков. Слуги сбиваются с ног, выполняя его приказания, противоречащие одно другому. Участников важного раута он держит в напряженном неведении: явится, не явится? Решившись уйти, он немедленно возвращается. Отвергнув любовь Елены, тут же объясняется ей в любви.
Сменяющие друг друга настроения в этой пьесе порхают по сцене как незримые духи. За чередой настроений трудно разглядеть личность, ее ядро. Гофмансталь недаром был одним из столпов венского импрессионизма. И, может быть, не случайно он дал своему герою имя Карл: ведь «господин Карл» — это нарицательный герой всей австрийской литературы, занятой анализом ощущений, обволакивающих, нейтрализующих волю. Чеканную формулу такого типа дал Роберт Музиль, назвав свой гигантский роман — «Человек без свойств». Бессвойственность в трактовке Музиля или Гофмансталя — это не бесцветность, не примитивность; напротив, это полнота всех свойств, но и невозможность выбрать из них, невозможность решиться.
Нерешительность — одно из центральных понятий-духов, которые руководят персонажами этой пьесы. Но предстает она здесь хоть в ироническом, но достаточно привлекательном свете. Ведь за ней — и скромная сдержанность и самоотречение. Карл Бюль пытается отвести от себя любовь Елены не как беду, но как счастье, которого недостоин. В его нерешительности — глубочайшее почтение к высокому чувству, которое требует всего человека, требует подвига. И этот-то высокий строй его души, угадываемый Еленой, более всего влечет к нему. А грубоватая, нахрапистая решительность Нойхофа кажется ей вульгарной и скучной, как и деловая, сметливая решительность Стани. В характере Стани Гофмансталь — здесь еще очень мягко — намекнул на пришествие новых людей рационального, прагматического толка. Стани словно обмерил Елену и по всем параметрам она ему подошла — молода, красива, богата, с хорошими связями, из знатного дома. Чего же еще? На таком пресном фоне хваткой решительности прекраснодушная нерешительность «старого» дядюшки действительно выглядит обворожительно.
В этой обворожительности — и отзвук того любования прекрасным прошлым, которое было свойственно молодому, начинающему Гофмансталю. Почти тридцать лет спустя после драматической поэмы «Вчера» у Гофмансталя не осталось иллюзий: высшее общество в его изображении выглядит обреченно, да его и не очень-то жаль за отсутствием в нем какой-либо значительности, персонажи тут — пустоватые куклы, марионетки, не более. Но это один счет — исторический, а ведь есть еще и другой, более важный для австрийской литературной традиции счет — «вечной, дивной жизни», и по этому, куда более снисходительному счету значителен каждый, в ком есть хоть искорка жизни. Это трепетное замирание перед сокровенностью всякой, пусть даже легкомысленной и обреченной жизни и окрашивает всю пьесу в грустно-иронические, элегические тона. «Трудный характер» — такой же шедевр этой тональности в австрийской драматургии XX века, как «Марш Радецкого» Йозефа Рота — в австрийском романе этого столетия.
Сам Гофмансталь назвал свою пьесу «австрийской социальной комедией». При этом он имел в виду не только живописный местный колорит и саму атмосферу свойственной венцам легкой, грациозной общительности, но и «метафизический корень» пьесы, как он выразился в письме к драматургу и директору Бургтеатер Антону Вильдгансу. «Это проблема, — писал он, — которая часто мучила и пугала меня (уже в «Глупце и смерти», сильнее всего — в «Письме лорда Чендоса», которое вам, возможно, известно), а именно: как удается индивидууму-одиночке посредством языка соединяться с обществом — до полного саморастворения? И далее: как это говорящий еще может действовать, когда сама речь означает познание, то есть снятие любого действия?»
Эта тема языка как посредника, но и как предателя личных интересов человека в обществе (пронизывающая всю пьесу, но отчетливее всего сформулированная в заключительном монологе Карла Бюля), тема, унаследованная Гофмансталем от Грильпарцера и особенно Нестроя, станет в дальнейшем одной из констант австрийской драматургии XX века, достигая вполне сопоставимой с предшественниками выразительности у Карла Крауса, Эдена фон Хорвата, Томаса Бернхарда, Петера Хандке. Видимо, не случайно в той же колыбели австрийской культуры родилась и столь влиятельная в XX веке философская школа лингвистического неопозитивизма — школа Людвига Витгенштейна, Рудольфа Карнапа, Морица Шлика.
Новые люди в «Трудном характере» — это не только резонер Нойхоф и рационалист Стани, но и слуга-нахал с его хищным прицелом и дальновидной замашкой. Карл Бюль — это последняя твердыня «комильфо». Будущее по многим признакам все равно за духом бесцеремонной корысти, заступающей «место бога». Эту обочинную для «Трудного характера» тему «грядущего хамства» Гофмансталь развил в следующей своей комедии «Неподкупный» (1922), в которой слуга, соединяющий в себе живой ум, пройдошливость Скапена или Гансвуртса с кулацкой прижимистой жилкой эпохи «желтого дьявола», сам становится господином.
Сюжеты обеих последних значительных пьес Гофмансталя — «Большой зальцбургский театр жизни» (1921) и «Башня» (1924, вторая редакция — 1927) восходят к Кальдерону. Видимо, не случайно среди крупнейших драматургов мира Гофмансталь отдавал предпочтение великому испанцу. Соединительные звенья здесь не только внешнего порядка — как, например, династия Габсбургов, правившая как в Австрии, так и в Испании, или глубоко укоренившийся в обеих странах католицизм. Гофмансталя привлекала в Кальдероне поэтика. В своих статьях («Короли и вельможи Шекспира», «Разговор о характерах в романе и драме» и др.) он объяснил, почему ему не кажется убедительным Шекспир: у того драматическая коллизия определена столкновением характеров, а Гофмансталь по всему складу своему, заданному и местом и временем жизни, просто не верил в наличие характеров, он подменял их реакциями на обстоятельства. У Кальдерона иное, тут — драма идей, коллизию порождает противостояние философских или религиозных антиномий, в которых Гофмансталю виделась куда большая устойчивость, нежели в любых, сколь угодно сильных характерах.
Предваряя «Большой зальцбургский театр жизни», Гофмансталь разъяснил, что именно он позаимствовал у Кальдерона: метафору, согласно которой мир — это подмостки, на которых люди играют предсказанные им всевышним роли в пьесе жизни; а также название пьесы и имена шести персонажей, эмблематически, то есть в устойчивых аллегориях, как это и было свойственно поэтике барокко, представляющих все человечество. Правда, тут же Гофмансталь уточнил, что все эти фигуры — не плод воображения самого Кальдерона, что все они восходят «к той сокровищнице мифов и аллегорий, которую создало средневековье и завещало последующим столетиям».
В самом деле, Кальдерон — лишь самый искусный и блистательный мастер в длинной, в основном безымянной, цепочке слагателей традиции уподобления жизни сну или комедии, разыгрываемой людьми перед богом. Эта выношенная католическим сознанием метафора, вырастая из средневековых мираклей, оставалась чрезвычайно популярной и в культуре Возрождения. Во всяком случае, она попала в такую энциклопедию ренессансной жизни, как «Дон Кихот» Сервантеса, где в одном из эпизодов ее в пространной тираде развивает перед оруженосцем Рыцарь печального образа.
Как и предусмотрено традицией, в пьесе Гофмансталя по воле всевышнего обретают свои роли Король, Богач, Крестьянин, Нищий, Мудрость и Красота, предводительствуемые Жизнью и Бренностью.
В согласии с традицией, иерархия, точно определяющая место каждого, является божьим установлением, а еретическую мысль об изначальном равенстве всякой твари распространяет нечистая сила. Современный акцент в пьесе можно усмотреть, пожалуй, в расширении зоны человеческой свободы, в той диалогичности отношений между богом и человеком, которая позволяет Нищему долго роптать и препираться с богом, не соглашаясь на отведенную ему роль. Спор предопределения и свободы, составляющий давнюю и неразрешимую проблему теодицеи, то есть «оправдания бога», ставится в центр идейной коллизии пьесы. Ему сопутствует спор и других жизненно важных противостояний — счастья и несчастья, равенства и неравенства. Человек вроде бы свободен в выборе того или иного состояния и в то же время совершенно не свободен, потому что любой односторонний выбор обрекает его душу на погибель. Понятие гармонии, меры (или традиционно австрийской «золотой середины») становится здесь, как нигде больше у Гофмансталя, нагляднейшим воплощением словно бы ожившей, материализовавшейся диалектики. Один из проницательнейших интерпретаторов Гофмансталя Эрвин Кобель в связи с этой пьесой справедливо отметил, что свобода выбора здесь мнима, ибо «предопределение без свободы ведет к фатализму, свобода без предопределения — к произволу, несчастье без счастья — к отчаянию, счастье без несчастья — к высокомерию, неравенство без равенства — к несправедливости, равенство без неравенства — к скуке уравниловки». Желанная гармония не может быть преподнесена человеку никакими внешними обстоятельствами, человек может пробиться к ней лишь ценой упорнейшего труда по внутреннему самосовершенствованию.
Нищий, сначала роптавший, а потом и бунтовавший с топором в руке против мирового порядка, в конце концов, внезапно вразумленный, мирится с ним и, подобно библейскому Иову, в самоотречении, в глубокой вере в конечную благость сокрытой от него провиденциальности обретает неколебимую душевную радость и стойкость. Упор на внутреннее, моральное совершенствование человека, упрямое, вопреки расхожей моде, следование давней и по внешним приемам как будто исчерпавшей себя традиции — все это в годы торжества экспрессионистской драмы Кайзера и Толлера, в годы начинающихся триумфов Брехта с его социальными и театральными реформаторскими прокламациями выглядело как заведомый анахронизм.
Должны были пройти годы и должны были улечься оказавшиеся во многом поверхностными культурные бури, чтобы можно было оценить всю привлекательность этой пьесы Гофмансталя — и совершенство ее стиха, и не столько старомодный, сколько вечный «пафос положительности», пафос утвердительности разумного порядка, без которого ни одно людское устроение не может выдержать натиск хаотических сил. И пусть в понимании духовных, да и материальных основ такого порядка Гофмансталь не сумел выйти за рамки вполне традиционного и даже консервативного кругозора, сама руководившая им забота о незыблемости «старых истин», то есть гуманистических заветов, оказалась — перед лицом вскоре нахлынувшего фашистского варварства — своевременной и дальновидной.
О том, что Гофмансталь предвидел, предощущал этот разгул мракобесия, почуяв его угрозу уже после самых первых выступлений группировок фашистского типа (вроде капповского путча 1923 года), свидетельствует последняя его пьеса «Башня».
«Башня» пронизана актуальнейшими смысловыми разрядами, однако создавалась не сразу, не вдруг: более того, ни над одной своей пьесой Гофмансталь не работал так долго. В сущности, праисточник — драма Кальдерона «Жизнь есть сон» — занимал Гофмансталя почти всю его творческую жизнь. Еще в 1902 году он сообщил одному из своих корреспондентов, что с упоением работает над обработкой кальдеронова сюжета и что создаваемая им пьеса «относится к старому оригиналу не как «Амфитрион» Клейста к пьесе Мольера, а, скорее, как какая-нибудь пьеса Шекспира к итальянской новелле».
Однако замысел не поддавался осуществлению, и Гофмансталь на протяжении двух последующих десятилетий не раз то откладывал его, то возвращался к нему снова. В 1910 году он опубликовал фрагменты своей незавершенной работы. Напечатал он и свой перевод пьесы-первоисточника Кальдерона — второй после перевода, сделанного Грильпарцером. Сразу по окончании первой мировой войны опять вернулся к этому «вечному, но и столь австрийскому сюжету».
В одном из писем к Буркгадту Гофмансталь как-то заметил, ссылаясь на Новалиса, что после всякой войны лучше всего пишутся комедии. Однако самому ему после войны удалась не только лучшая его комедия — «Трудный характер», но и безусловно лучшая его трагедия — «Башня». Именно так, как о пьесе, открывающей перед театром новые возможности, отзывался о «Башне» один из первых ее рецензентов философ Мартин Бубер.
Начинается трагедия в полном соответствии с Кальдероном: польский король Базилиус держит в заточении своего сына Сигизмунда, который, согласно предсказаниям, должен его убить. И точно так же принца доставляют на один день во дворец — для экспериментального, однодневного правления, которое, в случае провала, может потом показаться герою лишь сном. Только вот дальше сюжетные нити двух пьес расходятся: у Кальдерона дело кончается полюбовным миром, у Гофмансталя мрачное предсказание сбывается, и отец-король действительно уступает корону сыну. Но ненадолго: развязавшая дремавшую социальную энергию стихия переворота захлестывает и самого новоявленного, идеалистически-прекраснодушно настроенного правителя. Его «ликвидирует» сплотивший вокруг себя темные элементы социальных низов солдафон Оливье, отнюдь не случайно названный в одном из вариантов пьесы ефрейтором: отзвук встревоженной общественной реакции на путч фашистских молодчиков во главе с бывшим ефрейтором Гитлером тут очевиден.
В центре трагедии — противостояние личности и государства, совести и насилия, порядка и хаоса. Здесь кипят страсти, но вовсе не из-за любви — женских персонажей в пьесе практически нет. Этот серьезный, даже суровый мужской мир живет напряжением страстных идей — прежде всего идей, реализующих разные способы обретения гармонии с миром и в мире. Король, принц, его невольный тюремщик и сознательный, целенаправленный воспитатель Юлиан, монах Игнациус, бандит Оливье, детский король — носители разных политических идей устроения мира и, соответственно, устроения собственной биографии. Душевные свойства и духовные устремления каждого из них выявляются не только в отношении к миру, но и в отношении к надмирному, то есть той области идеального, которая и выступает мерилом или зеркалом «внутреннего» человека. Для «материалиста» Оливье идеальное — звук пустой, годный разве для обольщения глупой, доверчивой толпы. Другая крайность — монах Игнациус, «великий монсеньор», бывший канцлер короля, отрешившийся от мира, и устроивший из идеального что-то вроде подножия для своей гордыни. Себялюбец-король прибегает к этому идеальному только в ситуации крайней нужды и смятения, когда надеяться больше не на что. Сложнее других устроен Юлиан, душа которого заблудилась между землей и небом в постоянных метаниях от расчетливых политических интриг к возвышенным представлениям и обратно. Для всех этих персонажей возвышенное, идеальное — как прекрасный сон человечества, может быть, дополняющий явь, но не смешивающийся с нею. И лишь принц, условиями своей исковерканной жизни принужденный воспринимать вымысел как единственную доступную его сознанию правду (ведь для него библия — не только единственный кладезь грамоты, но и единственный учебник жизни), пытается воздействовать на явь духовной энергией «грез» — и терпит на этом фиаско.
В отличие от «Имярека» или «Зальцбургского большого театра жизни», в этой пьесе Гофмансталя нет никаких условных фигур, позаимствованных из средневековых мираклей или священных ауто эпохи барокко — типа Истины, Красоты, Бренности и т. п., однако, и посредством вполне натуральных персонажей разрешается все та же коллизия: страстного чаяния примиряющей все противоречия справедливости и невозможности ее достичь, хилиастических надежд и разочарований. И перед принцем Сигизмундом, как перед Нищим в «Большом зальцбургском театре жизни» та же дилемма: выбрать справедливость через насилие или через самосовершенствование, и он выбирает позицию кроткую, смиренную, полную неподдельной любви к ближнему. Но это позиция идеалиста, в мире жестоких и грубых реалий она терпит крушение. Надежду на возможность активного, воинственного гуманизма воплощает в себе детский король.
Миф и сон — эти два стержневых понятия драматургической поэтики Гофмансталя — вполне реализовались в его последней пьесе-завещании, где взращенный Евангелием и нутром постигший его дух принц Сигизмунд своим поведением в мире словно нащупывает связь с мифологическим прообразом: его дважды искушают, как Христа, а постигшая его во дворце вспышка буйства напоминает действия Христа, изгоняющего торгашей из храма. Подспудный и по внешним соображениям столь неожиданный для эпохи образ Христа возникает здесь по той же причудливой, но неумолимой логике, что в финале «Двенадцати» Блока, также выросшего из символизма.
Творческие свершения Гофмансталя, как отмечалось, неровны. Однако лучшая часть его наследия сумела пережить и обольщения сиюминутного успеха и заблуждения прижизненной недооценки. Титанические усилия писателя, по количеству написанного опередившего всех своих коллег в XX веке (выходящее сейчас полное собрание его сочинений рассчитано на пятьдесят томов), не пропали даром. В звездные часы творчества ему удались прорывы в «большое время», где создания духа живут долго, веками, пополняя своей энергией общечеловеческий и, к счастью, не иссякающий пока источник добра, истины, красоты.
Л-ра: Театр. – 1988. – № 12. – С. 129-142.
Произведения
Критика