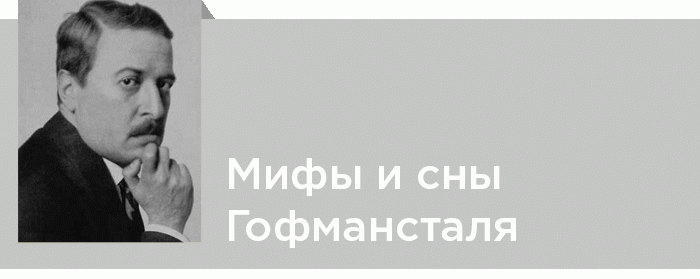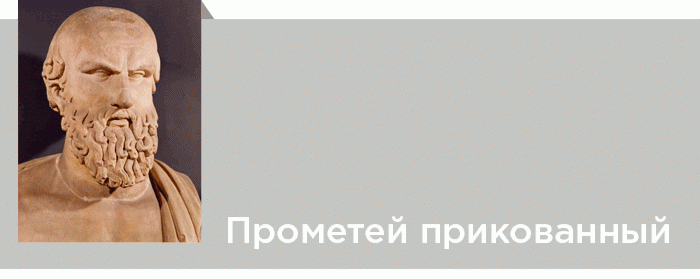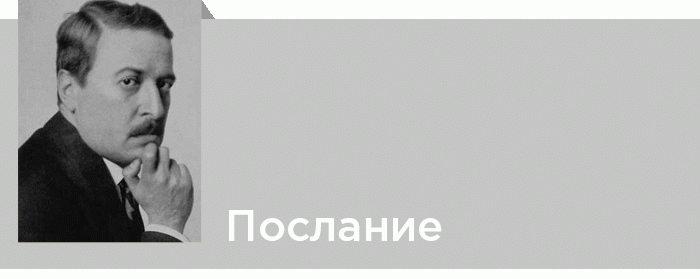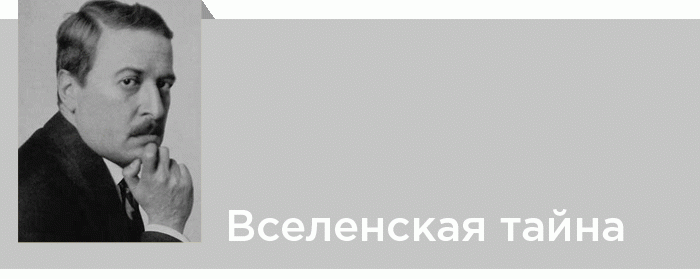Романтическая проблематика в лирике Гуго фон Гофмансталя
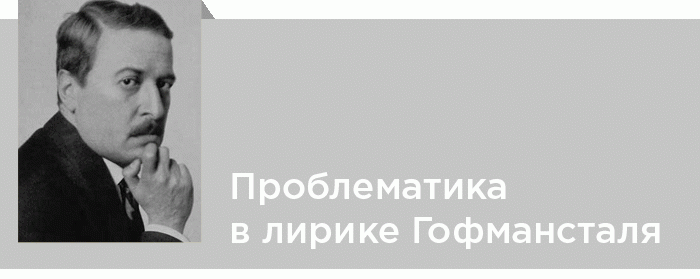
О. В. Королькова
Лирика известного австрийского писателя Гуго фон Гофмансталя (1874-1929) отражает существенные закономерности становления его мировоззрения и творческого метода. Собственно лирические произведения Гофмансталь создает в юности, подавляющее большинство его стихотворений написано в конце XIX в., т. е. в первое десятилетие литературного пути поэта, драматурга и прозаика.
Столь богатый литературными направлениями, а то и просто литературными модами, конец XIX в., казалось, неизбежно должен был либо дезориентировать шестнадцатилетнего юношу, повергнуть его в растерянность, либо спровоцировать на подражательность, эпигонство. И действительно, убеждения и литературные пристрастия молодого поэта были еще неустойчивы. Но современники сразу обратили внимание на мастерство Гофмансталя, на его необычайно тонкое чувство формы. Правда, именно это совершенство приводило к непониманию: за блеском формы часто не замечали содержания, вернее, не вдумывались в него, видели в нем лишь повторение избитых идей fin de siecle. Справедливости ради надо сказать, что подобное восприятие лирики юного поэта имеет достаточно серьезные основания: Гофмансталь нередко попадал под власть отдельных модных идей и литературных приемов. Да иначе и быть не могло, поскольку избалованный всеобщим вниманием и ранней известностью гимназист, воспитанный в изысканной атмосфере венского аристократического общества, получивший блестящее гуманитарное образование, вращался в избранном кругу литераторов «Молодой Вены» и, конечно же, ничего кроме литературы не знал. Литература, философия, гуманистическая культура — сфера жизни Гофмансталя — становятся для него единственной реальностью, оттесняя на задний план проблемы конкретного бытия. Неудивительно, что стихи молодого поэта часто подпадали под определения типа «искусство для искусства», «эстетство» и т. п.
И все же проблема оценки раннего творчества писателя далеко не так проста. Сам Гофмансталь позже неоднократно выражал недоумение по поводу причисления его к кругам «чистого искусства», и для этого недоумения тоже были серьезные основания. Приглядевшись внимательнее, можно заметить, что за маской меланхолического эстета, немного эпикурейца, немного сноба, скрывается лицо обыкновенного юноши, почти мальчика, лицо иногда растерянное, иногда испуганное, а подчас и лукаво ироничное.
Первые серьезные стихотворные опыты Гофмансталя относятся к 1890 г. «Ты видишь город?», «Что есть мир?», «Вопрос» — названия стихов говорят сами за себя. Поэт обращается к миру с вопросами, а не с готовыми критериями. Вернее, способы оценки у него есть, но он не подгоняет под них мир, а стремится проверить истинность этих мерок. Ранние стихи Гофмансталя во многом несамостоятельны: в них звучат и символистские идеи («Что есть мир?») и отзвуки натурализма («Стихи, написанные на банкноте»), да и сама форма их традиционна (сонеты, газели, патетичные романтические монологи). Но небольшое отклонение от канонов, встречающееся практически в каждом стихотворении, — изменение интонации, переиначивание мысли, перенос акцента — сразу делает стихотворение Гофмансталя непохожим ни на чье другое, раскрывает самостоятельные раздумья и искания автора.
Романтическая традиция с самого начала становится доминантой творчества Гофмансталя. Молодой поэт стремится к познанию мировой гармонии и слиянию с ней. Рамки собственного «я» для него оказываются тесными, он жаждет вселенских просторов («Поэтому беги из своего «я», застывшего, холодного, чтобы окунуться в душу мироздания...» — «Sunt animae rerum»). Личность человека может достигнуть власти над мирозданием (т. е. гармонии), лишь расширяясь до мировых масштабов. Лирический герой стихотворения «Для меня» упивается этой властью над природой («Для меня пламенеет роза, шумит дуб. Солнце играет в золотистых женских волосах — для меня...»), над явью и сном («Сну говорю я: останься, стань явью! — и действительности: стань сном, исчезни!»), над словом («Слово, которое для других лишь разменная монета, для меня — богатый сверкающий источник образов»). Но блаженство и ликование романтического избранника у Гофмансталя неабсолютны; мир очень быстро покажет, что отнюдь не намерен так просто раскрыть человеку свои тайны и вообще далек от совершенства. Писатель пытается объяснить себе суть тех препятствий, которые стоят на пути к осуществлению мировой гармонии. Так, созвучность мира нарушается неравенством между людьми, неравенством, основывающимся на деньгах («Стихи, написанные на банкноте»). В этом стихотворении поэт опирается на тематику и образную систему натурализма, но сам натурализм у него подчеркнуто романтизирован: социальные проблемы уступают место мыслям о «волшебном царстве» денег, об их мистической колдовской силе, т. е. вполне романтическим рассуждениям. О том, насколько второстепенны для Гофмансталя проблемы социальные, говорит тот факт, что после «Стихов, написанных на банкноте» эти вопросы практически исчезают из его творчества и возвращаются в опосредованной форме лишь в комедиях и мистериях 1910-1920-х годов.
Через все произведения Гофмансталя красной нитью пройдет другая проблема — проблема слова. Магическое слово — орудие для постижения мира: мироздание раскроет свои тайны, если ты сумеешь «правильно спросить» («Sunt animae rerum»). Но слово может обернуться и злом, бездушной ложью, делающей невозможным понимание мира или другого человека («Вопрос»), Так, уже в первых стихах Гофмансталя намечены основные проблемы его творчества.
И еще одно тревожащее явление возникает в ранней лирике Гофмансталя — ощущение своей зависимости от мира: неразрешимое романтическое противоречие между стремлением к гармоническому единству с миром, с одной стороны, и невозможностью расстаться с самоценностью своего «я», желанием сохранить целостность индивида в его противостоянии миру — с другой. В абсолютном растворении человека в мироздании сокрыта опасность — к такой мысли Гофмансталь приходит рано, уже в 1890 г. («Сумятица мыслей» — «Gedankenspuk»). Ужас взаимосвязи настоящего, прошедшего и будущего, всех людей, событий, явлений определяет звучание многих последующих стихотворений поэта, ибо подобная обусловленность означает не только вожделенную гармонию бытия, но и исчезновение отдельной человеческой личности, растворение ее во всеобщем безымянном потоке. Все то, что угрожает человеку, живому человеческому чувству, для Гофмансталя неприемлемо, будь это даже сама история и культура. Призраки великих людей, богов, литературных персонажей, «ликуя, пьют из нашего черепа сок нашей жизни», «они бьют костлявыми руками по дрожащим струнам нашей души» («Сумятица мыслей»). Поэт совершенно очевидно мыслит в духе романтической традиции, но ему, человеку fin de siecle, уже недостает воодушевленного единства романтиков с цепью поколений, с исторически развивающейся общечеловеческой культурой, недостает романтической цельности. Мир Гофмансталя более «разорван» и пессимистичен.
Сложное соотношение романтических, символических и импрессионистических элементов сохранится в той или иной форме на протяжении всего творчества Гофмансталя. Это замечательные образцы импрессионистической поэзии — стихотворения «Предвесеннее», «Облака», «Дождь в сумерках», законченно символические «Мой сад», «Дочери садовницы», «Жизнь, сон и смерть...». Но здесь же, перекликаясь с проблематикой своих первых драматургических произведений, писатель подвергает проверке, проверке критериями нравственности, идеалы символизма и импрессионизма. Гофмансталь пытается вырваться из мира абстракций, из-под власти символистского абсолюта («Пророк»). Невозможно обрести гармонию там, где нет жизни. В стихотворении «Гюльнара» рафинированная, стилизованная атмосфера восточной неги, упоения изысканнейшими произведениями искусства и тончайшими ощущениями лишена любви, «которая и есть самое прекрасное в сказке»; следовательно, она лишена и истинной красоты. По общей интонации и подбору деталей это стихотворение вписывается в рамки символизма, но апелляция к живому человеческому чувству выдает в Гофманстале более последовательного, чем символисты, продолжателя традиций романтизма. Гофмансталя не устраивает импрессионистическая растворенность в мгновении и чувстве, а также безнравственная аморфность, несущая страдания другим людям («Познание» из цикла «Сонеты»).
При этом в первые годы творчества Гофмансталь часто разражается гневными романтическими ламентациями, направленными против несостоятельности современных художественных идеалов и, конечно же, против мира вообще. «Грехи жизни» — программное стихотворение этих лет. Лирический герой, романтический избранник, поднявшийся над миром и познавший его порочность, проклинает ложь и насилие, на которых основано мироздание. Но и человек, по мысли писателя, изначально виновен, ибо он неразрывными нитями связан с миром, вынужден страдать и причинять страдания другим: человек — это, «быть может, цель мировой воли, быть может, игра мировых настроений, быть может, нетленность, быть может, насмешка, быть может, зверь, быть может — бог». Нетрудно уловить во всех этих, патетических излияниях отголоски шопенгауэровских идей. Этическая теория Шопенгауэра действительно близка Гофмансталю, и он еще неоднократно вернется к ней, особенно на более позднем этапе своего творчества, в так называемых «греческих» трагедиях.
Жизнь есть страдание, признает Гофмансталь. Но антитезу этому он находит романтическую: нужно любить человека, нужно ему сострадать (досл., «святое сострадание» в сонете «Музыка будущего»). В стихотворении «Тень умершего...» человек погружен в безысходный ужас «внешней жизни», темные силы таятся и в его собственной душе, и она и мир вообще непознаваемы, слова лживы, в человеке нет ничего своего, все заимствовано у прошедших поколений: «...и все, что я думаю, и даже сам этот крик — лишь отголосок, он не мой!». «Последнее, что остается» среди этого ужаса и отчаяния — это то, что «к дрожащему сердцу прислушивается другое сердце, и рука соединяется с рукой в тихом пожатии». В сонете «Посвящение в художники» Гофмансталь утверждает сострадание как единственно верное призвание для человека искусства. Очевидно, что писатель пытается решить проблемы мира и человека, основываясь на романтических принципах и идеалах.
В «Балладе внешней жизни» мир, окружающий человека, жесток, он ориентирован исключительно на смерть, гибель, причем движется по замкнутому кругу, поскольку «внешняя жизнь» убийственно монотонна и состоит из огромного количества предметов и явлений, которые, постоянно меняясь, соединены между собой лишь механической связью, лишенной внутреннего смысла (эта монотонность подчеркивается формой терцин и излюбленным приемом Гофмансталя — анафорами). «Внешняя жизнь» равнодушна к человеку, мало того, она заставляет людей быть безразличными друг к другу. И все же человек прикован к миру и людям невидимой цепью — в этом трагизм его существования. Этот страх делал экстатически бессвязной речь лирического героя в стихотворении «Сумятица мыслей», он же заставит лирического героя более позднего стихотворения «Но иные все же умирают...» обронить среди подчеркнуто спокойных философских размышлений слово испуганная по отношению к своей собственной душе:
И испуганной душе не отринуть
Дальних звезд немое паденье.
(пер. Т. Сильман)
Избавиться от чувства ужаса перед миром можно, лишь познав его законы. Художник идет по проторенному романтиками пути, то намереваясь постигнуть мир с помощью разума, философских спекуляций, то полагаясь на чувство, полумистическое воспарение. Но Гофмансталь — романтик конца XIX в., поэтому классические романтические идеи получают у него своеобразную окраску. Его разум холоднее и рационалистичнее. Г. Бар, мэтр австрийской литературы того времени, говорил даже о том, что Гофмансталь не умеет переживать, он не знает «ни страсти, ни порыва, ни пафоса». Подобное мнение, хотя и несколько категоричное, отражает тенденции, действительно присущие порой поэзии Гофмансталя. Можно провести интересную параллель между стихотворением Гофмансталя «Мир и я» и стихотворением Гейне «Я Атлас злополучный!..» из «Книги песен». Речь в них идет о поэте, который, подобно Атланту, держит на себе целый мир. Но если лирический герой Гейне несет эту мировую боль в своем сердце, то Гофмансталь говорит в первую очередь о голове: его герой легко удержит мир на руках, ведь он «шутя носит его в голове».
Так, при всей своей тяге к состраданию, теплому человеческому чувству Гофмансталь не избежал и трезвости, аналитичности, свойственных его эпохе.
Разум Гофмансталя не только холоднее, чем разум романтиков,— он в значительно большей степени способен на компромиссы. В стихотворении «Юноша и паук» герой приходит к убеждению, что «мир владеет собой сам». Логика дальнейшей мысли такова: поскольку человек не может ничего изменить в мире, значит, он должен подчиниться его законам, не отвергать жестокость, а познать и признать ее, научиться страдать и причинять страдания другим и находить в этом удовлетворение! В драме «Белый веер» (1897) это называется «железным законом» жизни.
Следует, однако, сказать, что Гофмансталь сам чувствует недостаточность чисто рационального познания мира. Именно об этом он будет говорить в своем программном «Письме лорда Чандоса» (1902): нужно «думать сердцем» (возвращение к состраданию, о котором шла речь еще в 1891 г.). И все же очень часто Гофмансталь подменяет живое чувство неким мистическим вчувствованием в мировую гармонию, слиянием с триединством «человек, вещь, сон» («Терцины»). Высший момент этого экстатического воспарения — «возвышения» (Erhöhung), как называет его сам художник («Ad me ipsum»), — тот миг, когда достигнуты абсолютная связь с миром, абсолютное его понимание и, следовательно, власть над ним. В «Сне о великой магии» пророк претворяется в мировой Дух, преодолевающий путы времени и пространства, границы между людьми, постигающий святая святых Вселенной.
Сделать это совсем не так просто, ведь мир зашифрован, все сущее в нем — символ. Ключ к разгадке символов — слово. Оно — явление особое. Слово лживо, но не изначально — таким его сделали люди. Освободив слово от всего наносного, приобретенного в процессе межчеловеческого общения, можно получить мощное орудие для познания мира (дистих «Собственный язык»). Истинное магическое слово способно придать смысл жизни, объяснить совершенно необъяснимый на первый взгляд мир («Баллада внешней жизни»):
Но много значит слово «вечер» — слово,
Струящее и мудрость и печаль,
Как полость сот поток тяжелый меда.
(пер. В. Адмони)
Гофмансталь теоретизирует вполне в духе символизма, но лишь до тех пор, пока не начинает задумываться о том, кому можно доверить расшифровку слова. Им, естественно, должен быть избранник; но кто именно?
«Тайна мира» — ответ на этот вопрос. Значение волшебного слова, объясняющего мир, давно утеряно. Слова замкнуты в себе, их суть скрыта за ложной оболочкой, как драгоценный камень среди гравия. Герметичность мира подчеркивается формой стихотворения: Гофмансталь использует так называемые «ложные терцины», которые не только не создают ощущения взаимосвязанности, а напротив, полностью изолируют одно трехстишие от другого (рифма абб, вгг вместо аба, бвб). Нищий, не умеющий «правильно спросить», не сможет разглядеть сокровище, скрытое в гравии, не сможет заглянуть в глубь колодца и понять его тайну. Зато это смогут сделать ребенок, который смотрит на мир незамутненным наивным взглядом; женщина, постигающая тайну мира в любви и передающая ее другому в своих поцелуях; поэт, который не совсем осознанно (понял тайну, но затем «потерял» ее) воспроизводит сущность мироздания в своих произведениях, причем в момент мистического «возвышения»: «...и говорил безумно, и песню пел». Гофмансталь предлагает типично романтический выход из символистской зашифрованности мира: ведь дитя, любовь, избранник-поэт — это классический набор романтических образов. Образ избранника-поэта, правда, ничуть символизму не противоречит, что легко объясняется романтическими корнями самого символизма, но любовь, не сводимая лишь к умозрительной абстракции и ориентированная не на «я», а на другого человека, на «ты», символистскому образному миру свойственна в меньшей степени.
Гофмансталь часто пользуется и еще одним средством из романтического арсенала — иронией. Иногда, особенно на первых порах его творчества, это просто кокетство, изящное манерничанье («Пролог к книге „Анатоль“»), но в более поздних стихотворениях ирония превращается в явление мировоззренческого порядка и начинает звучать более чем серьезно. Господство над миром, о котором шла речь в «Сне о великой магии», пародийно обыгрывается в стихотворении «Говорит император Китая». Император, «сын неба», как и великий маг, покорил пространство и время; подобно богу, он создает людей и их имена, живет в высшем мире истинных ценностей. И все же в этой гармонии есть одно «но»: на границах империи живут народы с «темной кровью», вроде бы уже и не подчиняющиеся «сыну неба». В отличие от символистов Гофмансталь в глубине сердца не верит в самодельный рай, в правильность такого решения вопроса о соотношении человека и мира.
Итак, владеть миром, пребывая в горных высях, нельзя. Быть может, нужно отречься от своего «я» и посвятить себя служению этому миру? Такой путь избирает герой стихотворения «Юноша в долине» («Jüngling in der Landschaft»): «Он тихо (...) вдыхал новый воздух: его радовало лишь то, что он мог служить». А корабельный повар (стих. «Корабельный повар, пленный, поет...») тоже служит, но людям, его унижающим, и служит тем, что убивает «нежных, тихих пурпурных рыб», снимает кожуру с прекрасных фруктов. Иными; словами, служение миру оборачивается, в конце концов, рабской зависимостью от него.
Единственно, верной позицией человека, по логике Гофмансталя, может стать лишь игра своей роли. Мир-театр — этот образ очень часто встречается в творчестве писателя, почти постоянно присутствует в его лирике. В стихах, написанных в разное время и посвященных памяти трех актеров — Миттервурцера, Мюллера и Кайнца, — Гофмансталь излагает свою концепцию не только театра как такового, но и «мирового театра» — жизни. Актер Е. Г. Миттервурцер воплощает в себе мощь жизненной силы, его искусство — величественная классическая гармония. И. Кайнц побеждает мир силой своего «я», возвышенного, самоценного и неизменно романтического. Позиция же Г. Мюллера самая уязвимая, но и самая близкая Гофмансталю: актер живет в театре жизни, все его существование — игра, и он обречен на гибель, если в этот мир ворвется жестокая реальность. Жизнь такого актера — постоянное напряжение всех сил, балансирование на краю пропасти, но это еще и мужественное признание трагичности всего сущего, своей судьбы, следование предназначенной ему роли во что бы то ни стало.
Возведение роли в ранг высшего нравственного постулата, ее эстетизация станут основой всего дальнейшего творчества Гофмансталя — от «Электры» до «Зальцбургского великого мирового театра», «Тяжелого характера» и «Арабеллы». Именно поэтому важно констатировать, что круг проблем, волнующих позднего Гофмансталя, со всей четкостью обозначен в его ранних произведениях; здесь же определены и принципы решения всех вопросов, связанных с жизнью и искусством. Уже на этом раннем этапе своего творчества писатель убедительно демонстрирует приверженность к романтическим идеалам: с поправкой на мысли и настроения конца XIX в. он создает свою, романтическую по сути, картину бытия.
Л-ра: Вестник МГУ. Сер. 9 Филология. – 1988. – № 3. – С. 63-69.
Произведения
Критика