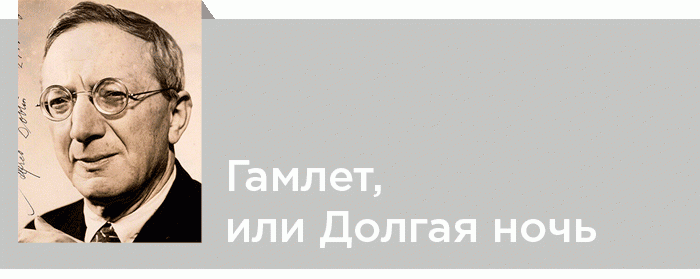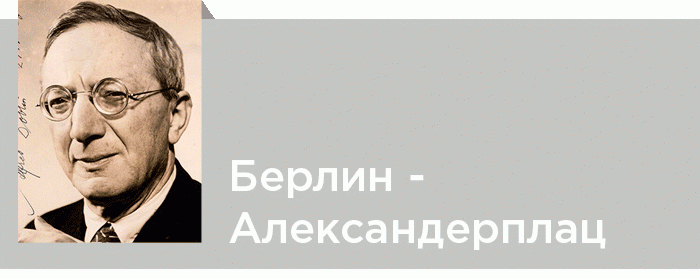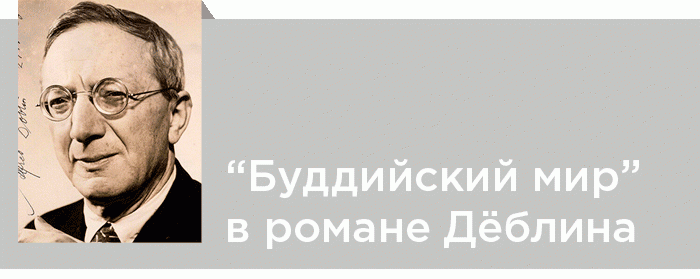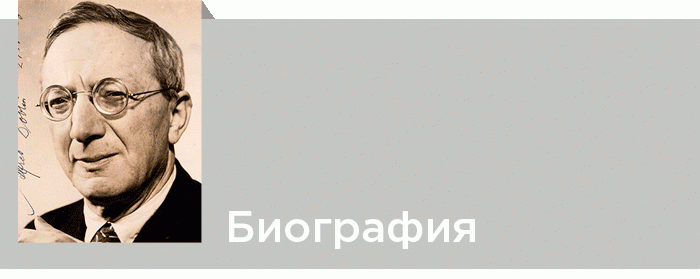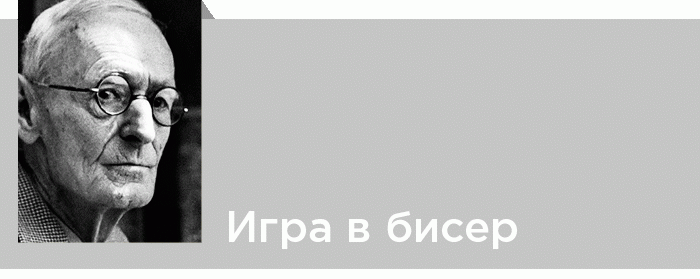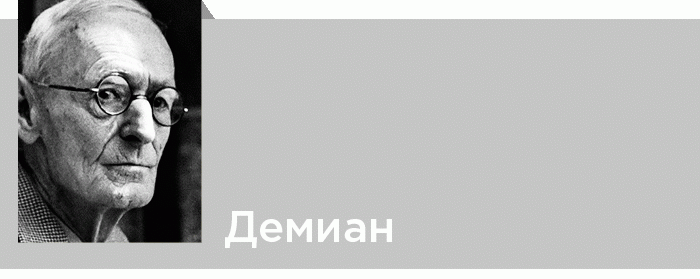Альфред Дёблин. Три прыжка Ван Луня
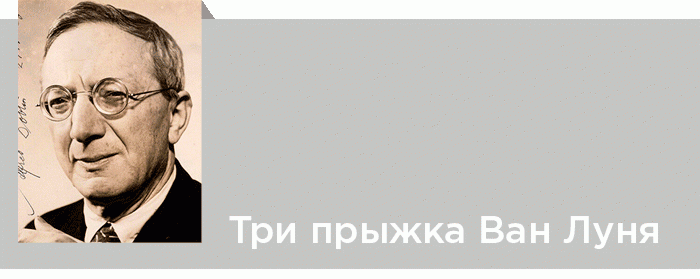
(Отрывок)
Посвящение
ЧТОБЫ
мне не забыть —
Тихий свист доносится снизу, с улицы. Металлическое позвякивание, гудение, хруст. Подскакивает на столе костяной чернильный прибор.
Чтобы не забыть —
О чем бишь я?
Сперва надо притворить окно.
Улицы в последние годы обрели странные голоса. Решетки проложены под тротуарами; всюду, куда ни глянь — кучи битого стекла, громыхающее листовое железо, гулкие трубы братьев Маннесман. Перетасовываются, с грохотом проникая одно сквозь другое, дерево, чугунные глотки-жерла, спрессованный воздух, обломки горных пород. Электричество играет на флейтах рельс. Автомобили с астматическими легкими проплывают, накренившись на бок, по асфальту; и мои двери дрожат. Молочно-белые дуговые фонари, потрескивая, забрасывают широкие лучи ко мне в окна, непрерывно загружают свет в комнаты.
Я не осуждаю эту бестолковую вибрацию. Просто мне делается как-то не по себе.
Не знаю, в чьих голосах туг дело, чьим душам потребны эти тысячетонные резонирующие арочные перекрытия.
Этот голубиный полет аэропланов в небесном эфире.
Эти петляющие между этажами трубы новейших отопительных систем.
Эти молнии слов, переносящихся на сотни миль:
Кому это надо?
Зато людей на тротуарах я знаю. Их беспроволочный телеграф — действительно новшество. А вот гримасы Алчности, недоброжелательная Пресыщенность с выбритым до синевы подбородком, тонкий принюхивающийся нос Похоти, Жестокость, чья желеобразная кровь заставляет сердца дрожать мелкой дрожью, водянистый кобелиный взгляд Честолюбия… Эти чудища тявкали на протяжении многих столетий, и именно они подарили нам прогресс.
О, я-то это хорошо знаю. Я, кого причесывает своим гребнем ветер.
Да, но я хотел о другом —
В жизни нашей земли две тысячи лет проносятся, как один год.
Приобрести, захватить… Один старый человек сказал: «Ты идешь, не зная куда, стоишь, не зная на чем, ешь, не зная почему. Во вселенной сильнее всего воздух и сила тепла. Как же можешь ты обрести их и ими владеть?»
Я хочу принести ему поминальную жертву (для чего и закрыл окно), принести жертву этому мудрому старику,
Лецзы,
посвятив ему свою не способную что-либо изменить книгу.
Книга первая
Ван Лунь
В ГОРАХ
Чжили, на равнинах, под многотерпеливым небом обитали те, против кого снаряжалась, готовя свои доспехи и стрелы, армия императора Цяньлуна. Они просачивались сквозь города, оседали в торговых местечках и деревнях.
Благоговейный трепет расходился кругами по земле, повсюду, где появлялись «поистине слабые». Их лозунг, у-вэй, уже несколько месяцев вновь был у всех на устах. Они не имели постоянных жилищ; но побирались, просили рису или бобовой похлебки, помогали крестьянам и ремесленникам в их работе. Они ничего не проповедовали, не стремились обращать кого бы то ни было в свою веру. Напрасно те ученые, которые тоже иногда попадали к ним, пытались разобраться в их религиозной доктрине. У них не было изображений богов, и они не говорили о Колесе Бытия. По ночам они разбивали лагерь под скалой, или в густом лесу, или в горной пещере. Нередко на их стоянках раздавались стенания и плач. Это печалились самые молодые братья и сестры. Многие из них не употребляли мясной пищи, не срывали цветов и, похоже, поддерживали дружбу с растениями, животными и камнями.
Там был совсем еще молодой человек родом из Шаньдуна, только что с блеском выдержавший первый экзамен. Он спас от ужасной гибели своего отца, который один вышел в море на рыбачьей лодке и попал в бурю; прежде чем отправиться на поиски, юноша покаялся, что в случае успеха присоединится к у-вэй. И вот, как только закончились радостные торжества по поводу сдачи экзамена, он, никому ничего не сказав, ушел из дому. Это был почтительный, робкий молодой человек с вечно прищуренными глазами, который тяжело переживал свой душевный разлад.
Другой, торговец бобами — худой, с выпирающими ребрами — прожил пятнадцать лет в бездетном браке. Он глубоко страдал при мысли, что, когда он умрет, молиться за него будет некому, что его дух останется без пищи и без присмотра. Когда ему исполнилось сорок пять, он покинул родину.
Третий, Цинь, когда-то был богачом и жил у подножия горы Чжаншань. Он постоянно гневался, потому что, как ни охранял свои деньги, его каждый месяц обкрадывали, пусть и по мелочам. К этому еще прибавлялись вымогательства со стороны полицейских, налоговых чиновников; много раз принадлежавшие ему дома сгорали, подожженные злоумышленниками. Он боялся, что в один прекрасный день останется вообще без крова. Чувствовал себя бессильным и бесправным. Однажды он раздарил все деньги слепым музыкантам, старухам из борделей, актерам; а сам поджег свой дом и ушел в лес.
Молодые развратники вместе со шлюхами, освобожденными ими из «расписных домов», тоже присоединялись к движению. Часто можно было видеть, как бывшие проститутки, относившиеся к числу наиболее почитаемых «сестер», впадали в странный экстаз под раскидистыми красными катальпами, на просяных полях; и слышать, как они бормочут что-то невнятное.
Шесть подружек из северной части местности, пересекаемой Императорским каналом, которых просватали еще детьми, в тот месяц, когда их должны были отвести в дом их общего супруга, обвязались одной веревкой и прыгнули в канал. Но поскольку, бросившись вниз, девушки поранились о каменную облицовку, повисли, зацепившись за что-то, и громко кричали, они были спасены пробегавшими мимо носильщиками, которые и доставили их в ближайший полицейский участок, предварительно связав обессиленных беглянок обрывками одежд. Когда девушки, которых в участке хорошо кормили, поправились и пришли в себя, явились их возмущенные отцы. Услышав шумную перепалку с охранниками, подруги вылезли через заднее окно и убежали. Они перебирались с места на место, прятались от непогоды в пещере, добывали себе пропитание, выполняя подсобную работу в окрестных крестьянских хозяйствах или на мельницах. Самая младшая из них, цветущая пятнадцатилетняя девушка, дочь побочной жены старого учителя, погибла, потому что какой-то разбойник изнасиловал ее и потом придушил. Скоро этот разбойник вместе с остальными девушками вступил в одну из сектантских групп.
В северо-восточном Китае — в провинциях Чжили, Шаньдун, Шаньси, даже в Ганьсу и Хэнани, — в больших городах с сотнями тысяч жителей, в благонравных рабочих поселках и в подозрительных притонах, чуть ли не каждый день случалось так, что кто-то отправлялся на рынок и под влиянием встреченного там обманщика, проповедника нищенской жизни или хромого ребенка вытряхивал в ясли для скота свои денежки и ценные вещи. Часто исчезали отцы многодетных семейств; а потом, по прошествии многих месяцев, их случайно обнаруживали в отдаленных районах, где они попрошайничали вместе с бродягами.
То там, то тут какой-нибудь низший чиновник неделями ходил как оглушенный, еле волочил ноги, огрызался на любой вопрос, дерзко пожимал плечами в ответ на выговор начальника; потом внезапно совершал ничем не мотивированное преступление: присваивал казенные деньги, или разрывал в клочья важную пачку документов, или набрасывался на не знакомого ему, ни в чем не повинного человека и ломал ему ребра. После приговора суда он переносил свое наказание и позор с полным равнодушием или бежал из тюрьмы и подавался в леса. Таким людям отказ от семьи и собственности давался очень тяжело, и отрешиться от того и другого они могли только посредством преступления.
Они не рассказывали ничего особенного, что не было бы уже известно другим. Старая притча, на которую они ссылались, издавна переходила из уст в уста:
Жил однажды человек, который боялся собственной тени и ненавидел свои следы. Чтобы избавиться от них, он решился бежать. Но чем чаще поднимал ногу, тем больше оставлял следов. И как бы быстро ни бежал, тень не отставала от тела. Тогда он подумал, что движется слишком медленно; он стал бежать быстрее, без передышек, и так продолжалось, пока его силы не иссякли и он не умер. Он не знал, что ему нужно было всего-навсего найти любое тенистое место, чтобы освободиться от своей тени. И что достаточно пребывать в покое, чтобы не оставлять следов.
Умиротворенные вздохи вырывались из сердца страны. Раньше здесь не видали людей с такими подернутыми дымкой счастья глазами. Но семьи жили в страхе. И если вечером за столом заходил разговор о «поистине слабых» и старой притче, все переглядывались, а на следующее утро смотрели, уж не пропал ли кто.
Этой таинственной сладкой напасти, казалось, были особо подвержены молодые здоровые мужчины и женщины. Их, похоже, охватывало что-то вроде горестного томления, свойственного обрученным.
ВАН ЛУНЬ
возглавлял новое движение.
Он происходил из Шанвдуна, из прибрежного поселка Хуньганцунь в округе Хайлин; и был сыном простого рыбака. Позже он рассказывал, всегда как бы между прочим, что его отец числился среди первых в тамошней корпорации рыбаков; мол, на стене здания этой корпорации до сих пор красуется имя его отца, по чьей инициативе оно и было построено. Однако во всем Хайлине не имелось ни единого общественного здания. Двести двадцать семей поселка упорным трудом обеспечивали себе скудное пропитание. Мужчины выходили в море на лов рыбы; женщины обрабатывали пахотные участки. Земли было так мало, что люди создавали поля на террасах известняковых скал, подступавших к береговой отмели. Мужчины и женщины усердно таскали наверх, по узким извилистым тропинкам, рыхлую землю в деревянных корытах — одно корыто за другим, одно за другим; потом разбрасывали немного навоза, высохшие панцири раков и человеческий кал.
Там, в скалах над морем, целыми днями хозяйничали женщины, дети и старики; плач и другие приглушенные звуки доносились до опустевшего поселка. Раньше здесь жило больше семей. Но однажды направлявшаяся куда-то шайка грабителей из Чжифу по пути завернула сюда и подожгла около пятидесяти домов. Старику старосте бандиты размозжили ступни, зажав их между гнейсовыми плитами, когда он отказался отдать требуемые две сотни лянов; потом, ударив дубинкой, сломали ему левую руку и, вырубив широкое отверстие во льду — тогда стояла зима, — бросили его в прорубь. Прерывистые крики шести изуверов, которые пытались, орудуя досками, удержать под водой вопившего старосту, стук этих досок по поверхности льда, судорожные всхлипы захлебывающегося человека, нетерпеливое ржание украденных бандитами коней — таковы были детские воспоминания Ван Луня.
Два жарких летних месяца старый Ван Шэнь каждый день с восходом солнца выходил в море на своей двухмачтовой джонке, смотревшей вперед двумя круглыми — нарисованными — зелеными глазами. В джонке, по пять человек в ряд, сидели рыбаки. Паруса наполнялись ветром; весла убирали; джонка скользила по темной глади Вэйхэ рядом с другой лодкой. Выбрасывали за борт крупноячеистую провонявшую рыбой сеть, растягивали ее между двумя джонками. Вороты, которыми опускали и вытягивали сеть, сперва скрипели и визжали, потом, перестав крутиться, умолкали.
Мужчины до вечера оставались в море. Солнечный жар подобно сухому дождю немилосердно поливал людей и животных. Как-то толстопузый Ван Шэнь, прикрыв голову соломенной шляпой, сидел на скамье для гребцов и камешками разгонял чаек, которые то и дело выныривали за кормой из мерцавшего воздушного марева. Его товарищи курили трубки или жевали табак. Не успел Ван в очередной раз привести в порядок свою пращу, как один коротышка, беззаботно покуривая, уселся перед ним у задней мачты и осторожно вытащил заранее припрятанный ивовый прут. Ван сделал замах, в то же мгновение рыбак-недомерок, звучно зевнув, наклонился, выставив прут перед собой, — и праща обмоталась вокруг его вытянутой руки, а камушек упал на колени ошеломленного Вана. Тот, огорченный, продолжал таращиться на мельтешащих чаек. Лодка сотряслась от дружного хохота четырех свидетелей этой сцены, нежившихся на влажных досках.
Ван любил с важным видом шататься по чайным, а однажды, когда выдалось свободное утро, прямо со своего крошечного бобового поля отправился подавать ходатайство о предоставлении ему места сельского старосты, что вызвало гнев и слезы его измученной жены, заранее предчувствовавшей, какие насмешки за этим воспоследуют. Он охотно лежал на песке, рядом с жаровней, которую два его сына наполняли древесным углем, чтобы сушить каракатиц. Когда же во время отлива они разжигали жаровню на самой джонке, уходил на берег, чтобы отдохнуть. Там валялись перевернутые пустые корзины из-под рыбы, по песку были разбросаны высушенные каракатицы, на солнце приобретавшие красивый оттенок. И, если к ним прикоснуться, горячие, как уголья.
Толстяк ковырялся в тине, извлекал из нее длинных песочных червей, половину добычи потом отдавал жене, чтобы она их сушила и продавала. Другую половину оставлял для себя, сам тайком сушил, варил и, спрятавшись за корзинами, хлебал восхитительно крепкий червячный бульон.
Через некоторое время возвращались на берег оба мальчика и, поскольку отец, накушавшись от пуза, обычно обильно потел, снимали с его ног обмотки. Сыновья, с их маленькими крысиными хвостиками-косичками, почтительно усаживались напротив, сложив руки на коленях. Высокомерно-гнусавым тоном, громко, чтобы и соседям было слышно, Ван начинал изрекать что-то поверх их голов, откинувшись тучным телом назад и опираясь на локти; он называл это «наставничеством». Он действительно знал букварь — книгу «Цяньцзывэнь», состоявшую из тысячи шестидесяти восьми слов; если не считать нескольких ошибок, помнил ее наизусть; похоже, выучил также кое-какие изречения из учебных текстов для женщин. Вновь и вновь объяснял он своим детям: он, мол, жалеет, что недостаточно строг с ними; строгость по отношению к ним есть его священный долг, ибо — и тут сыновья должны были нараспев скандировать вместе с ним: «Воспитание без строгости свидетельствует о лености отца».
И его сыну, будущему вероучителю трех провинций, приходилось выслушивать наставленья о том, что радость, гнев, скорбь, страх, любовь, ненависть и алчность суть «семь пагубных страстей». Нечасто детям выпадала возможность просто внимать отцу, не занимаясь никаким делом. Лицо мальчика Ван Луня было бронзово-загорелым, прямоугольным, широким; как бы очерченным мощными линиями, сообщавшими этой физиономии живость и лукавство. Нежный, скорее желтоватый оттенок кожи второго из братьев-близнецов не темнел, невзирая ни на какую жару; этот мальчик всегда был проворнее (но физически слабее) и серьезнее Ван Луня, которого — из-за его зловредных проделок — не любили товарищи по играм и который, в свою очередь, не обнаруживал особой склонности следовать завету отца, относившего братскую любовь к числу «пяти добродетелей».
Радуясь, будто им предстояла игра, а не работа, братья в своих красных шапчонках усаживались прямо на гальку у большой рыболовной сети. Жирный Ван устраивался повыше, на поросшей травой дюне, в десяти шагах от них; положив одну голую темно-волосатую ногу на другую, он отдирал от грубой ступни впившиеся в нее осколки ракушек. А неподвижной правой рукой придерживал конец сети, которую мальчики красили густым соком, выжатым из мандариновой кожуры. Ван приподнимался на локте; дети ритмично прищелкивали языками, он недовольно сплевывал, бурчал что-то себе под нос. И лишь время от времени звучно выдавал какую-нибудь внятную сентенцию, например: «Тыква издавна считается символом плодородия». Потом порыв ветра швырял ему в лицо горсть песка, Ван, закашлявшись, сползал вниз, опрокидывая плошку с краской. Жалобно-просительно глядя на сыновей, говорил, что это они виноваты — выбрали неподходящее место. Тогда мальчики снова накручивали на его ноги обмотки, и все трое передвигались на пару шагов в сторону.
Важнейшим событием в жизни отца Ван Луня стала его поездка к брату, на свадьбу племянника, за триста ли от родного поселка Хуньганцунь. Старик аж три недели не видел своего взморья и скудных бобовых полей. В доме его брата жил некий цирюльник, по совместительству колдун; по вечерам Ван Шэнь часто с ним беседовал.
И вот на следующее утро после своего возвращения отец Ван Луня со степенной неторопливостью направился к местному столяру, пообещал ему сколько-то сушеных червей на четыреста пятьдесят монет и попросил изготовить высокий красный щит с надписью: «Ван Шэнь, ученик знаменитого колдуна Куай Дая из Люйсяцуни, заклинатель ветров и погоды». Через шесть дней, в сумерках, он вместе со старшим сыном принес от столяра блестящий щит с черными иероглифами на малиновом фоне и с голубой каймой, забрался на крышу своего дома (его жена в это время спала) и двумя лодочными канатами привязал вывеску к выступавшей балке, так, чтобы она свободно свисала над входной дверью: «Ван Шэнь, ученик знаменитого колдуна Куай Дая из Люйсяцуни, заклинатель ветров и погоды». Утром, когда жена Ван Шэня увидала роскошный щит и разбудила своего мужа, еще спавшего, с ней — во второй раз после многолетнего перерыва — случился нервный припадок. В первый раз, когда один из поджигателей крикнул в окно — мол, есть ли в доме еще кто, окромя нее, — она в ужасе спрятала обоих годовалых сыновей в складках своих широких штанов и, промямлив «Нет», запрокинула голову вправо, едва не вывихнув шею. Теперь же у нее в сознании всколыхнулась зеленая волна, оба каната, на которых висел щит, прикинулись острыми листьями осоки, перепиливающими ее переносицу; голубая лишенная суставов рука потянулась к ней откуда-то из-за них, растопырив пальцы. Женщина ритмически задергала головой слева направо, справа налево, ее колени стукались друг о дружку, она пританцовывала, как марионетка; дети спрятались от нее на теплой лежанке.
А потом взвизгнули и выскочили на улицу, и тявкающие собачонки за ними, когда со двора в закоптелую комнату ввалился старший Ван, жирная туша на слоновьих ногах: затопал туда-сюда в своей тигриной маске, гнусаво запел над женщиной, уже осевшей на пол, поглаживал ее, нашептывал. Через полчаса их мать заснула. Множество детей и женщин ждали у двери, молчали во дворе; когда все закончилось, разом залопотали и расступились, освобождая дорогу колдуну.
Тот день стал поворотным в жизни Ван Шэня. Жена его так ничего и не сказала по поводу красного щита, вообще теперь в присутствии мужа больше молчала, старалась не попадаться ему на глаза.
Он уже не удовлетворялся ролью скромного отца семейства, поучающего от случая к случаю собственных сыновей. Но, расположившись во дворе под ольхой, усердно изучал странные знаки на бамбуковой табличке, которую ему дал колдун, или с гордо поднятой головой прогуливался между навозной кучей и сараем, повторяя вслух только что заученные строчки: «Восемь раз по девять будет семьдесят два. Двойка управляет парой. С помощью пары соединяют непарное. Непарное управляет зодиаком. Зодиак властвует над луной. Луна властвует над волосами. Поэтому волосы отрастают за двенадцать месяцев…» Время от времени озадаченно смотрел на табличку; задумывался о чем-то, будто стыдясь самого себя, потом, быстро махнув рукой, отделывался от навязчивых мыслей. По вечерам, у моря, расхаживал, важно нахмурив лоб, между прилежно работавшими рыбаками, переглядывался с фиолетовыми шарами туч, останавливался в задумчивости перед комнатной собачкой корзинщика, мечтательно произносил вслух, словно разговаривая с самим собой: «Семь раз по девять будет шестьдесят три. Тройка властвует над полярной звездой. А та — над собаками. Поэтому собаки рождаются через три месяца после зачатия…»
Люди только в первое время смеялись за его спиной, а потом утвердились во мнении, что он, глядишь, и вправду станет лекарем-даосом, хотя прежде был посмешищем всего поселка. Он так много всего знал: например, что ласточки и воробьи, окунувшись в море, превращаются в ящериц; мог назвать по именам тысячелетнюю Божественную Лису, девятиголового демона-фазанаи демона-скорпиона; а уж того, что он рассказывал о ян, то есть светоносном мужском начале, и инь, то есть начале женском — темном и плодородном, — вообще никто не понимал.
Он по-прежнему выходил рыбачить в море. И когда однажды утром «забыл» о своей джонке, жена тихо подошла и остановилась перед его постелью. Глядя на нее сквозь неплотно прикрытые веки, он понял, что она, как всегда, хочет разбудить его тычком в бок, но женщина не сделала этого, а разбудила только пятнадцатилетнего Луня и его брата. С тех пор каждое утро перед рассветом она будила обоих близнецов; а их отец в приятной полудреме продолжал посапывать на лежанке.
До полудня Ван Шэнь обычно предавался размышлениям в маленьком храме Бога Врачевания, в предпоследнем здании поселка. Поскольку он был знаком со всеми — и в самом поселке, и в ближайших окрестностях, — люди охотно пользовались его необычными услугами, его искусством осуществлять «прыжок демона» и особенно «прерывание беременности». Так жители этой части Шаньдуна называли один своеобразный обычай. Они боялись, что если вблизи от беременной женщины окажется старик или больной ребенок, он может забраться внутрь ее тела — для того, чтобы снова родиться здоровым и молодым. Ван Шэнь, если существовала такая угроза, в своей белой тигриной маске носился по комнате вокруг сидящей на корточках женщины, закалял ее тело, бичуя его «волшебной веревкой» из волокон тростника, издавал, обливаясь потом, какие-то нечленораздельные слоги. И нередко после подобных упражнений приносил домой по тысяче медных монет.
Но как-то раз, вернувшись от очередной беременной, в криво надетой маске, он пошатнулся и неловко упал на пороге. Жена сорвала с его посеревшего лица деревянную маску. Ван Шэню не хватало воздуха. Он захрипел; потом перекатился на бок и ощупью искал что-то на земле, возле себя. Жена побежала за целебными травами, раскалила два кирпича, чтобы согреть ему ноги. И отослала маленькую дочку, наказав ей собирать милостыню для пострадавшего — как будто у них не было своих денег — в храме Бога Врачевания. Лавочник (он же аптекарь) дал какого-то отвару, выбрав его наугад. Но Ван отвар выплюнул.
Потом, после полудня, перед домом поднялся многоголосый шум. Кто-то непрестанно бил в гонг, звенели колокольчики, слышались отдаленные крики. Шаги носильщиков ковчега гулко вдвинулись со двора в душную комнату больного. Бог Врачевания — грубо раскрашенный деревянный идол — самолично пожаловал к своему ученику, чтобы поставить диагноз и даровать исцеление. Мать мальчиков крикнула в уши спящего мужа: «Покажись ему, да покажись же!» Соседи поддерживали почти уже незрячего страдальца; тот, зевая спросонок, что-то бормотал. Потом в комнате снова воцарилась тишина.
Оказавшись на улице, бог направился к дому аптекаря; носильщики неуверенно потоптались в лавке, и жезл бога склонился к углу самой нижней полки. Юный помощник аптекаря, смертельно испуганный, повернувшись спиной к носильщикам, тайком сотворил охранительный знак тигра: посох указал на питье под названием «Черная вода».
И теперь больному ничто не могло помочь.
Бог уже опять пребывал в одиночестве в своем обветшалом доме на краю поселка. Стемнело. Тучный ученик бога — доблестный усмиритель демонов — в третью ночную стражу вдруг перевернулся на спину. Жена спросила, чего он хочет. Она успела сделать для него только одно: обуть в туфли, в которых покидающие сей мир переходят через Реку Мертвых, — туфли с вышитыми на подошвах цветами сливы, жабами, гусями и белыми лотосами.
СТАРИК
хотел, чтобы Лунь готовился к экзамену первой ступени. Но таланты мальчика лежали в другой, особой области. Когда стригли его волосы, брили круглую как шар голову, близкие замечали продолговатое черно-коричневое родимое пятнышко сбоку от правого виска, которое отец Луня истолковывал как «жемчужину совершенства».
Ван Лунь рос, становился ловким и очень сильным подростком. От его жестокости и коварства страдали ослы, собаки, рыбы и люди. В воровское ремесло его, шестнадцатилетнего, впервые посвятил отец, при несколько необычных обстоятельствах. В поселке существовал обычай, согласно которому в праздничные дни первого месяца года (чаще всего в пятый день) все воровали овощи с огородов или полей соседей, так как считалось, что эти краденые плоды приносят счастье. В такие дни никто не преследовал вора, если он был из местных; просто владельцы участков сами заранее собирали и прятали всё ценное. Когда Ван Лунь впервые — вместе с отцом и братом — попытал удачу в таком узаконенном воровском рейде, ничего хорошего у него не получилось; он лишь выковырял пару пересохших земляных орехов. И недовольно поплелся дальше за своими спутниками; потом убежал домой, тихо сидел в низкой комнате, посасывал соленого рака, а мать хвалила его за то, что он отказался участвовать в подобных глупостях.
Лунь, однако, хотя и сидел тихо, но не по той причине, о которой думала мать; ему пришла в голову незамысловатая мысль: если ты хочешь украсть что-нибудь стоящее, то как раз пятый день первого месяца — самое неподходящее для этого время; ведь нелепо и даже абсурдно воровать именно в тот день, когда все воруют и, соответственно, каждый старается получше припрятать свое добро.
Он обещал себе, что отпразднует «пятый день» попозже, что распределит этот день по всему году, потому что любой день вмещает двадцать четыре часа, которые можно разделить; он, Ван, будет воровать на протяжении целого года, но — в общей сложности не дольше дозволенных двадцати четырех часов.
Итак, этот сметливый пройдоха стал вором — всего на двадцать четыре часа в год; и каждая кража имела видимость дозволенного поступка, а он всякий раз испытывал приятное чувство, что облапошил своих односельчан; такие проделки доставляли ему наслаждение.
Однажды, в последний год жизни старика Шэня, Ван Лунь направил свою разбойничью логику против отца: стащил у него бамбуковую табличку, которая уже давно приобрела темно-коричневый цвет и стала практически нечитаемой. Поседевший Ван Шэнь сильно расстроился, когда увидел, как Лунь сидит во дворе с украденной табличкой на коленях, вертит ее и так и сяк, недоверчиво рассматривает. Лунь, застигнутый врасплох, кинулся прочь вместе с этой самой табличкой; старик же заплакал — ему было жаль и таблички, и непутевого сына.
После смерти Ван Шэня в поселке никто не отваживался иметь дело с его наследником-грубияном: собственный брат и тот был у него под башмаком.
И все вздохнули с облегчением, когда Лунь, которому наскучило ловить и вялить рыбу, а в свободное время штопать рыбацкие сети, которого не устраивала и бедность родного поселка, где даже самый изощренный обман не мог принести ему выручку больше тридцати или сорока дяо, в один прекрасный день, прихватив шнурок с нанизанными на него двумя медными кэшами, покинул родной Хуньганцунь и зашагал, не имея определенной цели, по дороге к Цзинаньфу.
Была весна. Сперва он бродяжничал один. Потом, когда ему это надоело, присоединился к возчикам, которые развозили по деревням продукцию гончарных мастерских, и заработал какую-то мелочь. Потом, возмущенный столь нищенской платой за свой труд, поднялся из зеленой долины реки Вэйхэ наверх, в дикие горы; там, вооружившись самодельным топором — камнем, привязанным к санталовому топорищу, — он, спрятавшись у какой-нибудь уединенной хижины, поджидал ее обитателя, отнимал все, что тот имел при себе, и шел дальше. На тех жутковатых горных тропах, по которым он карабкался, весна еще не давала о себе знать. Ручьи шумели ниже, в долинах, полноводные от растаявшего снега; но наш бродяга не спускался к ним, чтобы умыться, — трусил. Он постоянно таскал в карманах двадцать украденных драгоценных табакерок из тончайшего стекла, наполненных нюхательным зельем; питался красно-желтыми плодами каки, сладкими сушеными яблоками; не брился, не заплетал в косичку свои грязные и липкие космы: однажды, убегая с места преступления, он возле караван-сарая случайно сбил с ног маленькую девочку, она упала и покатилась с откоса, ударилась об острый выступ скалы. Ван не осмеливался спуститься в долину из страха перед духом погибшего ребенка.
В западных отрогах Дайнаня, откуда открывается вид на утопающую в цветах долину реки Дацзэнхэ, Ван оставался почти целый месяц, жил с тамошними попрошайками, ютившимися в жалких хижинах. Он отощал, чувствовал себя скверно; о том, как добывает себе пропитание, своим ленивым товарищам не рассказывал, хотя и играл с ними по вечерам в шашки, используя вместо фигур кусочки кварца. Каждый день около полудня он поднимался вверх по скальной тропе, затем пробирался по голому ущелью; и оказывался на задворках некоей подозрительной корчмы, хозяин которой держал трех монгольских коров. Деревенского увальня, который присматривал за скотиной, в первый раз пришлось стукнуть по затылку и пригрозить ему топором, после чего Лунь набрал полведра молока; с тех пор бедолага безропотно ждал своего обидчика, появлявшегося раз в три дня, сам давал ему черствую рисовую лепешку и сырые яйца, позволял надаивать столько молока, сколько тот хотел.
Но наступил день, когда сговорчивый парень исчез, а вокруг хлева бегали два злобных пса; Ван, так и не утоливший голода, медленнее, чем обычно, проделал трудный обратный путь: прошел часть ущелья, спустился по скальной тропе. Сперва он хотел было вернуться к нищим и с досады убить одного из них; но вместо этого до вечера провалялся на солнцепеке, заснул на куче щебня, а с первыми лучами нового дня стал спускаться с горы по плоским известняковым уступам. Перед ним, насколько хватало глаз, простиралась щедро орошаемая долина. Несмотря на тусклое вечернее освещение он различал вдали мощные стены большого города, Цзинани.
Произведения
Критика