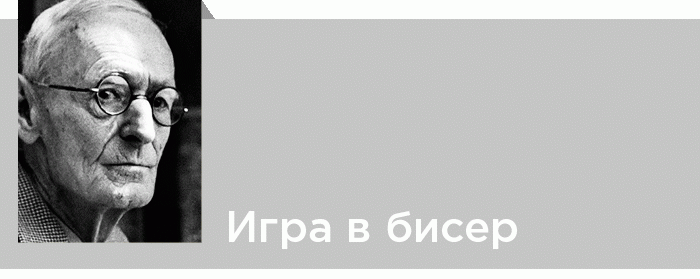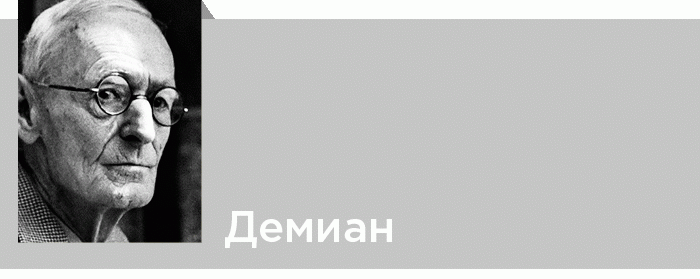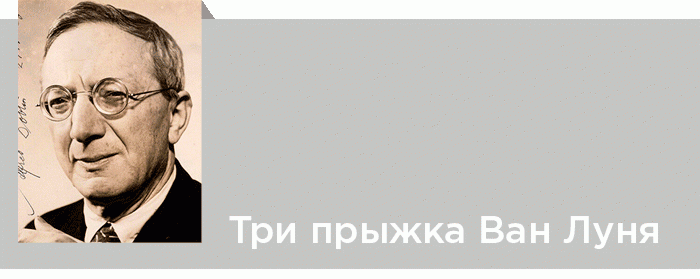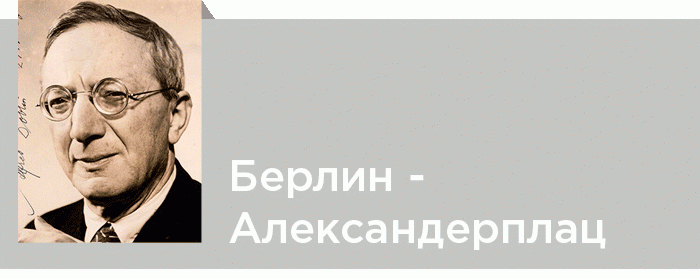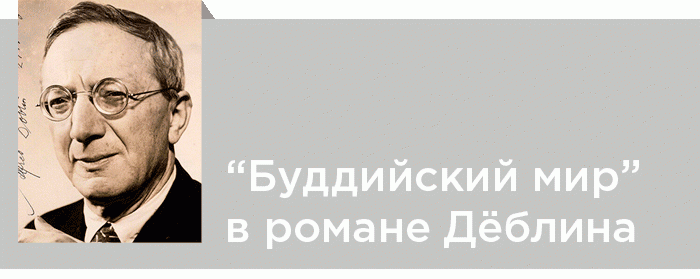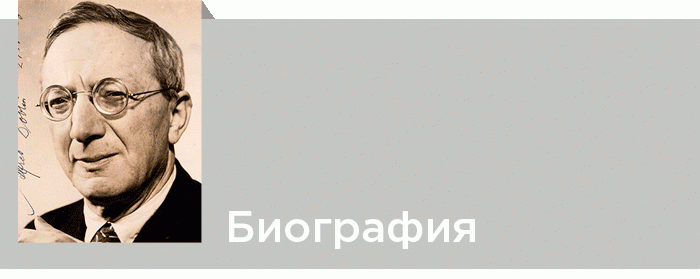Альфред Дёблин. Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу
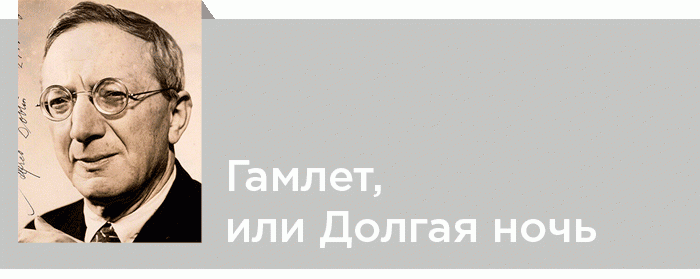
(Отрывок)
КНИГА ПЕРВАЯ
Его привезли обратно. Так и не довелось ему ступить на Азиатский континент.
Через пять дней после того, как они прошли Панамский канал, на рассвете, два японских летчика-камикадзе ринулись на их судно. Первый выскользнул из стены туч, прорезал туманную мякоть над мирно колышущимся океаном, смахнул трап, проскочил сквозь палубу и с воем, извергая пламя, пробил во многих местах судовую обшивку. В широкие пробоины хлынули жадные потоки воды. Из матрасов и досок соорудили нечто вроде плотины. Она продержалась до тех пор, пока не залатали дыры и не унесли потерпевших.
Но тут появился второй летчик. Человек-бомба отвесно спустился из тяжелой тучи, которая, подобно стельной корове, проплывала по небу, разнес палубу и зарылся в машинном отделении. И того, о ком пойдет речь, словно куклу, подняло, крутануло, перевернуло несколько раз и, охваченного огнем и черным дымом, понесло вместе с обломками машин, осколками, ранеными, трупами, оторванными частями человеческих тел. В этом кипящем водовороте немыслимо было сохранить сознание.
Крейсер выгорел. Те, кому удалось спастись, и вспомогательная команда с соседнего судна перевезли на другой крейсер всех, кто еще подавал признаки жизни.
Его нашли далеко от места взрыва, около темной железной лестницы, с которой он скатился.
Вода мирно, словно убаюкивая, плескалась вокруг судов, по-прежнему двигавшихся на Восток. Стельная корова не спеша тащилась по небу. Она уже прошла немалый путь, а предстоял ей еще больший.
В чреве крейсера, в операционной, горели яркие электрические лампы. Коридоры и тамбуры были забиты носилками с обгоревшими, изуродованными людьми: эти юные существа еще дышали, но потеряли человеческий облик. Его нельзя было сохранить, оказавшись в том пекле.
Левую ногу у него оторвало. Обломки кости и клочья мышц удалили, деревяшки и осколки металла вынули, зияющую рану на спине промыли. Все это удалось проделать почти без наркоза, от шока он стал нечувствителен к боли. Переливание крови до хирургического вмешательства, переливание во время операции, инъекции болеутоляющих, сульфамидов, пенициллина; противостолбнячную сыворотку ему ввели уже раньше.
Когда его сняли с операционного стола, пульс у него был неплохой. Дышал он спокойно, ровно и на ощупь был прохладный.
Два дня спустя всех раненых, которые оказались к тому времени транспортабельными, перевезли через океан и высадили на теплом берегу Тихого океана в Америке.
Их приняли госпитали на холмах под пальмами. Все страхи вроде бы улеглись.
Внизу как на ладони лежал город. Дома его карабкались вверх по склонам. Особняки, гаражи и голубые бассейны для плаванья утопали в разноцветье садов. По дорогам, обсаженным деревьями, двигался бесшумный поток машин. Но там были и широкие торговые улицы, по которым проносились автобусы и трамваи. На стульях и скамейках в зеленых парках сидели люди. Женщины переходили через улицу и рассматривали яркие витрины, где были выставлены платья, туфли, шляпки, украшения. Стояла жара. В drugstores глотали мороженое, время от времени бросая пенни в музыкальные автоматы на столах, и тогда под сурдинку рокотал джаз.
На вопросы он не отвечал. А ведь он был такой же, как эти люди в городе: двадцатилетний молодой человек, который еще несколько недель назад гулял по улицам Лондона — у него была увольнительная — и покупал на углу газеты, а потом, не выпуская изо рта сигарету, просматривал их на ходу, чтобы узнать новости с фронта. Сидя за рулем своего джипа, он как-то затормозил перед магазином, где выбрал галстуки и перчатки для послевоенных времен, когда удастся надеть штатское. Не забыл он и о цветах для матери, для своей молодой, элегантной матери: ей предназначались пахучие темно-красные гвоздики.
Сейчас его изжелта-бледное лицо ничего не выражало, гладкое, без единой морщинки, оно походило на лицо младенца.
Температура повышалась, и оно краснело, а глаза начинали блестеть. Но с пересохших губ не срывалось ни звука, ни стона.
А потом он настолько окреп, что его можно было переправить на Восток, в Бостон, вместе с группой других раненых; туда шли нескончаемые санитарные поезда. Раненых ждало английское госпитальное судно, которое увозило европейцев на родину.
В Европе война уже кончилась. Эту войну он прошел с самого начала: в signal corps. противовоздушной обороны во время бомбежек Англии, потом в войсках, подготовлявшихся к высадке на континент. Был участником битвы в Нормандии, наступал во Франции и в Бельгии. По собственному желанию он был откомандирован на Дальний Восток, где предстояли бои с Японией.
Теперь в Атлантике царила тишь да благодать. Настало лето. Все дни были солнечные. Огромный пароход, который вез его домой, слегка покачивался на волнах. Его мощный стальной корпус мирно поднимался и опускался.
Линия горизонта то взлетала в вышину, то падала в пропасть. Вверх — вниз. В глубине парохода гудели машины. Раненые лежали рядами на палубе, защищенные от ветра.
Это случилось в послеполуденное время в необыкновенно тихий день; с одной из коек на палубе раздался пронзительно-резкий вопль, вопль, какой может издать разве что существо, почуявшее собственную смерть. Раненый захлебнулся криком, вопль перешел в долгий жалобный визг. Поднялась тревога. Больные закричали разом, подзывая сестер и санитаров. Со всех сторон сбегались люди.
Эдвард Эллисон задыхался на своей койке; багрово-синий, словно его душили, он сдергивал с себя одеяло; часть бинтов он сорвал; здоровой ногой изо всех сил бил в изножье кровати, туловище его швыряло из стороны в сторону. Казалось, он сражается с незримым врагом, пытаясь вырваться. Безумный страх застыл на его лице. Зрачки закатились, обнажив белки. Губы дрожали, зубы выбивали дробь, на лбу выступили капли пота.
Сестрам и врачам, которые его удерживали, он не отвечал. Припадок начался с новой силой. В лицо врачу он бросал слова на каком-то неведомом языке. Ужас его рос с каждой минутой. Пока с ним боролись, врачи сделали ему инъекцию. И быстро унесли с палубы, учитывая состояние других больных; ведь большинство из них пережило нечто страшное. Многие уже начали дрожать. Состояние Эдварда могло с быстротой молнии передаться всем остальным.
Внизу он затих, но зрачки его двигались, наблюдая за происходящим.
Когда пароход стал приближаться к Европе, он уже опять лежал на палубе; ему показали первых чаек, обратили его внимание на то, что все вокруг ожило. Они проезжали мимо острова, и невдалеке появились маленькие суденышки. Вдруг, после очередной трапезы — он спокойно дал себя накормить, — в состоянии Эдварда наступила перемена: его широко открытые, тусклые глаза смотрели вопрошающе. И — о, чудо! — губы шевельнулись.
Одна из сестер приблизилась к больному. Он что-то шепнул. Она наклонилась над ним. Он шепнул:
— Что это? Где я?
— На пароходе. Скоро мы будем дома. Земля уже видна.
— Какая земля?
— Англия, мистер Эллисон.
— Мистер Эллисон? Кто это?
Сестра дотронулась до его плеча.
— Вы. Вот кто это. Вы — мистер Эллисон. Эдвард Эллисон. А ну-ка, ложитесь поудобней.
— Кто Эдвард Эллисон?
— Видите эту темную черту? Мы прибываем. Через пять часов уже будем на суше.
Она весело побежала к врачу — рассказать о переломе, который наступил в поведении больного.
Но когда они с врачом подошли к Эдварду, он лежал вытянувшись на койке, затихший, неподвижный; снова он провалился в небытие: лицо младенца, неодушевленный предмет, деревяшка, гладь пруда…
Его приняла белая палата, приняла Европа, а не сказочно богатая Азия, в которую он так страстно стремился. Семью обо всем известили.
У госпожи Элис, его матери, было худощавое лицо с правильными чертами. Она умела казаться юной и очаровательной, почти девочкой. У нее был открытый взгляд, который проникал глубоко в душу. И если она не сжимала губы, что, впрочем, случалось довольно часто и придавало ее лицу строгость, — то рот у нее был мягкий, припухлый. Стройная, подтянутая, она двигалась легко и неторопливо. Узнав, что сын — отныне калека, она просидела несколько недель взаперти, а когда показывалась на людях, производила впечатление человека безразличного ко всему. Теперь, размахивая телеграммой, смеясь и плача одновременно, она сообщала новость всем и каждому. В тот же день Элис начала подготавливать дом к приезду сына, украшать его комнату, хотя часто при этом опускалась на стул и принималась плакать.
Скоро семья узнала, что Эдварда переводят в ближайшую клинику, директор которой был своим человеком у Эллисонов. Госпожа Элис сидела у себя в комнате и ждала, она была счастлива.
Ее дочь Кэтлин — на три года моложе Эдварда, — серьезная, здравомыслящая девица, которая служила в войну в мотомеханизированном корпусе, — наблюдала за матерью, расспрашивала ее. Кэтлин удивлялась, почему последняя весть о брате вызвала у матери такую бурную реакцию. Она считала, что мать ведет себя глупо. А тут еще Элис начала прихорашиваться; Кэтлин еще раз убедилась: мать у нее молодая, интересная женщина, совсем иного склада, нежели она сама. Сейчас мать без конца улыбалась, она репетировала улыбку, какой встретит Эдварда. Возмутительно! Странная возня вокруг раненого. Другие матери держали себя гордо, храбро.
Отец, как всегда, предоставил жене свободу действий. По мнению Кэтлин, он сохранял достоинство. Сидел у себя в библиотеке на втором этаже, грузный, неподвижный; этот толстяк, известный писатель, создал себе сперва имя как журналист и автор путевых очерков, а потом перешел на новеллы, юморески, короткие рассказы, за которые дрались издательства и газеты, и разбогател. Еще в начале войны господин Эллисон переселился из своего лондонского дома на эту виллу, где раньше жили только летом.
Элис и Кэтлин стояли на перроне, когда Эдварда выносили из вагона санитарного поезда. Носилки с укутанным больным поставили на каталку и быстро провезли мимо. Мать так и не успела положить на носилки цветы. Потом она ежедневно посылала сыну цветы в клинику. Но почему ей нельзя было навестить сына? Наконец-то они получили разрешение. Правда, им позволили всего лишь заглянуть в палату через окошко в дверях.
Они обе вышли из машины — Элис и Кэтлин. Бледная Элис быстро взбежала по лестнице; дочь, словно прося извинения за ее поспешность, двигалась с подчеркнутой медленностью. Широкий, устланный линолеумом коридор вел в приемную. Скоро появился и доктор Кинг, высокий, широкоплечий человек с жидкими, тронутыми сединой волосами; он сердечно приветствовал посетительниц, протянув им обе руки. Но вместо того чтобы сразу отвести их к больному, доктор тяжело опустился в плетеное кресло, раскурил сигару и завел разговор настолько длинный, что мать не выдержала и с вымученной улыбкой спросила, нельзя ли ей, как обещано, бросить наконец взгляд в палату Эдварда.
— Кстати, если уж мне не разрешили с ним разговаривать, почему не зайти на секунду в его палату, не пожать ему руку? Клянусь, я не произнесу ни слова.
— Милая госпожа Эллисон, все это делается ради него. Я еще не знаю, как подействует на больного встреча с матерью, воспоминания о доме, о прошлом. Пусть даже без слов. Честно признаюсь, такого рода эксперимент я предпочел бы отложить.
— Он очень слаб, доктор?
— Поймите, после того, что с ним случилось, это естественно. Больше всего нас беспокоит его душевное состояние. Лечение еще не начиналось. Придется уж вам как-нибудь сдержать себя, увидев сына. Иногда он во власти галлюцинаций.
У Элис перехватило дыхание.
— Галлюцинаций? Что вы под этим подразумеваете? Что он говорит? Как выглядит?
— Как больной.
В дверях показалась сиделка. Врач кивнул ей.
— Это сестра Гертруда, она при нем неотлучно. А эти дамы — его мать и сестра. Пусть они бросят взгляд на него через окошко в дверях.
Элис сжала вялую руку врача.
— О, боже, доктор, к чему такие предосторожности?
Врач попрощался с ними. Мать на секунду заколебалась. Кэтлин поднялась и, пожав плечами, пошла одна с сиделкой. Мать медленно последовала за ними.
Слева тянулся ряд окон, выходивших в сад, справа — обитые двери. Перед одной из палат сиделка остановилась, приложив указательный палец к губам, и бесшумно открыла дверь. Они остались стоять на пороге; теперь и у Кэтлин началось сердцебиение. Сестра кивком пригласила их в темный тамбур. Элис была не в силах двинуться, держалась за стену. Кэтлин проскользнула внутрь и прижалась лицом к небольшому четырехугольному окошечку. Через полминуты она вышла из тамбура, шелестя юбкой, взяла мать за руку и прошептала:
— Он лежит спиной к двери. Я видела только его макушку. Погляди и ты, мама.
Теперь мать внушала ей жалость.
— Хорошо, — сказала Элис. Опустив голову, она неслышно пробралась мимо Кэтлин и сиделки и прильнула к окошку.
В этой комнате лежал ее сын.
То была обычная светлая больничная палата, но в ней лежал ее сын.
Стены, встроенная мебель, как полагалось в клинике, но в то же время все это окружало ее сына; там лежал ее сын.
Она заглянула в палату и увидела:
Он лежал лицом к саду, спиной к двери, перед которой стояла мать и беззвучно взывала к нему.
Видно, он что-то почувствовал. Зашевелился, начал ворочаться. Перевернулся на спину и теперь лежал вытянувшись и смотрел в потолок. И вдруг повернул направо голову со взъерошенной каштановой шевелюрой: лицо его медленно обратилось к двери, голова легонько приподнялась с подушки. Глаза устремились к дверному окошку.
Элис оделась сегодня особенно тщательно — ни дать ни взять девочка. На ней было светло-зеленое летнее платье. Распущенные волосы, на голове плоская соломенная шляпа с широкими полями, на груди приколот букет. Руки в белых длинных до локтя перчатках мяли фиалки, которые она хотела ему передать.
Там он лежал. Губы его шевелились. Углы рта вздрагивали.
Из туч — первый летчик. Он продырявил палубу, пробил обшивку во многих местах.
Второй спустился отвесно. Треск, грохот, он проскочил сквозь палубу, взорвался и разнес машинное отделение; судно с развороченными внутренностями жутко, по-звериному взревело. Забил гейзер, подхватил какие-то доски, трубы, людей; все закружилось в черных завитках дыма, из кубрика взметнулся язык пламени. В воду посыпались осколки металла, тела́, оторванные конечности; океан поглощал их с легким чавканьем. Он словно облизывался, а на судне бушевал огонь. Смерть нагнулась и подобрала добычу.
Эдвард лежал с открытым ртом. Стонал. Голова его опустилась на подушку.
Но теперь по его лицу пробегали какие-то странные тени. Черты напряглись, губы он сжал, веки судорожно сомкнул. Лицо медленно приобретало злое, язвительное выражение, потом на нем проступил ужас, неописуемый ужас. А после ярость и отчаяние. Словно защищаясь, он прикрыл лицо руками. Он оскалился, заскрежетал зубами.
Тонкая талия Элис была стянута красным кожаным поясом. Она бросила измятые фиалки. И пыталась вытащить из-за пояса носовой платок, чтобы прижать к губам.
Когда на его лице появилось это дикое выражение, она — ведь это же был ее сын Эдвард — еще ближе придвинулась к окошку. Хотела ли она проникнуть в комнату, помочь ему?
Ужасное выражение оставалось долго. Глаза открылись, взгляд был полон муки и ненависти.
Элис вскинула руки, колени у нее подогнулись. Сиделка едва успела подхватить падающую Элис за плечи; казалось, та хочет сесть на пол. Потом сиделка взяла ее под руку.
Кэтлин вышла в коридор, чтобы не видеть, как мать тщетно борется с собой. Теперь она в страхе бежала за ними, держа шляпку матери с широкими полями. В приемной, на кожаной черной кушетке, Элис пришла в себя. Рывком села, взгляд ее перебегал от сиделки к дочери и на секунду устремился в пространство. После она попросила дать ей сумочку.
Пригладила волосы, напудрилась. Руки ее сильно дрожали, мускулы вокруг рта как-то странно подергивались. Она встала.
— Не беспокойтесь обо мне, пожалуйста. Я проявила малодушие. Наделала всем хлопот.
Она попросила передать привет доктору; кивнув, двинулась к выходу и спустилась по лестнице тем же пружинящим шагом, каким шла сюда. Руку дочери она не приняла. Перед дверью клиники их ждал экипаж, старомодная коляска, запряженная парой вороных лошадей.
Элис призналась Гордону Эллисону, своему мужу, что вид Эдварда порядком ее напугал. Болезнь повлияла на него сильнее, нежели она ожидала. Однако можно надеяться на полное выздоровление; доктор наблюдал уже много таких пациентов. Лучшего ухода за Эдвардом, чем в клинике, и ждать нечего; через несколько недель с ним уже можно будет поговорить.
Но хотя в клинике, как утверждала мать, сыну жилось отлично, она с большим упорством настаивала на том, чтобы забрать его оттуда. Да, она хотела его заполучить. И, несмотря на все возражения главного врача и его ассистента, стояла на своем. Элис без конца ссылалась на «благотворное влияние домашней обстановки». То обстоятельство, что такой больной, как Эдвард, вообще не заметит «домашней обстановки», ее не смущало. Каждые два-три дня мать появлялась в клинике и наседала на врача.
Дочь уже не сопровождала Элис. Она сердилась на мать, высмеивала ее: можно подумать, что Эдвард малый ребенок, который держится за материнский подол; он воевал, воевал на Западе и на Востоке, и там обходился без родных. Впрочем, зоркие глаза Кэтлин замечали, как ей казалось, наигрыш в поведении матери. За столом, в присутствии отца, перед гостями та держалась преувеличенно весело. Но когда Элис ненароком заставали в саду, в ее любимом местечке у ограды, откуда было видно пробегавшее внизу шоссе, она сидела согнувшись, погруженная в свои мысли, уставившись в одну точку. С тех пор как Эдвард лежал в клинике, она сильно изменилась.
Она что-то скрывала.
Врачи не отпускали Эдварда домой. Они задались целью вылечить его окончательно.
За несколько месяцев до этого доктора вытащили из когтей смерти его искалеченное, сжигаемое лихорадкой тело. Теперь их коллеги обступили кровать Эдварда так же, как во времена оны — если верить легенде — ангелы обступили ложе спящего царя Соломона, дабы охранять его сон; врачи боролись за душу больного.
Когда на крейсере раздался грохот взрыва и изуродованное, нашпигованное осколками тело Эдварда поднялось в чаду и в пламени и понеслось куда-то прочь, сознание его померкло, душу как бы парализовало. В страхе перед уничтожением, которого Эдвард и впрямь едва избежал, душа его ринулась в небытие, притворилась мертвой, словно зверек, спасающийся бегством. И вот до сих пор она еще не сбросила с себя оцепенение смерти.
Почему Эдвард так держался за смерть?.. От кого он прятался, от кого пытался отгородить себя ужасающим «нет», которое ежедневно можно было прочесть у него на лице? Это «нет» и сломило Элис.
Смерти на земле вольготно. Она находит множество послушных орудий, множество лазеек. Но что делать тем, кто хочет прийти на помощь жизни? В их распоряжении нет ни смертоносных бомб, ни летчиков-камикадзе, ни подрывников. Как снять убийственный гул в ушах онемевшего человека, как расковать его окаменевшие члены, как стереть слово «нет» с его лица?
Врачи пришли на место артиллеристов и минеров. Они медленно прокладывали штольни в тех насыпях, какие возвела вокруг себя душа, пробивали бреши в стенах, за которыми она пряталась.
В ту пору существовал препарат, дававший возможность сравнительно легко проникнуть в человеческую душу. Он назывался пентотал, это было снотворное; когда его вводили в кровь, человек засыпал, как под наркозом; потом действие препарата постепенно ослабевало, и испытуемый впадал в некое странное промежуточное состояние. Он лежал, все слышал, понимал, но вел себя как человек в гипнотическом сне. Вспоминал и говорил о том, чего в обычное время не помнил. И вот это-то средство применили к совершенно оцепеневшему, мрачному Эдварду, который отклонял всякие попытки сближения.
Все шло согласно плану. Уже во время первого сеанса удалось преодолеть барьер.
Главный врач, высокий, крупный седой человек с дряблыми обвисшими щеками и с чуть-чуть подрагивающими губами, сидел в своем белом халате на стуле рядом с койкой Эдварда.
Врач внушал погруженному в забытье больному, что тот плывет на судне, бороздящем Тихий океан (врач повторял то, что он слышал от самого Эдварда и от других о катастрофе). Крейсер быстро движется вперед, море тихое. Уже четыре дня, как они в пути.
Эдвард заговорил сонно, чуть гнусаво, вполголоса и очень медленно:
— Море — тихое. Мы быстро идем вперед. Если бы только япошки оставили нас в покое: все время что-то гудит! Не доверяю я этой благодати. Другие притворяются, будто их ничто не тревожит, а у меня дурные предчувствия. Зенитки у нас есть, но не хватает истребителей.
Врач:
— Довольно! Не волнуйтесь! Вчера к нам присоединился авианосец.
— Для меня это новость. Где же он?
— Покажу потом. В тумане вы его все равно не увидите.
Эдвард пробормотал что-то, а чуть погодя начал снова:
— Я вообще ненавижу океан, а особенно здешние места. Это сверкание меня уморит. Слышите? Они уже опять вернулись.
— Это — наши.
— Но вы ведь слышите, они стреляют! У нас нет истребителей! И где только эти новые самолеты?
— Стрельба уже прекратилась.
Эдвард смолк. Но вдруг лицо его покраснело. И он закричал:
— Тебя опять принесло сюда, Джонни. Зачем? Ходишь за мной как пришитый. На палубе тебе делать нечего.
— Кто это Джонни?
— Ходит за мной как тень. Я обещал его отцу присматривать за ним. Парнишке восемнадцать лет — так он, по крайней мере, утверждает; наверное, ему всего шестнадцать. Он пристал к нам уже в Бельгии. Отец его был раньше консулом в Шанхае; у них дома в Бирмингеме все забито драконами, китайскими болванчиками, мечами, фарфором, даже тамошними снадобьями. Забавно. Ему это нравилось. Мне тоже.
Больной стал всхлипывать.
— Малыш лучше всех на борту играл в шахматы. Ему надо было сидеть внизу. Но тут кто-то, видно, шепнул: «На палубе начали партию». И он поднялся.
Эдвард заплакал в голос. Голова его начала мотаться из стороны в сторону. Потом он приподнялся, пытаясь слезть с кровати. Врачу пришлось вызвать звонком сиделку. Вдвоем они крепко держали больного до тех пор, пока он не успокоился и не улегся; по его покрасневшим щекам текли слезы.
Врач разбудил его.
— Вы спали.
Эдвард ощупал лицо.
— Какая жара. Я вспотел. — Он взял полотенце, которое ему протянул врач, вытер лицо. Нахмурился.
Врач начал пересказывать, что больной говорил в полузабытьи. Эдвард вскользь заметил:
— Мы сопровождали морской конвой в Азию. Он шел в Бирму. И когда мы…
Тут он смолк, потеряв нить. Старался найти ее снова. Напрягал память. Его лицо омрачилось, глаза расширились. На врача он больше не смотрел. Раньше он шевелил руками, но теперь опять прижал их к телу. Пальцы скрючились, ногти впились в ладони.
И вскоре он лежал неприступный, изготовившись к борьбе, к защите.
Врачи предпринимали все новые атаки на эту крепость.
Однажды, когда Эдвард снова впал в полузабытье, врач попытался вернуть его к той шахматной партии, сам больной о ней больше не вспоминал.
От волнения Эдвард заговорил невнятно:
— Я должен его искать. Он сидел на другой стороне.
— Там, где стоит столик?
— Все разбито в щепки, стулья тоже, ничего не осталось. Ах, ах…
Вдруг он вскрикнул:
— Под стулом что-то валяется. Это его мундир. Ой… Джонни, что случилось? Встань же, Джонни! Иди, иди сюда! Я же говорил тебе, оставайся внизу. Ну, встань! Помогите мне! Он не может встать.
— Он еще шевелится?
Эдвард завизжал. Пальцы вцепились в руку врача, который хотел его уложить. Внезапно больной метнулся в сторону, и его тут же стошнило, но он не проснулся.
Врач поднес ему стакан воды. Эдвард сделал несколько глотков и, укладываясь, забормотал, залепетал:
— Там лежит чья-то голова. Матросская бескозырка. Все разбросано. Может быть, это от разных людей.
Теперь он захлебывался словами:
— Я всегда говорил: вы недооцениваете летчиков-камикадзе. Они так же опасны, как бомбардировщики дальнего действия. Куда вы его несете? Подождите врача! Какой позор, разве можно так обращаться с людьми! Ведь еще неизвестно, мертв ли он! Мертв, мертв. Джонни мертв. Проклятый мир, все разбито вдребезги. Они уходят.
Молчание.
— Джонни, что мне делать?! Что мне сказать твоему отцу?! Я пожал ему руку: «Положитесь на меня. Я присмотрю за ним. Без него я не вернусь». Нечего ему было делать на палубе!
Врач:
— Его могли убить где угодно. Перестаньте себя казнить. Война есть война. Никто не застрахован от смерти.
Эдвард:
— Я хотел все кончить, кончить. А потом он явился с этим Китаем. Оставьте меня в покое с вашей Европой!
— Чем вам не угодила Европа? Ведь вы англичанин?
— Проклятая Европа! Хоть бы ее разрушили!
Молчание.
Врач:
— Это говорит ваш печальный опыт?
— Я сыт Европой по горло. Но пусть меня не обвинят в том, что я увиливаю. Отец превозносит до небес мое геройство. Что он знает о войне?
Молчание.
Врач:
— Мы плывем. Пожар. Внимание!.. Мы помогаем…
Эдвард (кричит):
— Задние, стойте! В укрытие! В укрытие! Санитар! Ой, мои руки! Нет, это ничего. С огнем мы управимся. Обычный пожар на судне. А летчиков, как на грех, нет и нет; появятся, когда уже будет поздно. Куда его унесли?! Теперь они лежат рядами. Чудовищно!
Он тихо заплакал.
Врач:
— Вы были с ним очень дружны?
— Как славно мы жили! Махнули на все рукой. Когда мерзость достигает предела, только и остается, что махнуть на все рукой. Нервы у нас были железные. И мы выполняли приказы. В Бельгии и в Германии люди сидели по деревням, стряпали, вязали носки, стирали белье. Кто во что горазд. Мы были в своей стихии, но Джонни этого было мало.
— Женщины?
Эдвард засмеялся.
— Он их ни во что не ставил. Для него они были игрушкой. У женщин мы отдыхали.
Ситуация ясная: Эдвард не мог позабыть мертвого Джонни, отчасти отождествляя себя с этим веселым младшим братишкой; в нем он нашел все, что любил. Поэтому он не мог от него отстать, последовал за ним даже в царство теней, ощутил себя мертвым. Но одновременно в нем бродили неясные мысли о Европе. Эдвард упрекал ее, обвинял. И родину тоже. Да, он от нее отвернулся, знать ее больше не хотел.
Эдвард пролежал в клинике много месяцев. И все притупилось. Как странно, что он, казалось, вообще не обращал внимания на свое тяжелое увечье. Терпеливо сносил перевязки. Его даже тешило, что ранение вызывало к нему интерес врачей и сестер.
Теперь матери и Кэтлин разрешили его навестить.
На судно упала бомба. И в одно мгновение перевернула всю его жизнь.
Он возвратился на родину. А бомба все еще падала.
Элис стояла у его постели. Он встретил ее холодно, сдержанно.
Внимательно ее рассматривал.
Она поставила на стол цветы. Он поблагодарил ее как чужую. И продолжал наблюдать.
Мать с дочерью ушли. Кэтлин было жаль мать.
— Я хочу забрать его домой, — решительно сказала Элис после второго посещения.
Никаких препятствий, собственно, нет, считал врач. Правда, старый вопрос: окажет ли домашняя обстановка положительное воздействие? — остался по-прежнему открытым.
— Но почему же нет? — вздохнула Элис.
— Сами видите, госпожа Элис, какой он. Ваш сын отказывается принимать лекарства. Он не находит себе места, все время напряжен. Иногда кажется, что таким образом он старается избежать рецидива оцепенения. Поэтому он и читает запоем. Что-то ищет, сам не зная чего. Но он должен искать. Это внутренняя необходимость. Гипноз больше ничего не дает.
— Верните его мне, — молила Элис.
Врач испытующе глядел на нее.
— Он будет досаждать вам. В таком состоянии люди безжалостны.
— Верните его мне, доктор.
Врач потеребил нижнюю губу, засопел и опустил глаза. Ему пришла в голову одна мысль. Дом Эллисонов находился недалеко. Больного можно будет наблюдать и там.
— Я хочу спросить его самого, — сказал он.
Глаза Элис расширились.
— Хорошо, спросите его, я подожду здесь. — Взгляд ее неотступно следовал за врачом, пока тот шел к двери. Когда он вернулся, она стояла на том же самом месте. Эдвард попросил день на размышление.
— Завтра с утра я приеду.
Во время утреннего обхода доктор Кинг спросил больного, не хочет ли он вернуться домой, но Эдвард еще не принял решения. В первый раз он обратился с вопросом к врачу:
— Дайте мне совет. Стоит ли?
— Что мешает вам сказать «да»?
— Ничего. — Но он тут же добавил: — Должен ли я? Стоит ли? Почему?
— Ваша матушка этого хочет. Иных причин нет.
— Мать хочет, чтобы я жил дома? Она сказала?
— Каждый раз говорит.
— Как она это сказала? Из вежливости, потому что так положено?
— Не думаю. Такого впечатления у меня не создалось.
— А какое создалось? Почему я должен вернуться домой? Какова причина?
— Вам следовало бы вернуться. Ведь как-никак это ваша мама.
Эдвард пристально смотрел на него, стараясь прочесть на лице доктора его мысли. Потом скрестил руки на груди и задумался. Взгляд его блуждал по потолку, по окну, по всей просторной палате.
— И я буду жить в моей прежней комнате?
— Не сомневаюсь.
Неожиданная общительность Эдварда привела к тому, что врач рискнул задать вопрос:
— Откройте мне, что вас, собственно, беспокоит в этом переезде? Может, тогда я дам вам толковый совет.
— Вы же знаете, все последние годы я провел вдали от дома. За это время много воды утекло. Я хотел совсем иного. Вообще не собирался возвращаться домой.
— Несмотря на то, что здесь ваша матушка?
Эдвард нервно потирал руки, выпростанные из-под одеяла. Он не отвечал, потом вдруг решился:
— Скажите ей, что я приеду.
И почти сразу опять окликнул выходящего доктора:
— Она говорила много раз? И это не было пустыми словами?
— У вашей матушки нет причин говорить мне пустые слова. У меня, как я уже вам докладывал, создалось совсем иное впечатление.
— Вам кажется, что она приглашает, что она просит сына вернуться?
— Именно. Настойчиво просит. И, кстати, просит уже много недель подряд, с тех пор, как вы сюда поступили. Я просто не говорил вам этого раньше.
Эдвард быстро зашептал:
— А сегодня она придет?
— Она уже здесь.
— Скажите ей, я согласен.
Внезапно он пришел в волнение.
— Надеюсь, вы понимаете, — обратился врач к Элис, — что ставите себя в тяжелое положение? Я не говорю уже о неустойчивости его психики, не говорю о том, что он нуждается в постоянном уходе. Когда возвращаются с фронта, то всегда предъявляют счет родине.
— Вы же знаете, доктор, как мы относились друг к другу.
— Конечно. Но кто может предугадать? Не исключено, что вы относились к нему чересчур хорошо.
— Оставьте эту фрейдистскую чушь! Доверьте его мне. О, господи, почему вы тянете? Почему вы меня так мучаете? Я его чуть не потеряла. Почти умерла с ним. Отдайте мне сына назад.
Она заплакала.
Седой человек наклонился над ее стулом, легонько похлопал ее по руке.
— Госпожа Элис, вы его получите. Именно потому, что я не хотел вас мучить, я думал подержать Эдварда еще немного.
— Когда он поселится дома, я не буду мучиться. Кто-кто, а он не станет меня мучить. Мой бедный мальчик — какое уж тут мученье!
Итак, Эдвард Эллисон вернулся под отчий кров, после Нормандии, Франции, Бельгии и Германии, после Тихого океана, — вернулся хоть и живой, но искалеченный, очень хмурый, напряженный и замкнутый; казалось, он вступает в опасную зону.
Эту красивую виллу, собственность Эллисонов, война пощадила, так же, впрочем, как и ее обитателей. Гордон Эллисон уже в первые месяцы тридцать девятого года, накануне войны, переехал сюда и перевез все, чем дорожил. После начала войны он хвалил свое счастливое предвидение, особенно во время массированных воздушных налетов на Лондон и Ковентри и во время эвакуации.
Когда машина с флажком Красного Креста въехала в аллею, обсаженную тополями, Элис с быстротой молнии задернула занавески на своем окне, помчалась к двери, заперла ее, огляделась в комнате, словно что-то искала, а потом бросилась на колени у кровати.
— Господи милосердный! Матерь божия, прими мою молитву, не оставляй меня. Ты же видела: все эти долгие годы я стояла перед тобой на коленях, клала земные поклоны и взывала к тебе, моля о помощи и о долготерпении. Я не могла постичь, что со мной произошло, когда его у меня отняли, единственного моего сына. И так было до тех пор, пока он не вернулся. И вот теперь он опять со мной. Он здесь. И я вижу: он ищет. Он не может успокоиться, как и я.
Ты видела, матерь божия, что я проливала слезы, ничего не понимая. Теперь я понимаю. Ты его мне посылаешь. Ты посылаешь его в мой дом утешителем.
На образке, который я сейчас держу, еще хранятся следы поцелуев — ими я покрывала твой лик, лишь только стала предугадывать твой божественный промысл, — ты вернула его мне, но вернула с тяжким недугом, чтобы он исцелился вместе со мной.
Однако теперь я опять в страхе. Он здесь. Милосердный боже, что со мной будет? Поступила ли я правильно? Боже, спаси этот дом, спаси всех нас. Не дай мне погибнуть. Боже, не оставь меня. Жизнь моя изменится. Я не знаю, что теперь будет.
Я дерзнула. Правильно ли я поступила? Прости меня, я должна была, хотела этого, ты знаешь. И вот это свершилось. Ты меня услышала, и он здесь. Матерь божия, неужто я согрешила, затевая все это? Ты — сама правда, пресвятой господь. А я стремлюсь лишь к ней, к правде… На меня снизошло озарение. Ты ли его ниспослал? Будь милостив, милосердный. Не оставь нас!
Она подбежала к своему старому комоду красного дерева, порылась в одном из ящиков и вытащила золотую цепочку с крестом из черного камня. Прижала его к груди, поцеловала и снова опустилась на колени, взывая о помощи.
Задыхаясь, она прислушалась, не выпуская из рук цепочку. За дверью раздались медленные, тяжелые мужские шаги, потом голос горничной: «Через этот коридор и сразу налево, дверь открыта».
Что-то глухо стукнуло: опустили носилки. Шепот, они кладут его на кровать… Он не разомкнул рта. Опять тяжелые шаги в коридоре. Голос горничной: «Я позову госпожу Эллисон».
Элис прижала к губам крест, засунула его обратно в комод, отворила дверь.
— Госпожа Эллисон, — позвала горничная.
Тихий, мирный дом. Эдвард лежал в своей старой комнате на первом этаже. Одна из дверей выходила в сад. Он видел куртины роз, желтых, красных и белых, уже отцветших, клумбу с тюльпанами, гвоздики, вечно переменчивое небо, вдали холмы, поросшие каштанами. Полный покой. Здесь можно выздороветь.
Несколько дней он казался умиротворенным. Мать бурно радовалась. Часами она просиживала у его постели, держала его за руку. Он отвечал односложно, часто отсылал ее (ему взяли сиделку) — разве у нее нет никаких дел по дому?
— Перестань, Эдвард! Никаких дел! Разреши мне эту роскошь.
Она робко наблюдала за ним: неужели он будет впадать по временам в то странное состояние, в каком она застала его тогда? В первые дни этого не случалось.
Но постепенно им снова овладело беспокойство. Что-то старое исчезло, что-то новое появилось. Он сам ничего не понимал, однако то, что в нем засело, давало о себе знать. Так камень, упав в пруд, идет ко дну и становится невидимым, но круги по поверхности все еще расходятся.
О чем только Эдвард не расспрашивал! О чем только не справлялся! Например, о людях, которые давно, очень давно исчезли с их горизонта. Иногда Кэтлин не могла удержаться от смеха: он вдруг хотел узнать о каких-то случайных, давно забытых личностях, например, о некоей модистке — лет десять-пятнадцать назад она часто приходила к ним в дом, — или о том, что стало с домашним учителем, лохматым Меррэйем, они еще звали его «Маркс». Жив ли он?
Сиделок приходилось то и дело менять, Эдвард был невыносим. Одна из них решила проявить строгость. Покончив со всем необходимым, она читала, храня упорное молчание. Ему она также велела читать или спать. Неужели он не понимает, что и другой человек имеет право отдохнуть? Он и впрямь немного утих, но стоило показаться матери, как он отыгрывался на ней. Пришлось установить что-то вроде дежурства. Все члены семьи обязаны были ежедневно посвящать ему определенное время. То была тяжелая повинность, он их буквально тиранил. Но никто не уклонялся.
Шли месяцы. В начале осени здоровье Эдварда улучшилось.
Ему достали костыли. Надо было учиться ходить по дому.
Произведения
Критика