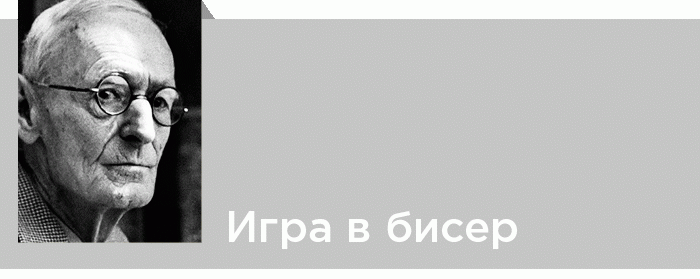Герман Гессе. Демиан
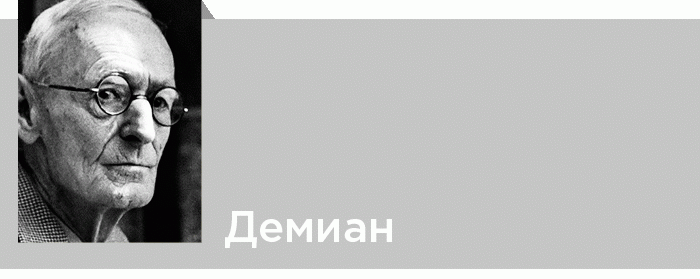
История юности, написанная Эмилем Синклером
(Отрывок)
Я ведь всего только и хотел попытаться жить тем, что само рвалось из меня наружу.
Почему же это было так трудно?
Чтобы рассказать мою историю, мне надо начать издалека. Мне следовало бы, будь это возможно, вернуться гораздо дальше назад, в самые первые годы моего детства, и еще дальше, в даль моего происхождения.
Писатели, когда они пишут романы, делают вид, будто они Господь Бог и могут целиком охватить и понять какую-то человеческую историю, могут изобразить ее так, как если бы ее рассказывал себе сам Господь Бог, без всякого тумана, только существенное. Я так не могу, да и писатели тоже не могут. Но мне моя история важнее, чем какому-нибудь писателю его история; ибо это моя собственная история, а значит, история человека не выдуманного, возможного, идеального или еще как-либо не существующего, а настоящего, единственного в своем роде, живого человека. Что это такое, настоящий живой человек, о том, правда, сегодня знают меньше, чем когда-либо, и людей, каждый из которых есть драгоценная, единственная в своем роде попытка природы, убивают сегодня скопом. Если бы мы не были еще чем-то большим, чем единственными в своем роде людьми, если бы нас действительно можно было полностью уничтожить пулей, то рассказывать истории не было бы уже смысла. Но каждый человек – это не только он сам, это еще и та единственная в своем роде, совершенно особенная, в каждом случае важная и замечательная точка, где скрещиваются явления мира так – только однажды и никогда больше. Поэтому история каждого человека важна, вечна, божественна, поэтому каждый человек, пока он жив и исполняет волю природы, чудесен и достоин всяческого внимания. В каждом приобрел образ дух, в каждом страдает живая тварь, в каждом распинают Спасителя.
Мало кто знает сегодня, что такое человек. Многие чувствуют это, и потому им легче умирать, как и мне будет легче умереть, когда допишу эту историю.
Знающим я назвать себя не смею. Я был ищущим и все еще остаюсь им, но ищу я уже не на звездах и не в книгах, я начинаю слышать то, чему учит меня шумящая во мне кровь. Моя история лишена приятности, в ней нет милой гармонии выдуманных историй, она отдает бессмыслицей и душевной смутой, безумием и бредом, как жизнь всех, кто уже не хочет обманываться.
Жизнь каждого человека есть путь к самому себе, попытка пути, намек на тропу. Ни один человек никогда не был самим собой целиком и полностью; каждый, тем не менее, стремится к этому, один глухо, другой отчетливей, каждый как может. Каждый несет с собой до конца оставшееся от его рождения, слизь и яичную скорлупу некоей первобытности. Иной так и не становится человеком, остается лягушкой, остается ящерицей, остается муравьем. Иной вверху человек, а внизу рыба. Но каждый – это бросок природы в сторону человека. И происхождение у всех одно – матери, мы все из одного и того же жерла; но каждый, будучи попыткой, будучи броском из бездны, устремляется к своей собственной цели. Мы можем понять друг друга; но объяснить может каждый только себя.
Глава первая
ДВА МИРА
Я начну свою историю с одного происшествия той поры, когда мне было десять лет и я ходил в гимназию нашего города.
Многое наплывает на меня оттуда, пробирая меня болью и приводя в сладостный трепет, темные улицы, светлые дома, и башни, и бой часов, и человеческие лица, и комнаты, полные уюта и милой теплоты, полные тайны и глубокого страха перед призраками. Пахнет теплой теснотой, кроликами и служанками, домашними снадобьями и сушеными фруктами. Два мира смешивались там друг с другом, от двух полюсов приходили каждый день и каждая ночь.
Одним миром был отцовский дом, но мир этот был даже еще уже, охватывал, собственно, только моих родителей. Этот мир был мне большей частью хорошо знаком, он означал мать и отца, он означал любовь и строгость, образцовое поведение и школу. Этому миру были присущи легкий блеск, ясность и опрятность. Здесь были вымытые руки, мягкая приветливая речь, чистое платье, хорошие манеры. Здесь пели утренний хорал, здесь праздновали Рождество. В этом мире существовали прямые линии и пути, которые вели в будущее, существовали долг и вина, нечистая совесть и исповедь, прощение и добрые намерения, любовь и почтение, библейское слово и мудрость. Этого мира следовало держаться, чтобы жизнь была ясной и чистой, прекрасной и упорядоченной.
Между тем другой мир начинался уже в самом нашем доме и был совсем иным, иначе пахнул, иначе говорил, другое обещал, другого требовал. В этом втором мире существовали служанки и подмастерья, истории с участием нечистой силы и скандальные слухи, существовало пестрое множество чудовищных, манящих, ужасных, загадочных вещей, таких, как бойня и тюрьма, пьяные и сквернословящие женщины, телящиеся коровы, павшие лошади, рассказы о грабежах, убийствах и самоубийствах. Все эти прекрасные и ужасные, дикие и жестокие вещи существовали вокруг, на ближайшей улице, в ближайшем доме, полицейские и бродяги расхаживали повсюду. Пьяные били своих жен, толпы девушек текли по вечерам из фабрик, старухи могли напустить на тебя порчу, в лесу жили разбойники, сыщики ловили поджигателей – везде бил ключом и благоухал этот второй, ожесточенный мир, везде, только не в наших комнатах, где были мать и отец. И это было очень хорошо. Это было чудесно, что существовало и все то другое, все то громкое и яркое, мрачное и жестокое, от чего можно было, однако, в один день укрыться у матери.
И самое странное – как оба эти мира друг с другом соприкасались, как близки они были друг к другу! Например, наша служанка Лина, когда она вечером, за молитвой, сидела в гостиной у двери и своим звонким голосом пела вместе с другими, положив вымытые руки на выглаженный передник, тогда она была целиком с отцом и матерью, с нами, со светлым и правильным. А сразу после этого, в кухне или в дровянике, когда она рассказывала мне сказку о человечке без головы или когда она спорила с соседками в маленькой мясной лавке, она была совсем другая, принадлежала к другому миру, окружалась тайной. И так бывало со всем на свете, чаще всего со мной самим. Конечно, я принадлежал к светлому и правильному миру, я был сыном своих родителей, но куда ни направлял я свой взгляд и слух, везде присутствовало это другое, и я жил также и в нем, хотя оно часто бывало мне чуждо и жутко, хотя там обыкновенно появлялись нечистая совесть и страх. Порой мне даже милее всего было жить в этом запретном мире, и возвращение домой, к светлому – при всей своей необходимости и благотворности – часто ощущалось почти как возврат к чему-то менее прекрасному, более скучному и унылому. Иногда я знал: моя цель жизни – стать таким, как мой отец и моя мать, таким же светлым и чистым, таким же уверенным и порядочным; но до этого еще долгий путь, до этого надо отсиживать уроки в школе, быть студентом, сдавать всякие экзамены, и путь этот идет все время мимо другого, темного мира, а то и через него, и вполне возможно, что в нем-то как раз и останешься и утонешь. Сколько угодно было историй о блудных сыновьях, с которыми именно так и случилось, я читал их со страстью. Возвращение в отчий дом и на путь добра всегда бывало там замечательным избавлением, я вполне понимал, что только это правильно, хорошо и достойно желания, и все же та часть истории, что протекала среди злых и заблудших, привлекала меня гораздо больше, и если бы можно было это сказать и в этом признаться, то иногда мне бывало, в сущности, даже жаль, что блудный сын раскаялся и нашелся. Но этого ни говорить, ни думать не полагалось. Это ощущалось только подспудно, как некое предчувствие, некая возможность. Когда я представлял себе черта, я легко мог вообразить его идущим по улице, открыто или переодетым, или где-нибудь на ярмарке или в трактире, но никак не у нас дома.
Мои сестры принадлежали тоже к светлому миру. Они, как мне часто казалось, были по сути ближе к отцу и матери, они были лучше, нравственнее, непогрешимее, чем я. У них были недостатки, были дурные привычки, но мне казалось, что это заходит не очень глубоко, не так, как у меня, где соприкосновение со злом часто оказывалось мучительно-тяжким, где темный мир находился гораздо ближе. Сестер, как и родителей, надо было щадить и уважать, и если случалось поссориться с ними, ты всегда оказывался плохим перед собственной совестью, зачинщиком, который должен просить прощения. Ибо в сестрах ты обижал родителей, добро и непреложность. Были тайны, поделиться которыми с самыми скверными уличными мальчишками мне было куда легче, чем с сестрами. В хорошие дни, когда все светло и совесть в порядке, бывало просто восхитительно играть с сестрами, держаться с ними приятно и мило и видеть самого себя в славном, благоприятном свете. Так, наверно, было бы, если бы сделаться ангелом! Ничего более высокого мы не знали, и нам казалось дивным блаженством быть ангелами, окруженными сладкозвучием и благоуханием, как сочельник и счастье. О, как редко выдавались такие часы и дни! За игрой, за хорошими, невинными, разрешенными играми мною часто овладевала горячность, которая претила сестрам, вела к ссорам и бедам, и если на меня тогда находила злость, я становился ужасен, я делал и говорил вещи, делая и говоря которые, в глубине души уже обжигался их мерзостью. Затем наступали скверные, мрачные часы раскаяния и самоуничижения, а затем горькая минута, когда я просил прощения, а потом снова, на какие-то часы или мгновения – луч света, тихое, благодарное счастье без разлада.
Я учился в гимназии, сын бургомистра и сын старшего лесничего были в моем классе и иногда приходили ко мне, дикие сорванцы, и все-таки частицы доброго, разрешенного мира. Тем не менее у меня были близкие отношения с соседскими мальчишками, учениками народной школы, которых мы вообще презирали. С одного из них я и начну свой рассказ.
Как-то в свободные часы второй половины дня – мне было чуть больше десяти лет – я слонялся без дела с двумя соседскими мальчишками. Тут к нам подошел третий, постарше, сильный и грубый малый лет тринадцати, ученик народной школы, сын портного. Его отец был пьяница, и вся семья пользовалась дурной славой. Франц Кромер был мне хорошо известен, и мне не понравилось, что он присоединился к нам. У него были уже мужские манеры, он подражал походкой и оборотами речи фабричным парням. Под его предводительством мы возле моста спустились к берегу и спрятались от мира под первой мостовой аркой. Узкий берег между сводчатой стеной моста и вяло текущей водой состоял из сплошных отбросов, из черепков и рухляди, запутанных узлов ржавой проволоки и прочего мусора. Там можно было иногда найти полезные вещи; под предводительством Франца Кромера мы должны были обыскивать этот участок и показывать ему найденное. Затем он либо брал это себе, либо выбрасывал в воду. Он велел нам не пропускать предметов из свинца, меди и олова, их он все до одного забрал, как и роговую гребенку. Я чувствовал себя в его обществе очень скованно, не потому, что я знал, что мой отец запретил бы мне водиться с ним, а от страха перед самим Францем. Я был рад, что он меня взял с собой и обращался со мной, как с другими. Он приказывал, а мы повиновались, словно так заведено издавна, хотя я был впервые с ним вместе.
Наконец мы уселись на берегу. Франц плевал в воду и был похож на взрослого. Он плевал сквозь отверстие на месте выпавшего зуба и попадал куда хотел. Начался разговор, и мальчики стали бахвалиться своим геройством в школе и всяческими бесчинствами. Я молчал, боясь, однако, именно этим привлечь к себе внимание и вызвать гнев Кромера. Оба моих товарища отделились от меня и взяли его сторону, я был чужим среди них и чувствовал, что моя одежда и мое поведение бросают им вызов. Как гимназиста и барчука Франц наверняка не мог любить меня, а те оба, я это прекрасно чувствовал, в случае чего отступились бы и бросили меня на произвол судьбы.
Только от страха начал в конце концов рассказывать и я. Я выдумал великолепную разбойничью историю, героем которой сделал себя. В саду возле Угловой мельницы, рассказал я, мы с одним приятелем ночью утащили целый мешок яблок, причем не обычных, а сплошь ранет и золотой пармен, лучшие сорта. Убежал я в эту историю от опасностей той минуты, а выдумывать и рассказывать я умел. Чтобы тут же не умолкнуть и не угодить в еще худшее положение, я пустил в ход все свое искусство. Один из нас, рассказал я, стоял на страже, а другой сбрасывал яблоки с дерева, и мешок получился такой тяжелый, что под конец нам пришлось открыть его и половину отсыпать, но через полчаса мы вернулись и унесли и это.
Кончив рассказ, я надеялся на какое-то одобрение, к концу я разошелся, сочинительство опьянило меня. Оба мальчика выжидающе промолчали, а Франц Кромер, прищурившись, пронзил меня взглядом и с угрозой в голосе спросил:
– Это правда?
– Да, конечно, – сказал я.
– Значит, сущая правда?
– Да, сущая правда, – упрямо подтвердил я, а сам задыхался от страха.
– Можешь поклясться?
Я очень испугался, но сразу сказал «да».
– Ну, так скажи: «Клянусь Богом и душой».
Я сказал:
– Клянусь Богом и душой.
– Ну, что ж, – отозвался он и отвернулся.
Я думал, что тем дело и кончилось, и был рад, когда он вскоре поднялся и направился в обратный путь. Когда мы вышли на мост, я робко сказал, что мне нужно домой.
– Не надо спешить, – засмеялся Франц, – нам же по пути.
Он медленно плелся дальше, и я не осмеливался убежать, но он действительно шел в сторону нашего дома. Когда мы дошли до него, когда я увидел нашу входную дверь и толстую медную ручку, солнце на окнах и занавески в комнате матери, я глубоко вздохнул. О, возвращение домой! О, доброе, благословенное возвращение в свой дом, в светлоту, в мир!
Когда я быстро отворил дверь и прошмыгнул, готовый захлопнуть ее, Франц Кромер протиснулся вслед за мной. В прохладном, мрачном коридоре с каменным полом, куда свет проникал только со двора, он стал рядом со мной, взял меня за плечо и тихо сказал:
– Не надо так спешить, понял?
Я испуганно посмотрел на него. Он держал мое плечо мертвой хваткой. Я думал, что у него на уме и уж не собирается ли он поднять на меня руку. Если я сейчас закричу, думал я, закричу громко, истошно, успеет ли кто-нибудь спуститься, чтобы спасти меня? Но я не закричал.
– В чем дело? – спросил я. – Что тебе нужно?
– Не так много. Я должен только еще кое-что спросить у тебя. Другим незачем это слышать.
– Вот как? Что же мне еще сказать тебе? Мне надо наверх, пойми.
– Ты же знаешь, – тихо сказал Франц, – чей это сад возле Угловой мельницы?
– Нет, не знаю. Думаю – мельника.
Франц обхватил меня рукой и притянул вплотную к себе, так что мне пришлось глядеть ему прямо в лицо. Глаза у него были злые, улыбался он скверно, а в лице были жестокость и властность.
– Да, миленький, я-то уж могу тебе сказать, чей это сад. Я давно уже знаю, что там украдены яблоки, и знаю, что хозяин сказал, что даст две марки любому, кто укажет вора.
– Боже мой! – воскликнул я. – Но ты же не скажешь ему?
Я чувствовал, что бесполезно взывать к его чести. Он был из другого мира, для него предательство не считалось преступлением. Я чувствовал это безошибочно. В этих делах люди из «другого» мира были не такие, как мы.
– Не скажу? – засмеялся Кромер. – Ты, друг мой, думаешь, наверно, что я фальшивомонетчик, что я могу сам делать себе двухмарковые монеты? Я бедняк, у меня нет богатого отца, как у тебя, и если мне выпадает случай заработать две марки, то я должен их заработать. Может быть, он даст даже больше.
Внезапно он отпустил меня. Наша входная площадка уже не пахла покоем и безопасностью, мир вокруг меня рухнул. Кромер выдаст меня, я – преступник, об этом скажут отцу, может быть, даже придет полиция. Мне грозили все ужасы хаоса, на меня ополчилось все безобразное и опасное в мире. Что я вовсе не вор, не имело никакого значения. Кроме того, я поклялся. О боже, о боже!
Слезы навернулись у меня на глаза. Я чувствовал, что должен откупиться, и в отчаянии обшаривал свои карманы. Ни яблока, ни перочинного ножика – ничего не было. Тут я вспомнил о своих часах. Это были старые серебряные часы, и они не ходили, я носил их «так просто». Они перешли ко мне от нашей бабушки. Я быстро вытащил их.
– Кромер, – сказал я, – послушай, не выдавай меня, это будет некрасиво с твоей стороны. Я подарю тебе свои часы, вот погляди. Больше у меня, к сожалению, ничего нет. Возьми их, они серебряные, и механизм хороший, там только какая-то маленькая неполадка, их можно починить.
Он усмехнулся и взял часы в свою большую руку. Я смотрел на эту руку и чувствовал, как она груба и как глубоко враждебна мне, как она посягает на мою жизнь и на мой покой.
– Они серебряные, – сказал я робко.
– Плевать мне на твое серебро и на эти твои старые часы! – сказал он с глубоким презрением. – Сам отдавай их в починку!
– Но, Франц, – крикнул я, дрожа от страха, что он убежит, – подожди-ка! Возьми все-таки часы! Они действительно серебряные, действительно, в самом деле. Да и нет у меня ничего другого.
Он посмотрел на меня холодно и презрительно.
– Значит, ты знаешь, к кому я пойду. А могу сообщить и в полицию, их унтер-офицера я хорошо знаю.
Он повернулся, чтобы уйти. Я держал его за рукав. Этого нельзя было допустить. Мне куда легче было умереть, чем вынести все, что последует, если он так уйдет.
– Франц, – взмолился я, охрипнув от волнения, – не дури! Ведь это же просто шутка!
– Ну, конечно, шутка, но тебе она может дорого обойтись.
– Скажи, Франц, что мне сделать? Я же сделаю все!
Он осмотрел меня своими прищуренными глазами и опять засмеялся.
– Не будь дураком! – сказал он притворно-добродушно. – Ты же все понимаешь не хуже моего. Я могу заработать две марки, и я не богач, чтобы бросаться ими, ты это знаешь. А ты богатый, у тебя есть даже часы. Тебе нужно только дать мне две марки, и все в порядке.
Я понимал его логику. Но две марки! Это казалось мне таким же огромным и таким же недостижимым богатством, как десять, как сто, как тысяча марок. У меня денег не было. Была копилка, стоявшая у матери, в ней, благодаря приездам дядюшки и другим таким поводам, лежало несколько десяти– и пятипфенниговых монет. Больше у меня ничего не было. Карманных денег я в том возрасте еще не получал.
– У меня ничего нет, – сказал я грустно. – У меня нет никаких денег. А вообще я тебе все отдам. У меня есть книга про индейцев, и солдатики, и компас. Я его принесу тебе.
Кромер только искривил свой наглый злой рот и плюнул на пол.
– Не болтай! – сказал он повелительно. – Свой хлам можешь оставить себе. Компас! Лучше не зли меня сейчас, слышишь, и выкладывай деньги!
– Но у меня нет их, мне никогда не дают денег. Я же не виноват в этом!
– Ну, так принесешь мне завтра эти две марки. Я буду ждать тебя после школы внизу на рынке. И кончено. Не принесешь денег – увидишь.
– Да, но где же мне взять их? Господи, когда у меня ничего нет.
– У вас в доме денег хватает. Это твое дело. Итак, завтра после школы. И повторяю: если не принесешь…
Он метнул мне в глаза ужасный взгляд, еще раз сплюнул и исчез как тень.
Я не мог подняться в дом. Моя жизнь рухнула. Я думал о том, чтобы убежать и никогда больше не возвращаться или утопиться. Но это были неясные видения. Я сел в темноте на нижнюю ступеньку нашей лестницы, весь сжался и ушел в свое горе. Там нашла меня плачущим Лина, когда спускалась с корзиной за дровами.
Я попросил ее ничего не говорить наверху и поднялся. На вешалке возле стеклянной двери висели шляпа отца и материнский зонтик от солнца, домашность и нежность лились на меня от всех этих предметов, мое сердце приветствовало их с мольбой и благодарностью, как приветствует блудный сын вид и запахи родных покоев. Но все это теперь не принадлежало мне, все это был светлый отцовский и материнский мир, а я глубоко и преступно окунулся в чужую стихию, запутался в приключениях и грехе, пребывал под угрозой врага, в ожидании опасностей, страха и позора. Шляпа и зонтик, старый добрый каменный пол, большая картина над шкафом в прихожей, а изнутри, из гостиной, голос моей старшей сестры – все это было милее, нежнее и драгоценнее, чем когда-либо, но это уже не было утешением, надежным достоянием, а было сплошным укором. Все это не было уже моим, не могло пустить меня в свою безоблачность и тишину. На моих ногах была грязь, которую нельзя было удалить, вытерев их о коврик, я принес с собой тени, о которых этот родной мир и не ведал. Сколько бывало у меня тайн, сколько страхов, но все это было игрой и шуткой по сравнению с тем, что я принес с собой в эти покои сегодня. Судьба гналась за мной, ко мне тянулись руки, от которых даже мать не смогла бы меня защитить, о которых она и знать не должна была. Состояло ли мое преступление в воровстве или во лжи (разве я не дал ложной клятвы, не поклялся Богом и душой?) – это было безразлично. Мой грех состоял не в чем-то определенном, а в том, что я дал руку дьяволу. Зачем я пошел с ними? Зачем послушался Кромера – покорнее, чем когда-либо отца? Зачем выдумал эту историю о воровстве? Бахвалился преступлениями, словно это геройские подвиги? Теперь дьявол не отпускает мою руку, теперь враг не отстает от меня.
На миг я ощутил уже не страх перед завтрашним днем, а прежде всего ужасную уверенность, что отныне мой путь пойдет неуклонно под гору и во мрак. Я ясно почувствовал, что за моим проступком непременно последуют новые проступки, что мое появление среди семьи, мое приветствие и поцелуи с родителями – ложь, что я ношу с собой рок и тайну, которые скрываю от них.
На миг во мне блеснула надежда, когда я глядел на отцовскую шляпу. Я все скажу отцу, приму его приговор и его кару, сделаю его своим поверенным и спасителем. Это будет всего только покаяние, – а каяться мне уже часто случалось, – тяжелый, горький час, тяжелая и полная раскаяния мольба о прощении.
Как сладостно это звучало! Как завлекающе манило! Но это было невозможно. Я знал, что не сделаю этого. Я знал, что теперь у меня есть тайна, есть вина, которую я должен расхлебывать сам, в одиночку. Может быть, я сейчас на распутье, может быть, с этого часа я всегда буду во власти дурного, всегда должен буду делить тайны со злыми, зависеть от них, слушаться их, быть таким, как они. Я строил из себя мужчину и героя, теперь надо вытерпеть все, что из этого следовало.
Мне пришлось кстати, что отец, когда я вошел, побранил меня за мокрую обувь. Это отвлекло его, он не заметил худшего, и я снес упрек, который втайне отнес к другому. При этом во мне взыграло какое-то странное новое чувство, злое, острое и колючее: я почувствовал свое превосходство над отцом! На миг я почувствовал некое презрение к его неосведомленности, его брань по поводу моих мокрых башмаков показалась мне мелочной. «Если бы ты знал!» – думал я и представлялся себе преступником, которого допрашивают из-за украденной булочки, тогда как ему следовало бы признаться в убийствах. Чувство это было скверное, гнусное, но оно было сильным, в нем была своя глубокая сладость, и оно крепче, чем всякая другая мысль, приковывало меня к моей тайне, к моей вине. Может быть, думал я, Кромер уже пошел в полицию и донес на меня, и надо мной вот-вот разразятся грозы, а на меня здесь смотрят как на малое дитя!
Во всем этом событии, как оно досюда рассказано, этот миг был самым важным и запомнился прочнее всего. Это была первая трещина в священном образе отца, первый надлом в опорах, на которых держалась моя детская жизнь и которые каждому человеку, чтобы стать самим собой, надо разрушить. Из этих событий, не доступных ничьему зрению, состоит внутренняя, существенная линия нашей судьбы. Такая трещина, такой надлом потом зарастают, они заживают и забываются, но в самой тайной глубине они продолжают жить и кровоточить.
Меня самого сразу же ужаснуло это новое чувство, я тут же готов был целовать ноги отцу, чтобы извиниться перед ним за него. Но ни за что существенное извиниться нельзя, и ребенок чувствует это и знает так же хорошо и глубоко, как всякий мудрец.
Я сознавал необходимость подумать о своем деле, поразмыслить о том, как поступить завтра; но у меня ничего не вышло. Весь вечер я был занят единственно тем, что привыкал к изменившемуся воздуху в нашей гостиной. Стенные часы и стол, Библия и зеркало, книжная полка и картинки на стене как бы прощались со мной, я с застывающим сердцем видел, как мой мир, как моя славная, счастливая жизнь уходят в прошлое, отделяются от меня, и ощущал, как сцеплен, как скреплен я новыми сосущими корнями со всем тем чужим и мрачным, чем этот мой мир окружен. Впервые отведал я смерти, а у смерти вкус горький, ибо она – это рождение, это трепет и страх перед ужасающей новизной.
Я был рад, когда наконец улегся в постель! Но прежде, как через последнее чистилище, я прошел через вечернюю молитву, когда мы пели одну песню, которая принадлежала к числу моих самых любимых. Нет, я не пел с другими, и каждый звук был для меня ядом и желчью. Я не молился с другими, когда отец произносил благословение, а когда он кончил: «…да пребудет с нами со всеми!» – какая-то судорога вырвала меня из этого круга. Милость божья была с ними со всеми, но уже не со мной. Холодный и глубоко усталый, я удалился.
В постели, когда я немного полежал, когда меня любовно объяли тепло и защищенность, сердце мое в страхе еще раз метнулось назад и тоскливо запорхало вокруг происшедшего. Мать, как всегда, пожелала мне спокойной ночи, ее шаги еще отдавались в комнате, свет ее свечи еще теплился за неплотно закрытой дверью. Сейчас, думал я, сейчас она вернется – она почувствовала, она поцелует меня и спросит ласково и многообещающе, и тогда я расплачусь, тогда растает комок у меня в горле, тогда я обниму ее и расскажу ей это, и тогда все будет хорошо, тогда я спасен! И когда щель между дверью и косяком уже потемнела, я все еще какое-то время прислушивался и думал, что так непременно, непременно случится.
Потом я вернулся к действительности и посмотрел своему врагу в лицо. Я увидел его отчетливо, один глаз он прищурил, его рот грубо смеялся, и пока я глядел на него, проникаясь неизбежным, он делался больше и безобразнее, а его злобный глаз бесовски сверкал. Он стоял вплотную ко мне, пока я не уснул, но потом сны мои были не о нем и не о сегодняшнем, нет, мне снилось, что мы катаемся на лодке, родители, сестры и я, а вокруг нас только покой и сияние дня летних каникул. Проснувшись среди ночи, еще ощущая оставшийся вкус блаженства, еще видя, как светятся на солнце белые платья сестер, я низвергнулся из всего этого рая в действительность и снова стоял напротив врага с его злобным глазом.
Утром, когда торопливо вошла мать и громко удивилась, почему я, хотя уже поздно, еще в постели, вид у меня был скверный, а когда она спросила, здоров ли я, меня стошнило.
Этим, казалось, было что-то выиграно. Я очень любил прихворнуть и все утро попивать лежа настой ромашки, слушая, как мать убирает соседнюю комнату, а Лина принимает мясника в прихожей. В утренних часах без школы было какое-то очарование, что-то сказочное, солнце заглядывало тогда в комнату и было не тем же солнцем, от которого в школе опускали зеленые занавески. Но и это сегодня не радовало и приобрело какой-то фальшивый оттенок.
Вот если бы я умер! Но мне только немного нездоровилось, как то часто случалось, и это ничего не меняло. Это защищало меня от школы, но отнюдь не от Кромера, который в одиннадцать ждал меня на рынке. И в материнской ласке тоже не было на этот раз ничего утешительного: она тяготила и причиняла боль. Вскоре я притворился, что снова уснул, и стал думать. Ничего не помогло, в одиннадцать мне нужно было быть на рынке. Поэтому в десять я тихо встал и сказал, что чувствую себя лучше. Это значило, как обычно в таких случаях, что я должен либо снова лечь, либо пойти в школу после обеда. Я сказал, что хочу пойти в школу. Я составил себе некий план.
Без денег мне нельзя было прийти к Кромеру. Я должен был заполучить принадлежавшую мне копилку. В ней было недостаточно денег, я это знал, далеко не достаточно; но что-то там было, а чутье говорило мне, что что-то все же лучше, чем ничего, и должно Кромера хотя бы задобрить.
У меня было скверно на душе, когда я на цыпочках крался в комнату матери и вытаскивал из ее письменного стола свою жестянку; но это было не так скверно, как вчерашнее. Сердцебиение душило меня, и лучше не стало, когда я внизу на лестнице с первого же взгляда обнаружил, что копилка заперта. Взломать ее оказалось очень легко, нужно было только порвать тонкую жестяную сеточку; но это действие далось мне с болью, лишь теперь я совершил кражу. Дотоле я только украдкой таскал сладости, конфеты, фрукты. А это была кража, хотя деньги были мои. Я чувствовал, как еще на шаг приблизился к Кромеру и его миру, как неудержимо качусь вниз, и закусил удила. Черт со мной, пути назад уже нет. Я со страхом пересчитал деньги, в жестянке они звенели так внушительно, а теперь в руке их было ничтожно мало. Там оказалось шестьдесят пять пфеннигов. Я спрятал копилку в нижней прихожей, зажал деньги в руке и вышел из дому – иначе, чем когда-либо выходил за эту дверь. Сверху кто-то позвал меня, как мне показалось; я поспешил прочь.
Было еще много времени, я крался обходными путями по улицам какого-то изменившегося города, под какими-то невиданными облаками, мимо домов, которые на меня глядели, и мимо людей, которые подозревали меня. По дороге мне вспомнилось, что один мой однокашник как-то нашел талер на скотном рынке. Я готов был помолиться, чтобы Бог совершил чудо и ниспослал мне тоже такую находку. Но у меня уже не было права молиться. Да и тогда копилка не стала бы снова целой.
Франц Кромер увидел меня издалека, но шел в мою сторону очень медленно, вовсе, казалось, не замечая меня. Приблизившись, он кивком велел мне следовать за ним и, не оглядываясь, спокойно пошел дальше, вниз по Соломенной улице и через мостик, и остановился только у последних домов перед какой-то стройкой. Там не работали, стены стояли еще голые, без дверей и без окон. Кромер оглянулся и вошел в дверной проем. Я – вслед за ним. Он зашел за стену, кивком подозвал меня и протянул руку.
– Принес? – спросил он холодно.
Я вынул из кармана сжатый кулак и вытряхнул деньги в его ладонь. Он пересчитал их еще раньше, чем отзвенел последний пятак.
– Здесь шестьдесят пять пфеннигов, – сказал он и посмотрел на меня.
– Да, – сказал я робко. – Это все, что у меня есть, слишком мало, я знаю. Но это все. Больше нет.
– Я думал, что ты умнее, – почти мягко укорил он меня. – Между людьми чести все должно быть по правилам. Я не возьму у тебя ничего, что не положено, ты это знаешь. Забирай свою мелочь! Тот – ты знаешь кто – не станет со мной торговаться. Тот заплатит.
– Но у меня же нет, нет больше! Это были мои сбережения.
– Это твое дело. Но я не хочу делать тебя несчастным. Ты должен мне еще одну марку и тридцать пять пфеннигов. Когда я их получу?
– О, ты, конечно, получишь их, Кромер! Сейчас я не знаю… возможно, скоро у меня будет больше, завтра или послезавтра. Ты же понимаешь, что я не могу сказать об этом отцу.
– Это меня не касается. Я не такой, чтобы кому-то вредить. Я ведь мог бы получить эти деньги еще до двенадцати, а я беден. Ты хорошо одет, и обед у тебя получше, чем мой. Но я ничего не скажу. Я лучше немного подожду. Послезавтра я тебе свистну, после двенадцати, и ты уладишь дело. Знаешь, как я свищу?
Он свистнул для моего сведения, я этот свист часто слышал.
– Да, – сказал я, – знаю.
Он ушел, словно я не имел к нему никакого отношения. Между нами была сделка, больше ничего.
Еще и сегодня, думаю, кромеровский свист испугал бы меня, если бы я вдруг снова услышал его. Отныне я слышал его часто, мне казалось, я слышу его всегда и непрестанно. Не было такого места, такой игры, такой работы, такой мысли, куда бы не проникал этот свист, от которого я зависел, который стал теперь моей судьбой. В мягкие, красочные дни осени я часто бывал в нашем садике, очень мною любимом, и какой-то странный порыв заставлял меня возвращаться к детским играм прежних эпох; я как бы играл мальчика, который был младше меня, был еще благонравен и свободен, невинен и защищен. Но в эти игры всегда, как ожидалось, и все-таки ужасающе внезапно, врывался откуда-то кромеровский свист и обрывал нить, разрушал фантазии. Я должен был идти, следовать за своим мучителем в скверные и мерзкие места, должен был отчитываться перед ним и выслушивать напоминания о деньгах. Все это тянулось, наверное несколько недель, но мне они казались годами, казались вечностью. Редко бывали у меня деньги, пятак или десять пфеннигов, утащенные с кухонного стола, когда Лина оставляла там рыночную корзинку. Кромер каждый раз ругал меня и обдавал презрением; это я хотел обмануть его и посягал на его законное право, это я обкрадывал его, это я делал его несчастным! Не столь часто в жизни беда подбиралась к моему сердцу так близко, никогда не чувствовал я большей безнадежности, большей зависимости.
Копилку я наполнил фишками и поставил на место, никто о ней не спрашивал. Но и это могло на меня свалиться в любой день. Еще больше, чем грубого кромеровского свиста, я часто страшился матери, когда она тихонько подходила ко мне – не затем ли, чтобы спросить о копилке?
Поскольку я не раз являлся к своему бесу без денег, он стал мучить и эксплуатировать меня другим способом. Я должен был на него работать. Если отец Кромера посылал его куда-то, Кромер отправлял меня туда вместо себя. Или он давал мне какое-нибудь трудное задание – проскакать десять минут на одной ноге, прилепить бумажку к одежде прохожего. Ночами я во сне продолжал испытывать эти муки и просыпался в холодном поту.
На какое-то время я заболел. Меня часто рвало и знобило, а по ночам бросало в жар и вгоняло в пот. Мать чувствовала, что что-то не в порядке, и всячески показывала мне свое участие, которое меня мучило, которому я не мог ответить доверием.
Однажды вечером, когда я уже лег, она принесла мне дольку шоколада. Это был отголосок прежних лет, когда я, если хорошо себя вел, часто получал на сон грядущий такие лакомства. И вот сейчас она стояла и протягивала мне шоколадку. Мне было так больно, что я смог только покачать головой. Она спросила, что со мной, погладила мои волосы. Я сумел только выдавить из себя: «Нет! Нет! Не хочу ничего». Она положила шоколадку на тумбочку и ушла. Когда она на следующий день стала меня об этом расспрашивать, я сделал вид, будто ничего не помню. Однажды она привела ко мне доктора, который осмотрел меня и назначил мне холодные омовения по утрам.
Мое состояние в то время было родом безумия. Среди порядка и мира, царивших в нашем доме, я жил в страхе и муках, как призрак, не участвовал в жизни остальных, редко забывался на час. С отцом, который часто раздраженно требовал от меня объяснений, я был замкнут и холоден.
Произведения
Критика