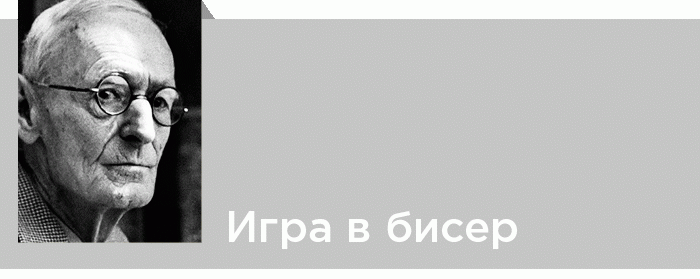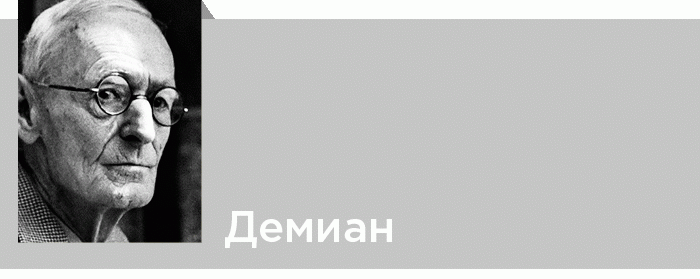Идея метакультуры в романе Г. Гессе «Игра в бисер»

Г. Ш. Хуцишвили
Проблема философского осмысления идеала интеллектуального творчества неразрывна с проблемой социальных продуктов теоретического мышления. Сегодня много говорят о необходимости гуманизации научного мышления и связанного с ней процесса гуманитаризации современной науки, дополняющего продолжающийся уже несколько десятилетий процесс методологизации науки. Осознание характера взаимосвязи данных процессов предполагает изучение любого объекта исследования как момента в динамике человеческой культуры, где причудливым, но необходимым образом переплетаются логическое и интуитивное, научное и художественное видение мира. Лишь путем доведения до высшей синтетичности рассмотрения объекта, которое может казаться (или даже оказаться) достаточным для специфических целей теоретической науки, можно надеяться на достижение диалектической полноты его охвата.
Развитие человеческой культуры, особенно в кризисные и поворотные моменты ее истории, сопровождается параллельным осознанием в различных сферах жизни общества фундаментальных идей, формирующихся неосознанно, но закономерно сначала на социальном уровне, а затем эксплицитно продолжающих свое существование и развитие на индивидуальном уровне мышления. Традиционно сложилось так, что там и тогда, где и когда ученые и специалисты не знают, как четко сформулировать, охватить, выразить идеи, и если идеи не укладываются в рамки подходов тех и других, то разработка и социализация их становится под силу лишь крупнейшим писателям-философам. Достигнув определенной степени зрелости, эти идеи (уже в некоторой авторской интерпретации) снова становятся социальным достоянием, а впоследствии, выполнив свою социальную функцию, постепенно деградируют, приобретая одновременно историческую и с течением времени «музейную» ценность.
30-е и 40-е годы XX столетия оказались необычайно продуктивными по части генерирования новых идей в области методологии науки. Именно в этот период зарождаются проекты унифицированной науки и унифицированного языка науки (Л. фон Берталанфи), развивается наука о знаковых системах (Ч. У. Моррис), и особенно ее ветвь — семантика как теория интерпретации знаковых систем (теория моделей А. Тарского), одновременно с углублением процесса математизации естествознания развивается метаматематика Д. Гильберта и вообще представление о метатеории и метанауке. И лишь как побочный продукт всех этих процессов воспринимается формирование идеала формального мышления как выражения формально-научного мировоззрения, продолжающего и усиливающего традиции неопозитивизма. Большинство из перечисленных направлений к концу 30-х годов находилось на стадии осмысления в «недрах» научного мышления, не успев еще стать зрелыми, социально воспринятыми идеями. Поразительно поэтому, что в этот период создавалось произведение, в котором главные тенденции развития формализованного, символизированного «свободного» мышления были блестяще синтезированы в идеализированной модели интеллекта будущего. Но еще важнее то, что это была уникальная и дерзкая попытка абсолютного синтеза, попытка охватить в единой и нерасчленимой картине всю специфику порожденной XX столетием формы интеллекта, увидеть ее в исторической перспективе и через призму философского осмысления культуры, в котором научное миропонимание играет существенную, но не исчерпывающую роль. Речь идет о романе Германа Гессе «Игра в бисер» («Das Glasperlenspiel»). Поскольку многие моменты процесса, нашедшего образное отражение в основной идее романа — идее игры в бисер (или, буквально, игры стеклянных бус), — не могли быть известны писателю непосредственно и оказались схвачены его интуицией лишь через многие опосредствующие звенья (ассоциации, аналогии, сравнения и т. п.), то остается удивляться его прозорливости и философской смелости его пера.
В центре романа (таковым его можно назвать весьма условно) — некоторый идеал интеллектуальности. Автор помещает его в не очень определенном, но и не слишком, как можно предположить, отдаленном мыслимом будущем. Это время, когда для свободного развития интеллекта не существует никаких внешних препятствий, когда интеллектуалам созданы идеальные условия для занятий, считавшихся ранее обременительными для общества. Высшая интеллектуальная элита живет обособленно в педагогической провинции Касталия, находящейся на финансовом содержании и под охраной государства (государство в романе не называется, но в нем легко угадывается дорогая сердцу писателя Швейцария). Для учебы, воспитания и дальнейшей жизни в Касталии по всему свету периодически отбираются отмеченные «печатью интеллекта» дети. Провинция строго соблюдает традиции и правила поведения, нарушители же оных лишаются права называться касталийцами и в качестве наказания возвращаются в мир, где их ожидают «пошлые» мирские занятия политикой, семьей, преподаванием, производительным трудом и т. п.
Вершиной и целью интеллектуальной жизни Касталии является Игра в бисер, абсолютно свободная и чистая игра воображения, отражающая рефлектированную в человеческой интеллектуализированной культуре идею абсолютного единства Вселенной. Основой возникновения Игры писатель считает главным образом синтез символических языков математики и музыки, достигающих универсальности, гармонии и совершенства в результате использования чисто символического способа мышления. Символичность в Игре доведена до предела, и возможности ее использования также доведены до предела: от любой произвольным образом заданной темы можно перейти к любой другой с помощью широкого диапазона средств (ассоциации, аналогии, логическая аподиктика и апоретика), причем в этом процессе ценится лишь внутренняя красота, гармоничность построения независимо от объективной значимости получаемого результата. На страже чистоты Игры в Касталии стоит Магистр Игры (Magister Ludi), избираемый из числа наиболее достойны касталийцев.
Все произведение Гессе — это описание жизни Магистра Игры Йозефа Кнехта, составленное якобы на основе писем и воспоминаний его современников и учеников. Не помнящий своих родителей и воспитанный в неродном доме Кнехт проходит путь от ученика касталийского Мастера Музыки, заметившего его способности, до Магистра Игры. Однако Кнехт вместо того, чтобы удовлетвориться достигнутым идеалом, которому он служил и который отстаивал всю жизнь, в результате своего очередного (и уже последнего) «пробуждения» приходит неожиданно к отрицанию этого идеала и порывает с Касталией и Игрой, предпочтя им роль скромного «светского» Учителя. В ней он пытается найти свое истинное призвание. В петиции к касталийскому Ордену Кнехт излагает причины, побудившие его сложить свои полномочия, раскрывает всю искусственность идиллического существования интеллекта, взращенного в тепличных, оторванных от «грубой реальности» условиях, всю иллюзорность защищенности Касталии от внешнего мира, от исторических бурь.
Однако Кнехт, являясь порождением этого духа чистой интеллектуальности, погибает, едва соприкоснувшись с внешним миром, как погибает и разрушается все созданное игрой чистого воображений. Пытаясь «заразить» ученика своими идеями, миропониманием, «борясь за его душу», Кнехт ошибочно принимает силу своего духа за силу своего тела, в чем также проявляется получающая трагический исход неприспособленность чистого интеллекта к реальным условиям существования. Правда, гибель Кнехта дает стимул его ученику к стоическому прохождению того пути, к которому готовил его учитель. Но в данном финале неправильно было бы искать какой-либо пафос и классическая идея бессмертия в самопожертвовании, вероятно, не совсем то, что стремится выразить автор, хотя этот же финал в различных вариантах повторяется в помещенных в конце произведения небольших эссе («Три жизни»). Символический финал, как и вся основная линия повествования, скорее утверждает принципиальную невозможность для выпестованного в искусственных условиях духа реализоваться в среде, естественной для всего порожденного ею и выросшего в ней, но чуждой и враждебной для культивированной интеллектуальности. Отражая сложное и неоднозначное отношение самого писателя к своему произведению, к его героям и выраженным в нем духовным ценностям, финал, логически неизбежный, уничтожает героя физически, но не уничтожает те ценности, которые он отстаивал. Неуничтожим дух интеллектуальности, он будет возрождаться подобно Фениксу, пока существует человечество, чтобы нести свой крест.
Мысль автора заключается в том, что дух знаний, дух творческого воображения и красоты не должен развиваться вне исторического контекста, вне человеческой истории. «Истина существует, дорогой мой! Но «учения», которого жаждешь ты, абсолютного, совершенного, единственного, умудряющего учения, не существует... Истина должна быть пережита, а не преподана».
Воплощенная в произведении Гессе неразрешимая для него дилемма представляет результат его собственных поисков жизненной цели и жизненного идеала. Замысел романа зрел в период, когда писатель, с трудом оправившись от вызванного первой мировой войной шока, с ужасом и тревогой наблюдал подготовку к новой всемирной бойне и сопровождавший ее разгул цинизма. Выдвинув проблему ответственности личности за сохранение культуры, Гессе в то же время избрал для себя затворническое существование (подобно существованию китайского мудреца, описанного им в романе). Не создав после «Игры в бисер» ни одного крупного произведения, Гессе любил повторять, что он в глубине души человек созерцания, а не действия. Однако истинная личность мыслителя проявляется в его работах, которые однажды появившись на свет, продолжают затем жить собственной жизнью и бороться.
Все же «Игра в бисер» гораздо более сложное произведение, чем это может показаться даже при внимательном чтении. Правда, сложность его отличается радикальным образом от сложности другого философского произведения Гессе — «Степной волк» («Der Steppenwolf», 1927). По сравнению с живым развитием повествования в «Степном волке», где реальность создаваемых автором образов и характеров сочетается с доходящей до мистики парадоксальностью, предельная конкретизация — с предельной обобщенностью, а доходящая порой до документальности непосредственность изложения событий — с возможностью для внимательного читателя вскрывать все новые смысловые «пласты» и обнаруживать все новые связи, «Игра в бисер» построена как педантичный и скучный отчет бесстрастного летописца о людях отрешенных, описание характеров огрублено до гротескности, а философский смысл лежит на поверхности романа в качестве ученической догмы. Не случайно первой реакцией неподготовленного читателя на «Игру в бисер» бывает, как правило, раздражение и даже недоумение по поводу присуждения роману в 1946 г. Нобелевской премии по литературе и причисления его к виднейшим философским произведениям XX столетия. Известно, что Томас Манн отмечал прежде всего сатирическую направленность романа и авторскую иронию по отношению к изображенному в нем, что было подтверждено самим Гессе.
Действительно, книга производит двоякое впечатление: с одной стороны, форма повествования представляет собой необычный и даже неприятный (но в конце концов это дело вкуса) способ передачи подлинно ценного содержания, с другой — она адекватна тому ироническому и гротескному настрою, который порождается самим содержанием. Оба впечатления, как ни странно, правильно отражают замысел произведения и не приходят в антагонистическое противоречие друг с другом. Однако, чтобы возвыситься до их синтеза, необходимо мысленно пройти тот путь, который прошел автор, создавая книгу. Осуществление данного процесса примерно соответствует тому, что в методологии научного исследования называется генетическим подходом.
Ирония Гессе — сложное и противоречивое отношение мыслителя к своему детищу, отражающее тот внутренний кризис, который наступает тогда, когда воссоздав наконец найденный с таким трудом духовный, нравственный идеал, построив модель идеального мира, отчетливо видишь всю непрочность построенного, всю если не сомнительность, то во всяком случае неочевидность его ценности для человечества. Это горькая ирония зрелости мыслителя, ирония, направленная главным образом на самого себя и обусловленная многими факторами, в том числе и тем, что народ, давший человечеству величайших гениев, достигший высочайшего гуманизма, может оказаться способным заразиться коричневой чумой самомнения, цинизма, жажды завоеваний и разрушения. Где же искать точку опоры, гарантию выживаемости всего того, что с такими усилиями создавалось поколениями? Гессевская ирония служит лучшим подтверждением того, что у него нет ответа на вопрос, который напоминает классическую Декартову проблему, только перенесенную в сферу нравственного поиска. Отсюда неприемлемость мнения тех, кто утверждает, что Гессе чуть ли не издевается над своими героями, обличая бессмысленность и бесполезность их побуждений и целей. Это не просто отрицание, преодоление в себе того, что необходимо преодолеть, это отрицание того, что тебе дорого, что стало частью тебя самого, что можно было бы назвать литературным самосожжением.
«Игру в бисер», относимую обычно к жанру утопического романа, правильнее было бы квалифицировать как антиутопию, первым ярким образцом которой считается увидевшая свет в начале 30-х годов книга Олдоса Хаксли «Отважный новый мир». Но и это далеко не адекватная характеристика произведения такого уровня.
Таким образом, изображение Касталии не имеет целью передать классический Парнас, или «Афинскую школу»; здесь налицо закономерное нарушение гармонии, ущербность идеала, иллюзорность превосходства. Это экстраполированная в будущее картина современной автору культуры, причем экстраполяция злая, гипертрофирующая наиболее спорные и даже отрицательные тенденции в ее развитии. Гессе, которого характеризовала глубокая неприязнь к политической сфере деятельности, называет современную ему эпоху «воинственным веком» и «фельетонистической эпохой», где место истинных культурных ценностей занимают суррогаты массовой «культуры» и журналистской прессы. Интересно, что в модели элитарной культуры будущего, по Гессе, вообще нет места для философии, это еще раз подтверждает глубину происходившей в писателе переоценке ценностей. Критика «фельетонистической эпохи» не в последнюю очередь направлена против философии истории, квалифицируемой писателем как фальсификация исторического исследования. «Историческое исследование предполагает в нас понимание того, что мы стремимся к чему-то невозможному и все же необходимому и чрезвычайно важному. Историческое исследование означает: погрузиться в хаос и все же сохранить в себе веру в порядок и смысл. Это очень серьезная задача... быть может, даже трагическая».
Итак, в «Игре в бисер» синтезирована динамическая модель культуры, исследование которой можно производить в различных измерениях, от культурологического до социально-психологического и общеметодологического. Не углубляясь в анализ всего комплекса затронутых Гессе сложнейших проблем, ограничимся философско-методологическим исследованием идеи Игры в бисер, поскольку именно она представляет для нас особый интерес. Можно проследить следующие истоки этой идеи. С одной стороны, в определенном смысле она представляет собой развитие идеи магического театра в «Степном волке», где как в волшебном зеркале отражен протест писателя против порабощения личности безликим и бездушным социальным чудовищем, где в художественной форме дано то, что в философской литературе получило название экзистенциального кризиса, с другой стороны (хоть на это и нет прямых авторских указаний), поскольку налицо более интеллектуализированный по сравнению с чисто художественной идеей магического театра характер игры в бисер, можно усмотреть воздействие на формирование идеи последней процесса формализации мышления, особенно формалистских взглядов Д. Гильберта в математике и Э. Ганслика относительно музыки (вспомним, что основой Игры Гессе называет синтез символических языков математики и музыки). В теории живописи в 20-30-х годах уже существовала концепция формализма; кроме того, в этот период бурно развиваются авангардистские направления в театре, живописи, литературе, абсолютизирующие значение условности, символики, конвенциональности и объявляющие себя прообразом культуры будущего. Во всяком случае после Ф. Кафки выражение «логика абсурда» уже не воспринималось в литературе как contradictio in adjecto, а у Гессе она вступает в полную силу уже в «Степном волке».
Несомненно влияние на Гессе Ф. Ницше, Э. Гуссерля, М. Хайдеггера и др.; черты некоторых из них можно усмотреть в героях романа, а черты их учений — в высказываниях этих героев. Известно, кроме того, что Гессе находился под глубоким влиянием восточной культуры, и философии в частности (на «Игре в бисер» стоит посвящение «Паломникам в страну Востока», а все повествование и особенно дополнения — философские стихи Гессе и «Три жизни» — буквально пронизаны созвучным характеру писателя духом буддистской культуры). Не случайно поэтому, что у Игры в бисер много общего с процедурой расшифровки коанов (с виду бессмысленных или противоречивых высказываний), которая вменялась в обязанности адептам дзен-буддизма, а последовательные «пробуждения» Кнехта соответствуют учению о сатори (или самадхи) как состояниях сверхсознательности, или «вспышки» осознавания, испытываемых субъектом-индивидуумом в процессе глобального его развития. В то же время в романе можно уловить намек и на то, что даже освященная тысячелетиями восточная мудрость жизни может быть доведена до абсурда.
И все же идея Игры в бисер не выводима из всех этих предпосылок, точно так же как она и не сводима к какой-либо конкретной области научного или художественного мышления. Многие исследователи справедливо указывают, что в Игре в бисер не следует усматривать что-либо предметное, «называемое», определимое, поскольку это прежде всего художественный символ, олицетворение свободной динамики человеческого духа, воображения, гармонии и универсальной связи всех вещей. Не случайно то обстоятельство, что в романе много разговора вокруг Игры, но нет ни одного ее конкретного описания. Тем самым подчеркивается образность, собирательный характер и метафоричность воплощения идеи.
Однако этим не исчерпывается значение Игры в бисер как результата философских поисков писателя: он показывает, что на всем лежит печать падения, что высшее достижение интеллекта в конце концов оборачивается тормозом дальнейшего развития. То, в чем потерявший себя интеллектуал-индивидуум Гарри Галлер (alias Герман Гессе) ищет спасительный путь к свободе, человеческому пониманию и исцелению от «социальных комплексов», порожденных антагонизмом личности и социума, в идеализированном мире будущего оборачивается для сознательного его адепта Йозефа Кнехта догмой, сковывающей породившие ее силы. Таким образом, авторская идея Игры в бисер как бы раздваивается: с одной стороны, вечный и неустранимый момент всплеска таланта, полета фантазии, созидания гармонии (в том числе каждое произведение Гессе, и особенно «Степного волка», можно рассматривать как прекрасный образец Игры в бисер; такой же характеристики, на наш взгляд, заслуживают «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова, «Алиса» Л. Кэролла и вообще любое произведение, построенное на игре разных смысловых планов, превращающих восприятие его в множество синтезируемых интерпретаций); с другой же стороны, выделившись в чистом виде из всего этого и рефлектируя о себе в замкнутой идеализированной среде, она медленно и незаметно, но неизбежно обращается в собственную противоположность.
Гессе описывает Касталию как колонию хранителей и наследников всего ценного, что было создано духовной культурой человечества; однако сами касталийцы, изучая каноны средневековой музыки, не имеют права писать музыку, а проводя литературоведческие исследования классических источников, не имеют права писать собственные сочинения, поскольку это считается не достойным их занятием. Вообще вся касталийская культура пронизана атмосферой вторичности, искусственности и келейности, причем настолько, что даже бенедиктинский монах отец Иаков (прототипом его послужил антагонист Фридриха Ницше известный историк Якоб Буркхардт), живущий в уединении и не меняющем в течение целого тысячелетия своего уклада монастыре, оказывается более здравомыслящим, сохранившим чувство реальности человеком, чем Магистр Игры Кнехт, для которого знакомство с ним становится настоящим откровением. Эта ситуации представляется еще одной гротесковой деталью в авторском замысле.
«Игра в бисер» содержит тонкую пародию на современные представления о чистоте интеллектуальной культуры, но не на культуру вообще. В то же время это одно из возможных направлений развития интеллектуальной культуры (в определенных чертах существующее уже сегодня), и в этом смысле «Игра в бисер» — роман-предупреждение: вырождающаяся культура не может вовремя осознать своего вырождения, и одним из средств превращения индивидуального «пробуждения» в социальное служит самопожертвование лидера и носителя культуры. Так, по-видимому, «расшифровывается» социальный аспект идеи романа. Вместе с тем очевидно, что деградировать способно лишь то, что достигло достаточной высоты развития (в силу самой специфики термина), что указывает на ценность любого подобного опыта. В эмоционально-поэтической форме эта «красота вырождения», бессилие духа в его стремлении охватить мир и призрачное «единство несоединимого» выражены в помещенных в конце книги прекрасных философских стихах Гессе.
Оставляя в стороне эмоциональную сторону вопроса и ограничиваясь философско-методологическим его рассмотрением, можно прийти к выводу, что в описании касталийской культуры, апофеоз которой есть Игра в бисер, у Гессе воплощена идея метакультуры.
Наиболее обширной, способной рефлексировать в себе системой культуры правомерно считать ту, которой соответствует некоторый тип человеческой цивилизации. В рамках подобной предельной гиперсистемы господствуют определенная форма рациональности, идеалы и нормы мышления, оценки и т. д., а охватываемые ею конкретные системы культуры при всех возможных различиях между ними способны служить друг для друга системами внешней оценки (метаобластям) благодаря использованию естественных семантических «рецепторов» языка, не говоря уже о высоких формах интуиции. В то же время для всей гиперсистемы культуры как целого трудно представить метаобласть; в качестве таковых вряд ли подошли бы и другие цивилизации, поскольку не только разделенные эпохами, но и сосуществующие цивилизации содержат обычно несоизмеримые социально-культурные моменты. Любая достаточно развитая, богатая и емкая система человеческой культуры находит средства для рефлектирования в самой себе, не требуя для самооценки какой-либо другой, внешней, объемлющей системы. Но это не означает способность подобной системы дать абсолютную оценку самой себе, построить знание о себе «в последней инстанции»: абсолютизация того, что понимаемо лишь из себя самого, безразличность и одновременно внутренняя завершенность того, что («по определению») все содержится в себе, порождала грандиозные и величественные философские тупики (достаточно вспомнить хотя бы «Науку логики» Гегеля). Никакая культура не способна полностью познать себя ни в самоутверждении, ни в самоотрицании. Рассмотрение системы культуры везде, где это возможно, не только изнутри, exparte interna, но генетически, в зарождении и структурном формировании, и динамически, во взаимодействии с другими системами и в процессе необходимого выхода за пределы самой себя, позволяет преодолеть подобную ограниченность, что ярко продемонстрировала методология Маркса.
Однако никакое обнаружение иерархических отношений и связей в процессе реального взаимодействия и развития культур само по себе еще не позволяет охарактеризовать понятие метакультуры. Под метакультурой следует понимать искусственно создаваемую систему культуры, внешнюю по отношению к некоторой другой системе культуры и имеющую целью построение специфических средств по оценке и описанию этой другой (объектной) культуры. В естественных, нормальных условиях потребности в метакультуре не возникает: любая предметная, живая культура способна к саморефлексии и поэтому служит «метакультурой» самой себя, так же как живой, естественный язык не нуждается во внешнем метаязыке и прекрасно находит средства для метаоценки в самом себе. Построение внешней метакультуры, помимо всего прочего, привело бы в конечном счете к построению для последней метаметакультуры, и так ad Infinitum.
[…]
Игра в бисер, как она практикуется среди касталийцев, представляет собой окончательный, доведенный до логического абсурда результат развития метакультуры. В ней допустимо одновременное применение таких средств, как черная и белая магия, астрология, заклинания, спиритизм, хиромантия, музыкальная гармония, диалектика, логический вывод. Ясно поэтому, что здесь уже сняты, лишены всякого значения вопросы об истине, рациональности, здравом смысле, соответствии действительности. Ясно, что это неизбежно должно произойти со всякой замкнутой на себя и любующейся собой элитарной культурой.
Подобная ситуация не так надуманна и далека от реальности, как может показаться. Одной из достигающих наибольшей степени абстрактности, всеобщности и свободы воображения областей интеллектуального творчества является, как известно, математика, в которой эти качества были доведены до апогея еще в конце XIX в. теорией множеств Г. Кантора. После вызванного обнаруженными на рубеже двух веков теоретико-множественными антиномиями великого кризиса оснований (в чем также можно усмотреть историческую и логическую, а в целом — диалектическую закономерность) началась эпоха наложения ограничений на те принципы, которыми обусловлена свобода математического мышления. Началось формирование альтернативных неклассических направлений в основаниях математики: логицизма, формализма, (нео-)интуиционизма и конструктивизма. Поскольку главной причиной свободного генерирования «сомнительных» объектов была достаточность для классической теоретико-множественной математики критерия отсутствия противоречия, то основные ограничения пришлось наложить на это условие. «В частности, интуиционисты заявляют, что отождествление существования с невозможностью противоречия означало бы деградацию математики к пустой игре» (см.: Френкель А., Бар-Хиллел И. Основания теория множеств. М., 1966. С. 253). Вместе с тем пророческими оказались и слова Гильберта о том, что никто не сможет изгнать математиков из рая, который создал им Кантор: математическое мышление продолжает развиваться свободно и неограниченно во всех областях, кроме граничащих с логикой и метаматематикой (например, в новых математических дисциплинах — теории категорий и теории топосов — никого уже не беспокоит существование там антиномий, аналогичных теоретико-множественным).
Следует отметить, что в современной науке наблюдаются тревожные симптомы переоценки возможностей использования математического языка при решении многих традиционно нематематических проблем. Волна формализаций захлестнула лингвистику, биологию, социологию и другие науки, оперирующие со сложными динамическими системами. Причем формализация все чаще приобретает характер самоцели, когда она обусловлена не внутренними потребностями научных областей, а скорее стремлением редуцировать неудобное и «устаревшее» содержание последних к более удобному и «передовому» формальному миропониманию. Языки науки, т. е. частично или целиком искусственно культивируемые для целей научного мышления выразительные средства, начинают приобретать характер онтологизированной догмы, в результате чего сама онтология парадоксальным, но неизбежным образом релятивизируется.
Хорошо известно, что мистифицирование математики (которое, кстати, тоже предполагало определенное представление о рационализации) происходило со времен древних иудеев и пифагорейцев; каббала, мистика чисел создали вокруг этой науки ореол таинственности, который не удается развеять до сих пор. Ю. П. Вигнер, например, считал эффективность математики граничащей с мистикой; такого же мнения придерживался историк и философ математики Маннури и др. В то же время «многие выдающиеся математики — от Сильвестра до Пуанкаре — сравнивали математику с музыкой» (Там же. С. 257). Если даже выйти за пределы образных сравнений, любые сравнения все же принадлежат сфере отношений (которые безразличны к образующим их терминам), в то время как обнаружение или построение связей означает осуществление синтеза (что и предполагает «методология» «Игры в бисер»). Если с мистикой вопрос ясен ввиду иррациональности ее и несовместимости с научным мышлением, то относительно музыки дело обстоит сложнее. Наличие, с одной стороны, соразмерности, пропорций, упорядоченности, симметрии и т. п. в структуре музыкального произведения, открывающее путь к применению математического языка и математических методов в музыке, и существование, с другой стороны, эстетики и гармонии в математическом рассуждении, приводят к мысли о возможности выделения момента, общего для обеих сфер и лежащего в основе их интуитивной, нерационализированной (во всяком случае на сегодняшний день) сравнимости. Очевидно вместе с тем, что грубая редукция в каких-либо аспектах музыки к математике или наоборот не может не разрушить того, в силу чего каждая из них ценна для человечества. Здесь необходимо соблюдение элементарных условий межкультурного моделирования (являющего собой качественно более сложный по сравнению с междисциплинарным уровень), которые только начинают подвергаться экспликации. В «Игре в бисер» уже вырисовываются черты грандиозной проблемы диалога художественного и теоретического мышления (реально осуществляющегося в современной гиперсистеме культуры), исследование которой затруднено ввиду фундаментального различия между данными сферами.
Развитие теоретической науки связано с катастрофическими ломками представлений, каких не знает развитие изобразительного искусства, художественной литературы и даже не знала старая эмпирическая наука (наиболее простая схема этого процесса дана в «Структуре научных революций» Т. Куна). Объясняется это, на наш взгляд, в частности, тем, что несмотря на многообразие и изменчивость форм теоретического мышления, любая из них ориентирована на консервацию своей структуры, обеспечивающую инвариантность критериев понимания, интерпретации, оперирования с информацией, мирооценки «изнутри». То что определяет силу теоретической науки, ее преимущество перед другими формами деятельности человека, в конце концов обращается в ее слабость и влечет необходимость коренного обновления; среди факторов, определяющих теоретическое мышление «между обновлениями», можно выделить язык науки, логику науки и парадигмы науки, в совокупности обусловливающие специфический смысл «научности» и «теоретичности». В рамках последнего мышление постепенно замыкается, генерируя социально-культурную ограниченность и блокируя диалог. Ситуация блокированности проявляется как невозможность для теоретического субъекта выйти в процессе мышления за пределы конструкций определенного типа (что квалифицируется им самим как строгость и последовательность собственного мышления), а выход за эти пределы эквивалентен для него коренной перестройке принципов (и нарушению правильности, «нормальности») мышления. Если нормы научного сообщества слишком довлеют над сознанием его членов в форме догм или даже тотемов, то необходимость обновления на основе критического пересмотра оснований заявляет о себе в виде апорий, парадоксов, антиномий, аномальных фактов и т. п., реакции на которые служат симптомами несознаваемых невротических явлений в «нормальной» науке и которые невозможно преодолеть в рамках породившей последнюю структуры мышления. Преодоление подобных явлений возможно лишь в ходе качественных изменений в этой структуре. Вместе с тем замыкание в процессе развития теоретического мышления «нормально» лишь в том смысле, что оно возникает объективно и закономерно, и разблокироваться для теоретического мышления было бы равносильно потере теоретичности (эту ситуацию естественно назвать парадоксом замкнутости теоретического мышления). Раскрываемый философско-культурологическим анализом все усиливающийся процесс блокирования современного теоретического мышления не только затрудняет диалог реальных культур и социальный контроль над последствиями научно-технического прогресса, но в конечном счете грозит вылиться в изолированную метакультуру.
Судьба любой ценной идеи такова, что каждый имеет возможность, вернее, не имеет другой возможности, как интерпретировать ее по-своему, ассоциируя ее с близким и ценным для него комплексом идей и символов и порождая тем самым новый смысл. В этом заключается потенциальная бесконечность смысла текста, о которой писал М. М. Бахтин (см.: Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979). Игра в бисер — не исключение: если это символ, то следует рационализировать то, что он символизирует, если это обобщающая идея, то необходимо дойти до того, что она обобщает; без этого невозможно высветить ее генетический и прогностический момент. Не только среди многозначных художественных символов, но даже в мире однозначно определенных математических выражений неограниченное генерирование смысла необходимо для коммуникации и самого существования какого-либо символа: без него он вообще не может быть кому-либо адресован.
Л-ра: Философские науки. – 1988. – № 12. – С. 43-52.
Произведения
Критика