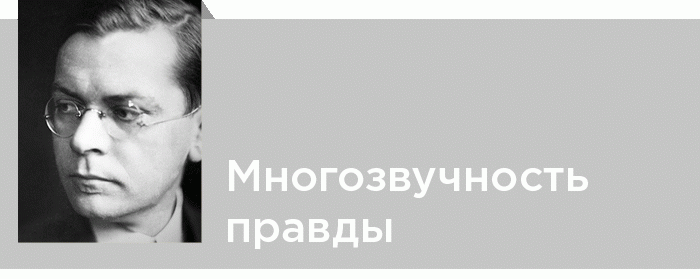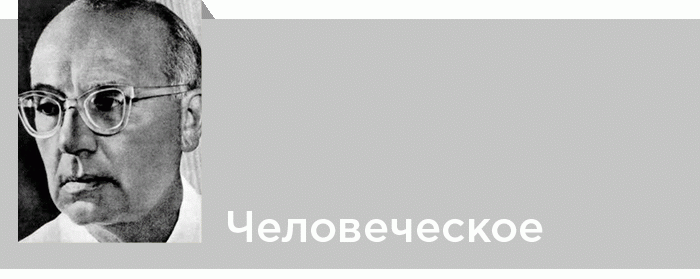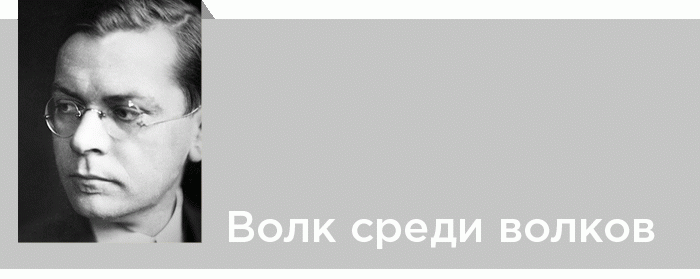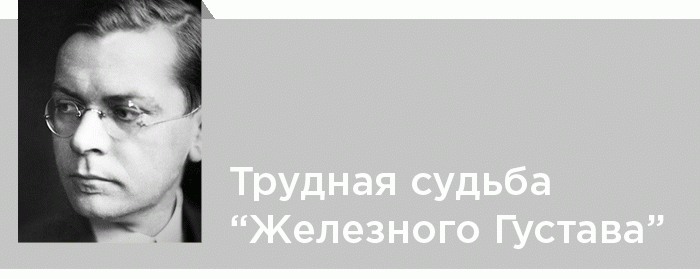Ганс Фаллада. Каждый умирает в одиночку
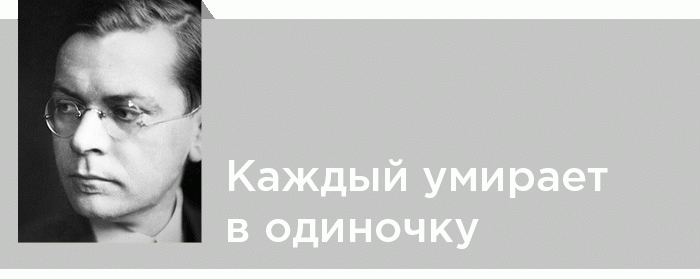
(Отрывок)
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ.
OTTO И АННА КВАНГЕЛЬ
Почта приносит печальное известие
Почтальон Эва Клуге медленно поднимается по лестнице дома № 55 по Яблонскиштрассе. Она замедляет шаг не только потому, что уже давно разносит почту и устала, но еще и потому, что в сумке у нее одно из тех писем, которые ее так угнетают, и сейчас ей предстоит подняться на третий этаж и отдать его Квангелям.
Но сперва надо вручить повестку Перзике, которые живут этажом ниже. Сам Перзике не то амтсвальтер, не то политлейтер, не то еще какой-то нацистский чиновник, Эва Клуге до сих пор путает все эти должности. Во всяком случае, войдя к Перзике, надо сказать «хейль Гитлер!» и не болтать лишнего. Впрочем, и повсюду так, редко с кем Эва Клуге решается поговорить по душам. Эва сторонится политики, она простая женщина, и как всякая женщина считает, что не для того рожаешь детей, чтобы их убивали. И еще известно ей, что дом без хозяина — сирота. Ничего у нее сейчас не осталось — пи сыновей, ни мужа, ни своего, гнезда. А тут и рта раскрыть не смей, вечно оглядывайся, да еще разноси эти проклятые письма полевой почты, напечатанные на машинке и отправленные полковым адъютантом.
Эва Клуге звонит, говорит «хейль Гитлер!» и вручает старому пропойце Перзике повестку. На лацкане у него — свастика и значок вермахта.
— Ну, что хорошенького скажете? — спрашивает он. Она отвечает: — А вы разве не слышали чрезвычайного сообщения?
Но Перзике не удовлетворен ее ответом.
— Эх, барышня, или, верней, мадам, слышать-то мы слышали, да только, что это вы, как в воду опущенная.
Такие известия надо с радостью сообщать! И, главное, повторять всем, у кого нет радио, — это заткнет глотку последним паникерам, пусть не психуют. Со вторым блицкригом управились, а теперь прямым сообщением в Англию! Каких-нибудь два-три месяца — и англичанам каюк. А там увидишь, как мы с нашим фюрером заживем! Пусть другие нам сапоги лижут, мы станем хозяевами во всем мире! Ну-ка, девушка, входи, раздавим бутылочку! Амалия, Эрна, Август, Адольф, Бальдур — сюда! Сегодня гуляем, сегодня работу побоку, сперва промочим глотку, а там махнем наверх, к старой жидовке, — пусть, стерва, нас кофе с булочками угощает. Теперь уж я ей спуску не дам!
Пока господин Перзике, в кругу своих семейных, все сильнее распаляется от собственных речей и первых рюмок водки, Эва Клуге поднимается на следующий этаж и звонит к Квангелям. Письмо она держит наготове, чтобы сразу отдать и скорей дальше. На этот раз ей повезло, дверь открыла не жена, с которой она почти всегда обменивалась несколькими любезными словами, а муж, человек с острым птичьим профилем, тонкими губами и холодным взглядом. Не сказав ни слова, взял он письмо у нее из рук и захлопнул дверь перед самым ее носом, словно она воровка какая.
Эва Клуге пожимает плечами и спускается вниз. Есть ведь такие люди, сколько времени уже носит она почту на Яблонскиштрассе, и ни разу он не сказал ей ни слова. Ну, и бог с ним. Такого не переделаешь. И Эва вспоминает собственного мужа, он попрежнему спускает все деньги в пивных да на скачках, и домой является только когда уж совсем на мели, а мало ли она с этим боролась.
Перзике позабыли закрыть дверь, и на лестницу доносится звон стаканов и шумное празднование победы. Эва Клуге осторожно защелкивает дверь на замок и спускается вниз. Она думает о том, что сообщение это и в самом деле радостное; скоропалительная победа над Францией приблизит мир. Тогда и ее сыновья вернутся домой.
Но надежды ее омрачаются неприятным сознанием, что тогда окончательно возьмут верх типы вроде Перзике, а чувствовать таких людей над собой господами и не сметь пикнуть и высказать то, что против них накипело, в этом мало радости.
Невольно вспоминается ей, между прочим, и человек с птичьим профилем, которому она только что отдала письмо полевой почты, вспоминается и старая еврейка Розенталь, верхняя жилица, у которой две недели тому назад увели в гестапо мужа. Как не пожалеть такую женщину! Прежде Розенталям принадлежал бельевой магазин на Пренцлауэраллэ. Магазин «аризировали», а теперь взяли мужа, хотя ему, верно, уже под семьдесят. Никому эти старики зла не делали, напротив, всегда отпускали в кредит; бывало, не на что ребятишкам белье купить, в долг верили. И товар у Розенталей был не хуже и не дороже, чем в других лавках. Нет, у фрау Клуге никак не укладывается в голове, что такой человек, как Розенталь, хуже, чем Перзике, потому, что он еврей. И сидит теперь старуха одна в квартире и боится на улицу нос показать. Только когда стемнеет, нацепит она свою сионскую звезду и идет за покупками. Чего доброго голодает. Нет, думает Эва Клуге, хоть мы и десять Франций победим, а все-таки у нас неладно…
С этими мыслями доходит она до соседнего дома и там продолжает разносить письма.
Между тем, мастер Квангель вошел с письмом в комнату и положил его на швейную машину: — Вот! — только и сказал он. Право распечатывать письма полевой почты он всегда предоставлял жене, зная, как дрожит она над их единственным сыном Отто. Сейчас Квангель стоит против нее, прикусив тонкую нижнюю губу, и ждет, когда засветится радостью ее лицо. На свой лад он очень любит жену, без лишних слов, без нежности, молча.
Она вскрыла письмо. На минуту лицо ее действительно озарилось радостью, затем померкло, когда она увидела настуканные на машинке строчки. Выражение стало испуганным, она читает все медленнее и медленнее, словно боясь каждого следующего слова. Муж наклонился вперед и вынул из карманов руки. Он крепко впился зубами в губу, чуя что-то недоброе.
В комнате совсем тихо, слышно только прерывистое дыхание Анны. И вдруг крик — никогда еще муж не слыхал у нее такого жалобного крика. Вся она как-то никнет и, стукнувшись лбом о катушки на машине, валится головой на шитье, прямо на злополучное письмо.
Квангель бросается к ней, с необычной для него живостью кладет ей на спину свою большую, заскорузлую руку. Он чувствует, как жена дрожит всем телом. — Анна! — говорит он. — Анна, что с тобой? — Минутку он ждет, потом собирается с духoм: — С Отто беда? Ранен, скажи? Тяжело?
Дрожь не унимается, но Анна не произносит ни слова. Она как будто и не хочет поднять голову, чтобы взглянуть на мужа.
Он смотрит на ее затылок. Как поредели у нее волосы с тех пор, как они поженились. Оба они уже старики. Если с Отто действительно что стряслось, нет у нее никого, нет и не будет, некого ей любить, кроме мужа, а он сам сознает, что особенно любить его не за что. Никогда не находил он нужных слов, никогда не умел сказать ей, как она ему дорога. Даже сейчас не может он погладить, приласкать, утешить ее, он только кладет свою тяжелую руку на ее редкие волосы, закрученные на макушке в пучок, тихонько приподнимает ей голову, робко спрашивает: — Анна, ну, скажи, что они там пишут?
И хотя ее глаза совсем близко от его глаз, она на него не смотрит, веки полузакрыты, лицо изжелта-бледное, обычный румянец пропал, и скулы обтянулись. Ему чудится, что он смотрит в лицо покойнице. Только щеки и губы дрожат, как и все тело, охваченное скрытым, — внутренним ознобом.
Квангель всматривается в это родное, близкое, а сейчас такое чужое лицо, он чувствует, как все сильнее колотится у него сердце, он сознает свою полную неспособность хоть немножко ее утешить, и его берет страх. Нелепое, смешное чувство, особенно теперь, когда она испытывает такую глубокую боль, — он боится как бы за тем отчаянным криком не последовал другой, еще более отчаянный. Он всегда любил тишину, он считал, что Квангелей в доме не, должно быть ни слышно, ни видно, а тут вдруг — не сдержать своих чувств, да разве это можно! Но даже и сейчас не в силах он сказать ничего и только беспомощно повторяет: — Что же там написано? Скажи, Анна!
Перед ним распечатанное письмо, но взять его он не решается, — для этого пришлось бы отпустить голову жены, а тогда Анна снова повалится головой на машину, и так у нее уже на лбу две ссадины. Сделав над собой усилие, он снова спрашивает: — Что случилось с Оттохен?
Это ласковое имя, которым отец почти никогда не называл сына, словно вернуло Анну из мира печали к действительности. Она судорожно раскрыла рот, будто ей нехватает воздуха, и подняла на мужа глаза, обычно такие голубые, а теперь тусклые, выцветшие. — Что случилось с Оттохен? — прошептала она почти беззвучно. — Да что может с ним случиться? С ним уже ничего не может случиться, нет больше Оттохен, вот и все!
У Квангеля вырвалось только краткое «О-о!» — тяжкий стон, из самой глубины сердца. Сам того не сознания, он выпустил голову жены и взял письмо. Беспомощно глядит он на строчки, он не в силах ничего прочитать.
И Анна выхватывает письмо у него из рук. Теперь онасама не своя. С яростью рвет она письмо на клочки, на клочочки, на крошечные лоскутки и гневно кричит ему в лицо: — Нашел что читать, эту мерзость, эту наглую ложь, то, что они всем пишут, — умер на поле брани за фюрера и немецкий народ, солдатом был образцовым! Понадобилось тебе их вранье читать! Да ведь мы с тобой отлично знаем, что Оттохен больше всего любил возиться со своими радиоприемниками и что в солдаты он шел со слезами! Как часто, еще во время отбывания воинской повинности, говорил он мне, что охотно дал бы отрубить себе правую руку, только бы от всех от них избавиться. И вдруг — образцовый солдат и пал за фю-рера! Ложь, сплошная ложь! Вот что ваша проклятая война наделала! Вот что вы наделали, ты и твой фюрер!
Она стоит перед ним, невысокая, пожилая женщина, глаза ее мечут молнии.
— Я и мой фюрер? — бормочет он, потрясенный ее обвинением. — Как это он вдруг моим фюрером стал, когда я не в их партии, а только в рабочем фронте, а туда всех загоняют, и выбирали-то мы его всего один раз, и то с тобой вместе.
Он говорит обстоятельно, с обычной медлительностью, не столько, чтобы оправдаться, сколько для того, чтобы точно восстановить факты. Он никак не может взять в толк, почему жена вдруг накинулась на него. Они всегда жили душа в душу…
Но она запальчиво продолжает: — Ты глава в доме, ты все решаешь, и все делается по-твоему. Нет такой мелочи в доме, в которую бы ты не вникал, хотя бы это был закут для картошки. А в таком важном деле сплоховал? Да что с тебя взять, ты тихоня, тебе бы только сидеть в своем углу, да чтобы никто не беспокоил. Куда люди, туда и ты! Все кричали: «Фюрер приказал, его воля — закон!» И ты, как баран, побежал за другими. А мы побежали за тобой! И вот Оттохен убит, и никакой фюрер не вернет его мне, и ты тоже не вернешь!
Он слушал не перебивая. Он всегда избегал ссор, да к тому же понимал, что это говорит не она, а ее горе. Он, пожалуй, был даже рад, что она накинулась на него, что горе еще не поглотило ее целиком. На все обвинения он сказал только: — Кому-нибудь из нас придется сообщить Трудель.
Трудель была невестой их сына. Родителей его Трудель называла «мамочкой» и «отцом». По вечерам она часто захаживала к ним, даже и теперь, когда Оттохен был на фронте, и болтала со стариками. Днем она работала на фабрике, где шили обмундирование для армии.
При упоминании о Трудель Анна Квангель ожила. Она взглянула на стенные часы и спросила:
— А ты успеешь до своей смены?
— Сегодня мы работаем с часу до одиннадцати, — ответил он, — успею.
— Хорошо, — сказала она, — тогда ступай, но только позови ее сюда и ничего не говори об Оттохен. Я сама скажу. Обед будет готов к двенадцати.
— Ну, так я пойду и скажу ей, чтоб зашла вечером, — ответил он, но сам не двинулся с места. Он стоял и не отрываясь смотрел в ее лицо, как оно пожелтело, осунулось. Она тоже подняла глаза, и несколько мгновений оба молча смотрели друг на друга — два человека, которые все эти тридцать лет прожили душа в душу, он — всегда угрюмый и замкнутый, и его жена, вносившая в их уединение немного тепла и света.
Так они молча смотрели в лицо друг другу, но сказать им было нечего. Наконец он кивнул головой и вышел.
Она слышала, как хлопнула парадная дверь. Убедившись, что он совсем ушел, она вернулась к швейной машине и подобрала все клочочки этого злосчастного письма. Попробовала сложить их вместе, но вскоре поняла, что это займет слишком много времени, а ей надо было прежде всего приготовить мужу обед. Тогда она тщательно собрала в конверт и спрятала в молитвенник все обрывки. Ей хотелось на досуге, во вторую половину дня, когда Отто уйдет надолго, подобрать все кусочки и склеить письмо. Пусть это глупая ложь, пусть подлая ложь, но ведь больше ей ничего не осталось от сына. Нет, надо спрятать письмо и показать его Трудель. Может быть, тогда польются слезы, пока же сердце жжет, как огнем. Хоть бы заплакать!
Она сердито тряхнула головой и пошла к плите.
Бальдур Перзике высказывается
Когда Отто Квангель проходил мимо квартиры Перзике, оттуда неслись крики шумного веселья, вперемежку с возгласами «хейль, хейль, победа!» Квангель быстро сбежал вниз, чтобы не столкнуться ни с кем из этой компании. Уже десять лет жил он с ними в одном доме, но с первых же дней старался не встречаться с этой семьей, еще тогда, когда сам Перзике держал третьеразрядный трактир и едва сводил концы с концами. Теперь Перзике пошли в гору, старик занимал всякие должности в нацистской партии, оба старшие сына были эсэсовцами, и деньги у них не переводились.
Тем больше оснований их остерегаться. Так живут только те, кто в милости у нацистов, а чтобы заслужить их милость, надо оказывать им услуги. А оказать нацистам услугу, значит кому-то повредить, к примеру, донести: такой-то слушает заграницу. Квангель уже давно хотел забрать из комнаты Отто радиоприемник и поставить в подвал. Времена такие, что лишняя предосторожность не мешает, все теперь шпионят друг за другом, а гестапо шпионит за всеми. Концентрационный лагерь в Заксенхаузене разрастается с каждым днем. Без радио вполне можно обойтись, да Анна не соглашается убрать. Она все еще живет по поговорке: «Коль совесть чиста, спи спокойно до утра». Ну, кому теперь какое дело до твоей совести, когда и раньше с ней не очень-то считались?
Поглощенный этими мыслями, Квангель поскорее спустился с лестницы и вышел на улицу.
В квартире Перзике все еще стоял шум и гам. Дело в том, что гордость семьи, Бруно, который в честь Шираха звался теперь Бальдуром и даже рассчитывал, при связях отца, попасть в «Напола» — так вот этот самый Бальдур заинтересовался в газете «Фелькишер беобахтер» одним снимком. На снимке изображены фюрер и рейхсмаршал Геринг. Внизу подпись: «При получении известия о капитуляции Франции». И вид у обоих подходящий: жирное самодовольное лицо Геринга расплылось в улыбку, а фюрер от восторга хлопает себя по ляжкам.
Перзике обрадовались и захохотали, как и те двое, на снимке, но Бальдур спросил: — Ну, а вас здесь ничего не удивляет?
Все выжидающе смотрят на него. Они так убеждены в умственном превосходстве этого шестнадцатилетнего всезнайки, что никто не решается открыть рот.
— Ну-ка сообразите! Снимок сделан фоторепортером. Что ж, он тут как тут и оказался, когда было получено известие о капитуляции? Известие это, должно быть, пришло по телефону или через курьера, а может быть, даже его привез французский генерал, а на снимке ничего такого не видно. Стоят себе вдвоем в саду и радуются…
Семейные Бальдура все еще молча пялят на него глаза. Лица их отупели от напряженного внимания. Старик Перзике охотно налил бы себе еще стаканчик, но пока Бальдур говорит, не решается. Он по опыту знает, на какие гадости способен Бальдур, если недостаточно почтительно слушают его разглагольствования на политические темы.
Сын между тем продолжает: — Значит, это военная хитрость, снимок сделан совсем не при получении известия о капитуляции, а раньше. Ну, а теперь посмотрите-ка на фюрера, как он радуется! У него уже давно Англия на уме, он думает о том, как мы англичанам всыпим. Нет, тут все подстроено, начиная с подписи и кончая хлопаньем по ляжкам. Это называется дураков за нос водить.
Теперь все семейство так глядит на Бальдура, будто они как раз те самые дураки, которых полагается водить за нос. Скажи это не Бальдур, а чужой — они донесли бы на него в гестапо.
А Бальдур не унимается: — Вот этим-то и велик наш фюрер: никому не открывает он своих карт. Все думают, он радуется победе над Францией, а он, может быть, уже готовит корабли для высадки на Британские острова. Вот чему мы должны учиться у фюрера. Нечего каждому как на ладони выкладывать, кто мы и что задумали!
Все радостно поддакивают, наконец-то они как будто уразумели, к чему клонит Бальдур.
— Ну вот, обрадовались! — сердито говорит Бальдур. — А сами что делаете! С полчаса назад я собственными ушами слышал, как отец говорил почтальонше, что стребует с верхней жилицы, старухи Розенталь, кофе с булочками.
— Ах, ты об этой старой жидовской харе! — говорит папаша Перзике, однако в голосе его все-таки звучит смущение.
— Ну да, если с ней что и случится, никто шуму не подымет, соглашается сын. — Только не к чему о таких вещах наперед с людьми болтать. Знай про себя и помалкивай. Посмотри на жильца, что живет над нами, на Квангеля. Из него слова не вытянешь, а я уверен, что он все на ус мотает и доносит, куда следует. Вот донесет, что Перзике не умеют держать язык за зубами, что они ненадежны, что на них нельзя положиться, — и нам крышка. Тебе, папаша, в первую голову. А я палец о палец не ударю, чтобы выцарапать тебя из лагеря или из Моабита, или из Плэце, словом оттуда, куда тебя упрячут.
Все молчат. И даже Бальдур, при всей своей самонадеянности, чувствует, что хватил через край и что молчание не всегда означает согласие. Поэтому он тут же прибавляет, чтобы перетянуть на свою сторону хотя бы младшее поколение: — Мы все хотим добиться большего, чем отец, а как нам выйти в люди? Только через нашу национал-социалистскую партию. Вот мы и должны брать пример с фюрера: водить людей за нос, в глаза улыбаться, а потом, за спиной, когда все и думать позабудут, сделать свое дело — и к сторонке. В национал-социалистской партии должны так считать: Перзике на все готовы, на все решительно!
Он опять глядит на снимок со смеющимися Гитлером и Герингом, кивает головой и наливает стаканчик в знак того, что поучения на политическую тему окончены. — Ну, чего, папаша, губы надул, — обращается он к отцу, — сердишься, что я с тобой на чистоту поговорил?
— Да ведь тебе только шестнадцать лет, и ты мне сын… — начал было обиженный старик.
— А ты мне отец, да что из того, когда я тебя только пьяным и видел, где уж тебе на особое почтение рассчитывать, — перебивает его Бальдур под общий хохот: все опять на его стороне, даже вечно запуганная мать!
— Брось, папаша, еще в собственной машине покатаешься, каждый вечер шампанское лакать будешь, пока вволю не налакаешься.
Отец опять собирается возразить, но на этот раз против шампанского, шампанскому, мол, далеко до водки. Но Бальдур перебивает его, понизив голос: — Идея у тебя, папаша, прекрасная, но обсуждать ее я предпочитаю в тесном семейном кругу, У Розенталь, пожалуй, и вправду есть чем поживиться, не одним кофе с булочками. Только надо мне сперва обдумать это дело, чтобы его тонко повести. А то как бы нас не опередили те, с кем трудно тягаться будет.
Он понизил голос и под конец говорит шопотом. Опять Бальдур Перзике добился, чего хотел, — всех перетянул на свою сторону, даже отца, хотя тот сперва и надулся. И Бальдур продолжает: — За победу над Францией! — я при этом он со смехом хлопает себя по ляжкам, и все понимают, что подразумевает он совсем не то, что говорит, а старуху Розенталь.
И вот они снова галдят и чокаются, и дуют водку рюмку за рюмкой. Ну, и здоровы же выпить бывший трактирщик с детьми!
Человек по имени Боргсхаузен
Мастер Квангель вышел на Яблонскиштрассе и сразу же наткнулся на Эмиля Боркхаузена, который как всегда околачивался у парадного. Казалось, Эмилю Боркхаузену только и дела было, что околачиваться там, где можно поглазеть и послушать. И война его не изменила. Всех погнала она — кого на фронт, кого на принудительную работу, а Эмиль Боркхаузен по прежнему слонялся без дела.
Долговязый, сухопарый, в обтрепанном костюме, весь какой-то вылинявший, стоял он у парадного и уныло пялил глаза на Яблонскиштрассе, в этот час почти безлюдную. Увидев Квангеля, он оживился, подошел и протянул ему руку. — Куда это вы собрались, Квангель? Па фабрику вам еще рано.
Квангель, сделав вид, что не заметил протянутой руки, чуть слышно пробормотал: — Некогда мне… — и тут же пошел дальше и сторону Пренцлауэраллэ, Только этого назойливого болтуна еще не хватало!
Но отделаться от Боркхаузена было не так-то легко. Он хихикнул и сказал: — Ну, нам с вами, выходит, по пути! — и прибавил, когда Квангель, упорно глядя себе под ноги, зашагал дальше: — Понимаете, доктор прописал мне от запоров моцион, а шататься одному скучно!
И Боркхаузен принялся подробно рассказывать, чего только он не перепробовал от запоров. Квангель не слушал. Его занимали две мысли, которые все время вытесняли одна другую: то, что у него больше не было сына, и то, что Анна сказала ему «ты и твой фюрер». Кван-гель сознавал, что никогда не чувствовал к сыну настоящей отцовской любви. С самого рождения ребенка ощущал он его как помеху в своей спокойной жизни и в своих отношениях с Анной. Если теперь он и чувствовал горе, то только потому, что беспокоился за Анну, как она воспримет эту смерть, что изменится в их жизни. Ведь сказала ему Анна «ты и твой фюрер».
Это не так. Гитлер не был его фюрером, Анна могла бы с таким же успехом сказать это и о себе. Оба они считали, что воз застрял в грязи, а фюрер его вытащил, ибо после того, как прогорела скромная столярная мастерская Квангеля, он четыре года был безработным и только в 1934 году поступил мастером на большую мебельную фабрику. Теперь он еженедельно приносил домой свои сорок марок. Этого им хватало.
Но в нацистскую партию они все же не вступили. Во-первых, им было жалко денег на членские взносы, и так уже выжимали все соки — на зимнюю помощь, на всяческие сборы, на рабочий фронт. А тут еще навязали ему на фабрике должность по рабочему фронту, это тоже было одной из причин, почему они не вступили в национал-социалистскую партию. Ибо здесь он на каждом шагу убеждался, какую делают разницу между просто немцами и нацистами. Последний нацист был для них дороже самого порядочного немца. Кто стал нацистом, тому все дозволено: не так-то легко до него доберешься. У них это называется стоять друг за друга.
А мастер Отто Квангель стоял за справедливость. Для него всякий человек был человеком. В мастерской он постоянно сталкивался с тем, что с одного строго взыскивали за малейшую погрешность в работе, а другому спускали всякий брак. И каждый раз это снова возмущало Квангеля. Он яростно кусал губы, — будь его воля, давно бы отказался он от своей чиновничьей должности по рабочему фронту.
И Анна это отлично знает, а потому не имеет она права бросаться такими обвинениями, как «ты и твой фюрер»! Он ведь не Анна, ему нельзя иначе. Господи боже мой, он-то понимает, что при ее скромности, при всей ее покорности означает такая перемена. Всю жизнь она мыкалась по чужим людям: сперва в деревне, потом, в городе, всю жизнь как раба безответная выполняла хозяйскую волю. И жена она была такая же безответная, не потому, что он помыкал ею, а потому, что добытчиком в семье был он и, значит, он был хозяином.
А теперь свалилась на них беда — смерть сына, и Квангель с тревогой чувствует, какой переворот совершился в Анне. Опять у него перед глазами стоит ее осунувшееся, изжелта-белое лицо, опять слышит он ее упреки, и сам он на улице в неурочное время, и Боркхаузен не отстает ни на шаг, а вечером прибежит Трудель, начнутся слезы, бесконечные разговоры, — а Отто Квангель так любит однообразие будней, размеренную жизнь, по возможности без всяких событий. Даже воскресенья ему в тягость. Теперь на какое-то время все пойдет вверх дном, и Анна, верно, уже никогда не будет прежней.
Все это надо как следует обдумать, а тут еще Боркхаузен пристает: — Бы, говорят, получили письмо палевой почты, и, говорят, написано оно не вашим Отто?
Квангель смотрит на него проницательными черными глазами и бормочет: — Болтун! — Но он не охотник до ссор, даже с таким никудышним человеком, как этот лоботряс Боркхаузен. И почти против воли он прибавляет: — Поменьше бы люди болтали!
Эмиль Боркхаузен не обижается, Боркхаузен не из обидчивых, он сейчас же подхватывает: — Правильно, Квангель, так оно и есть! Держала бы Клуге, почтальонша несчастная, язык за зубами. Так ведь нет, всем надо выложить: Квангели получили письмо с фронта, напечатанное на машинке! — Он выдерживает паузу,затем спрашивает вполголоса, необычным, участливым тоном: — Ранен, пропал без вести или…?
Он не договаривает. А Квангель — после продолжительной паузы — отвечает, но не прямо на вопрос: — Значит, Франция капитулировала? Жаль, что не собрались они это сделать днем раньше, тогда бы мой Отто остался в живых…
И Боркхаузен с удивительной готовностью откликается: — Вот именно потому, что тысячи немцев пали геройской смертью, Франция и сдалась так быстро, это-то как раз и сохранит жизнь миллионам других. Такой жертвой вы как отец должны гордиться!
— А ваши дети, сосед, еще малы для фронта? — спрашивает Квангель.
Боркхаузен как будто даже обижен: — Вы же сами знаете, Квангель! Но, если бы они все разом погибли от бомбы или там еще от чего, я бы только гордился. Вы что, не верите?
Но Квангель не удостоивает его ответом, он думает: если я не был хорошим отцом и не любил Отто по-настоящему, то тебе твои дета просто обуза. Охотно верю, что ты обрадуешься, если бомба поможет тебе отделаться от них ото всех гуртом, охотно верю!
Но вслух он ничего не произносит, и Боркхаузен, так я не дождавшись ответа на свой вопрос, начинает снова: — Подумайте только, Квангель, сперва Судеты и Чехословакия, и Австрия, а теперь Польша и Франция — богаче нас народа на свете не будет! Какое значение имеет несколько сотен тысяч убитых! Зато мы все разбогатеем!
И Квангель с непривычной живостью возражает: — А на кой черт нам это богатство? Что я его есть буду, что ли? Что я спать лучше буду? Или на фабрику не буду ходить, а что тогда день-деньской делать? Нет, Боркхаузен, не надо мне богатства, а нажитого таким путем и подавно. Не стоит оно, такое богатство, жизни человеческой!
Тут Боркхаузен хватает его за руку, глаза у него горят, он шепчет, не выпуская Квангеля: — Как же ты решаешься, Квангель, такое говорить! Ты же знаешь, что за такие вредные слова я тебя в концлагерь упрятать могу. Ты ведь прямо против фюрера речи ведешь, а что, если я такой и донесу?..
Квангель и сам пугается своих слов. История с Отто и Анной, видимо, гораздо сильнее вывела его из равновесия, чем он предполагал, — куда делась его всегдашняя неусыпная осторожность! Но испуга своего он ничем не выдает. Он вырывает локоть из вялых пальцев Боркхаузена и медленно и равнодушно цедит: — Чего вы волнуетесь, Боркхаузен, что я такого сказал, чтобы доносить? Я расстроен, потому что у меня убит сын и жена в большом горе. Можете доносить, если вам угодно, и хоть сейчас же! Я сам с вами пойду и подпишусь под тем, что говорил.
Квангель произносит непривычно длинную для него речь, а сам думает: голову дам на отсечение, что Боркхаузен шпик! Вот и этого тоже надо остерегаться! А кого теперь не надо остерегаться? И что с Анной будет, ума не приложу…
Между тем, они дошли до ворот фабрики. И опять Квангель не протягивает руки Боркхаузену. Он говорит: — Ну, пока, — и хочет уйти.
Но Боркхаузен крепко держит его за куртку. Он шепчет: — Что было, то прошло, забудем об этом, сосед. Я не шпик и никому зла не желаю. Но и ты, сделай милость, выручи. Мне до зарезу надо жене хоть сколько-нибудь денег принести, а у меня в кармане ни пфеннига. Дети голодные сидят. Одолжи десять марок, в следующую пятницу честное слово отдам!
Квангель опять высвобождается из рук Боркхаузена, он думает: так вот ты из каких, вот ты чем промышляешь! Не дам ему ничего, а то решит, я испугался, и тогда из его когтей не уйдешь! Вслух он говорит: — Я зарабатываю только сорок марок в неделю. У меня каждый грош на счету. Ничего ты с меня не получишь.
И не прибавив ни слова, не оглянувшись, входит во двор фабрики. Сторож видал его и прежде, и теперь пропускает без всяких разговоров.
А Боркхаузен остается на улице. Он смотрит ему вслед и обдумывает, что теперь делать. Неплохо бы пойти в гестапо и донести на Квангеля, две папиросы он на этом, пожалуй, заработает. Но лучше не стоит. Эх, зря он сегодня поторопился. Надо было дать старику выложить все, что у него накипело; после смерти сына настроение у Квангеля как раз подходящее.
Да, с Квангелем он просчитался, такого не возьмешь на пушку, Сейчас всякий трусит, за каждым что-то есть, вот и трясутся, как бы кто не проведал. Надо только улучить минуту и налететь врасплох, всякий рад будет откупиться. Но Квангель не таков, одно лицо чего стоит, как у хищной птицы. Он, верно, ничего не боится, и врасплох такого не поймаешь. Нет, от него придется отказаться, может, в ближайшие дни что-нибудь с женой выгорит, женщину смерть единственного сына последнего соображения лишить может. Тут-то бабы и начинают все выкладывать.
Так, значит, жену наметим на ближайшие дни, а пока что делать? Деньги для Отти обязательно надо раздобыть. Утром он стащил из кухонного шкафа и съел последний кусок хлеба. Но денег нет, и взяться им неоткуда. А жена у него настоящая ведьма, дома не жизнь, а сущий ад. Прежде она подрабатывала на Шенхаузераллэ, гостей домой водила, тогда и ласковой, и доброй бывала. За это время она народила пятерых озорников, должно быть, все не от него. Ругаться стала, как торговка на рынке, и дерется, детей, стерва, колотит, а под горячую руку и ему попадает, и тогда начинается потасовка. В конце концов в накладе всегда она, но ума это ей не прибавляет.
Нет, вернуться домой без денег ему никак нельзя. И вдруг он вспоминает о старухе Розенталь. Недавно они переехали к ним в дом, на Яблонскиштрассе 55, и теперь она у себя на четвертом этаже, одна без всякой защиты. И как эта старуха у него из памяти выскочила. Пожалуй, это дело более стоящее, нечего было возиться с этим старым сычом Квангелем. Она женщина покладистая. Боркхаузен давно ее знает, еще с тех пор, как у Розенталей был магазин белья, вот и надо будет сперва добром попробовать. А заупрямится, просто в морду дать! Чем-нибудь у нее в квартире он обязательно разживется, может, там вещица какая или деньжата, или что-нибудь поесть попадется, — все равно что, было бы только, чем Отти умилостивить.
Занятый этими мыслями и рисуя в своем воображении, чем он разживется у старухи Розенталь — у евреев и сейчас еще всего много, они только от немцев припрятали то, что у немцев же и нахапали, — занятый этими мыслями, Боркхаузен пускается в обратный путь к Яблонскиштрассе и все ускоряет шаг. В подъезде он долго прислушивается, — ему не хочется, чтобы кто-нибудь из переднего корпуса увидал его здесь. Сам он живет в заднем корпусе, который именуется садовым павильоном, в так называемом нижнем этаже, то есть, попросту говоря, в подвале. Ему, конечно, на это наплевать, да только перед людьми стыдно.
На лестнице тихо, и Боркхаузен торопливо, но бесшумно поднимается по ступенькам. Из квартиры Перзике несется смех, шум и крик. Опять у них пир горой. С такими людьми, как Перзике, не мешало бы сойтись поближе, что им стоит при их связях в гестапо замолвить за него словечко. Да где там, разве они посмотрят на шпика, работающего за свой страх и риск. Особенно сыновья-эсэсовцы нос задирают, не говоря уже об этом сопляке Бальдуре. Старик, тот добрее, случается, в пьяном виде подарит ему пять марок…
У Квангелей все тихо, и этажом выше, у Розенталь, тоже ничего не слышно, сколько он ни стоит под дверью, приложив ухо к замочной скважине. И тогда он звонит решительно, по-деловому, на манер почтальона, им ведь вечно некогда.
Но в квартире не слышно ни звука. И после двух-трех минут ожидания Боркхаузен звонит во второй, а затем и в третий раз. Прислушивается, опять ничего не слышно, и все же он шепчет в замочную скважину: — Фрау Розенталь, отворите! Я к вам с сообщением от мужа! Поскорее, пока меня никто не видел! Фрау Розенталь, я же слышу, что вы дома, откройте дверь!
И он звонит еще и еще, но снова безрезультатно.
Тут на него нападает ярость. Нельзя же ему опять отступить ни с чем, ведь Отти его просто со свету сживет. Старая еврейка должна отдать то, что у него украла! Он бешено трезвонит, не переставая кричать в замочную скважину: — Открывай, жидовка проклятая, не то так морду набью, что света не взвидишь. Не откроешь, так сегодня же в лагерь упеку!
Эх, бензину бы, тут же ей, стерве, дверь подпалил бы.
но вдруг Боркхаузен притих. Он услышал, как внизу хлопнула дверь. Он прижимается к стене. Незачем людям знать, что он здесь. Должно быть, кто-то собрался уходить, надо только притаиться.
Но шаги идут вверх но лестнице, хотя и медленно и неумеренно, но упорно. Кто-то от Перзике; Перзике, да еще пьяный, только этого ему не хватало! Прежде всего у него мелькает мысль о чердаке, но чердак на запоре, там не спрячешься. Остается одна надежда, что пьяный не заметит его; если это старик Перзике, может, так и будет.
Но это не старик Перзике, а сопляк Бруно, иначе говоря Бальдур, самый вредный из всей компании! Вечно расхаживает в форме руководителя гитлеровской молодежи и ждет, чтобы ему первому поклонились, — подумаешь, фря какая! Медленно подымается Бальдур по последним ступеням, крепко держится за перила, несмотря на то, что очень пьян. Хоть он и совсем осовел, однако Боркхаузена, прижавшегося к стене, он приметил давно, но заговорил с ним только, когда они очутились лицом к лицу.
— Что ты здесь в переднем корпусе вынюхиваешь?
Не нравится мне это. Марш в подвал, к своей шлюхе, чтобы и духу твоего здесь не было.
И он поднял было ногу в подбитом гвоздями башмаке, но тут же одумался: для пинка он недостаточно твердо стоял на ногах.
От такого тона Боркхаузена сразу бросает в дрожь. Когда на него орут, он весь съеживается от страха. Вот и сейчас он покорно лепечет: — Прошу прощенья, господин Перзике! Просто хотел потехи ради постращать старую жидовку!
Бальдур соображает, глубокомысленно наморщив лоб. Помолчав минутку, он говорит: — Обворовать хотел, сволочь. Вот что твое «постращать старую жидовку» значит. Ну, ступай вперед!
Обращение не из любезных, но тон несколько милостивее, на это у Боркхаузена ухо тонкое. Поэтому он разрешает себе сказать с заискивающей улыбкой, как бы извиняясь за то, что вздумал сострить: — Я не ворую, господин Перзике, просто время от времени поправляю свои делишки!
Бальдур Перзике на улыбку не отзывается. С такими людьми он не допускает фамильярности, хотя иногда они и могут пригодиться. Он осторожно спускается по лестнице вслед за Боркхаузеном. Оба заняты своими мыслями и не замечают, что дверь в квартиру Квангелей только прикрыта. Как только они прошли, дверь опять открывается, и Анна Квангель крадется к перилам и прислушивается к тому, что происходит внизу.
Перед дверью к квартиру Перзике Боркхаузен молодцевато поднимает руку для приветствия, — Хейль Гитлер, господин Перзике! Премного вам благодарен!
За что благодарен, он и сам не знает. Может быть, за то, что руководитель гитлеровской молодежи не поддал ему коленкой под зад и не спустил с лестницы. Такой мелкой ищейке пришлось бы и это стерпеть.
Но Бальдур Перзике на приветствие не ответил. Он уставился на Боркхаузена осоловевшими глазами, и тот не выдержал, заморгал и опустил взгляд.
— Так ты, — потехи ради, Розентальшу постращать хотел? — спрашивает Бальдур.
— Да, — не подымая глаз, тихо отзывается Боркхаузен.
— Ради какой такой потехи? — продолжает Бальдур допрос. — По примеру фирмы цап-царап и компания? Только и всего?
Боркхаузен исподлобья взглядывает на своего собеседника: — Ну, — говорит он, — морду-то я бы ей набил.
— Так! — отзывается Бальдур. — Так!
Минутку они молчат. Боркхаузен соображает, можно ли ему теперь удалиться, но разрешенья на уход он еще не получил, и потому он молчит, опустив глаза, и переминается с ноги на ногу.
— Ну-ка, войдем, — вдруг говорит Бальдур, и язык у него заплетается. Он тычет пальцем в открытую дверь своей квартиры. — Может, у меня еще к тебе дело окажется. Там видно будет!
Словно повинуясь указующему персту, молча шагает Боркхаузен в квартиру Перзике. Бальдур, нетвердо держась на ногах, но все же молодцевато, по-солдатски, следует за ним. Дверь за обоими закрывается.
Этажом выше фрау Анна Квангель отошла от перил и юркнула к себе в квартиру, осторожно закрыв замок, чтоб он не щелкнул. Почему стала она подслушивать разговор обоих мужчин, начатый на верхней площадке перед квартирой фрау Розенталь и законченный перед дверью Перзике, она и сама не знает. Обычно она сле-довала принципу мужа: кто здешние жильцы, что они делают, нас это не касается. Лицо у фрау Квангель все еще болезненно бледное, а веки нервно подергиваются. Раза два уже тянуло ее присесть и поплакать, только нет у нее слез. В голове вертятся обрывки фраз вроде «ой сердце щемит», «так в голову и ударило», «все нутро изныло». Все это она в какой-то мере ощущает, но ощущает она и другое: «Не прощу им, что они загубили моего мальчика. Я могу и другой быть…»
Она и сама еще не отдает себе отчета в том, что значит «другой быть», но, возможно, уже этот пробудившийся интерес к тому, что творится в доме, показывает, — она становится другой. Думает она еще и о том, что теперь хватит жить по мужниной указке, как сама хочу, так и буду поступать, нравится это ему или нет.
Она спешно принимается за стряпню. Продукты, которые выдаются по карточкам, почти целиком идут на мужа. Человек он уже немолодой и все время работает сверх сил; она же редко выходит и берет шитье на дом. Такое распределение нормированных продуктов кажется ей вполне естественным.
Она еще возится со своими кастрюлями, а Боркхаузен уже выходит от Перзике. Не успел он спуститься с лестницы, и угодливое раболепие, с которым он держался у Перзике, как рукой сняло. Двором он идет, выпятив грудь, от водки по телу разливается приятное тепло, а в кармане лежат две десятимарковые бумажки, одна из которых предназначена для смягчения разгневанной Отти.
Но, войдя к себе в подвал, он видит, что Отти уже не гневается. Стол накрыт белой скатерью, а на диване сидит Отти с посторонним мужчиной. Прилично одетый гость быстро снимает руку с Оттиного плеча. И совершенно напрасно, к чему такая щепетильность!
Боркхаузен думает: ишь ты, стерва! Старая, а какого подцепила! Верно в банке служит или учителем…
В кухне орут и визжат дети. Боркхаузен отрезает каждому по толстому ломтю от лежащего на столе хлеба. Потом сам садится завтракать, На столе не только хлеб, но и колбаса, и водка. Он оглядывает мужчину на диване довольным взором. Тот чувствует себя, по-видимому, не так хорошо, как Боркхаузен.
Поэтому Боркхаузен только слегка перекусил и сейчас же уходит. Чего доброго, еще спугнешь этого франта. Приятно то, что теперь все двадцать марок можно взять себе. Боркхаузен направляется к Роллерштрассе; он слыхал, что там есть пивная, где посетители будто бы несдержаны на язык. Пожалуй, там удастся обделать какое-нибудь дельце. Теперь в Берлине повсюду можно рыбку ловить. Не днем, так ночью.
Всякий раз, как он вспоминает о ночи, губы его под длинными отвислыми усами кривятся усмешкой. Ну и Бальдур Перзике, ну и семейка, нечего сказать, теплая компания! Только его им не провести, шалишь! Пусть не воображают, что двадцатью марками да двумя рюмками водки откупились. Погодите, придет время, он всех Перзике в кулак зажмет. Только сейчас бы не сплоховать.
Но тут Боркхаузен вспоминает, что ему еще до ночи надо отыскать некоего Энно. Возможно, что этот самый. Энно окажется как раз подходящим человеком. Боркхаузен ни на минуту не сомневается, что найдет Энно.
Тот ежедневно заглядывает в три-четыре кабачка, где обычно толкутся тотошники. Как этого Энно звать по имени и фамилии, Боркхаузен не знает. Он встречал его всего несколько раз в пивных, а там все зовут его попросту Энно. Отыскать Энно не трудно, а он, может быть, и окажется подходящим человеком.
Произведения
Критика