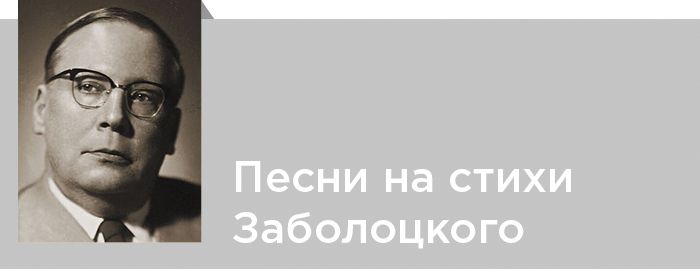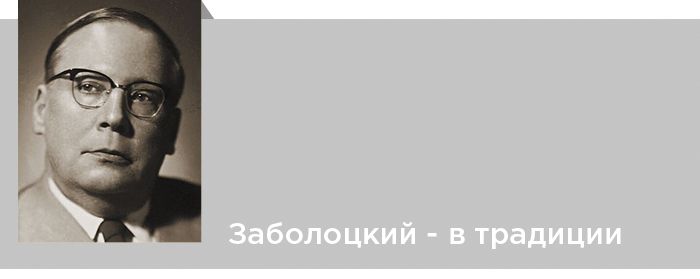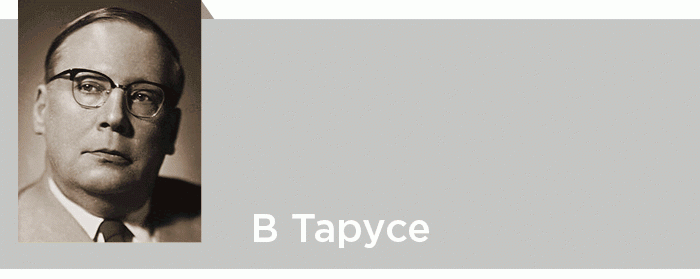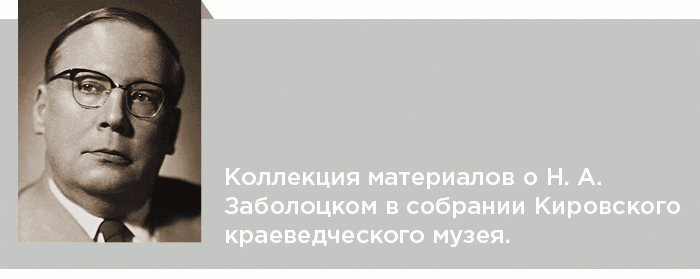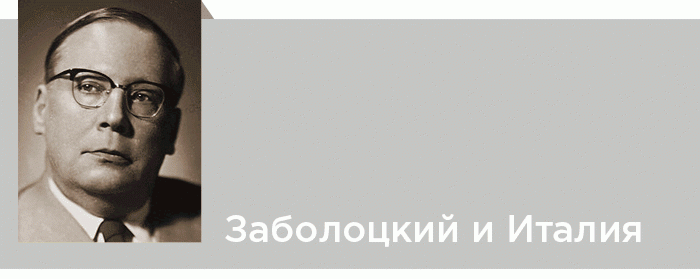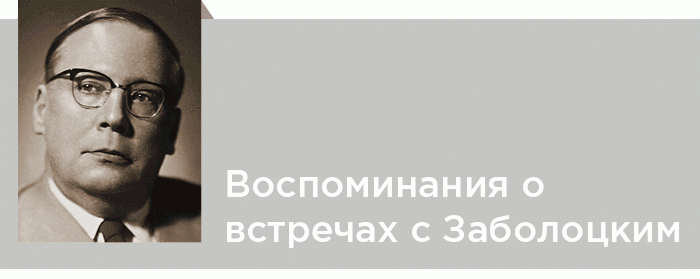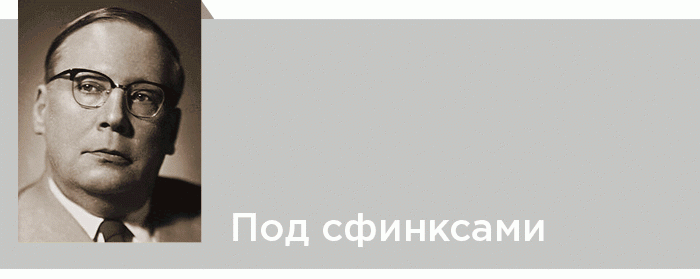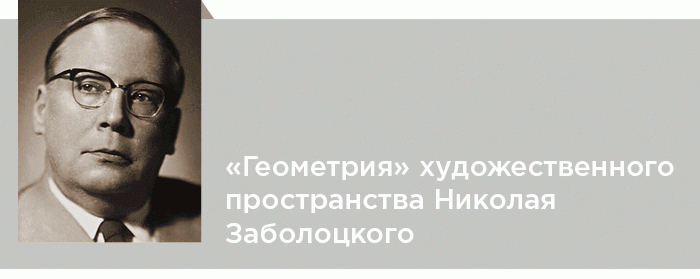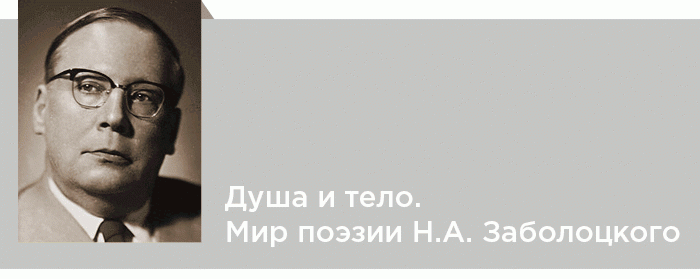Ранний и поздний Заболоцкий

Станислав Джимбинов
(Москва)
РАННИЙ И ПОЗДНИЙ ЗАБОЛОЦКИЙ
Я слушал доклады и думал о том, что Заболоцкий остается одним из самых неисследованных русских поэтов. Вроде бы есть два Заболоцких — ранний и поздний. Как икона-складень. На самом деле, приглядевшись, я нашел четырех поэтов, потому что ранний Заболоцкий все-таки тоже состоит из двух поэтов. Один из них — автор «Столбцов», гротескно-сатирический, который мне глубоко чужд. Я физически не могу читать «Столбцы». Что бы ни говорили и Наталья Роскина, и Светлана Семенова, что это будто бы высшее у Заболоцкого. Вы понимаете, сатира, гротеск, деформация, искажение, смех, притом не добрый, а злобный смех — это все абсолютная противоположность поэзии. Как и почему Заболоцкого занесло на эту стезю в 20-е годы — это можно понять. Но любить это, ценить — не могу. Но есть, к счастью, и второй ранний Заболоцкий — это создатель грандиозной космической утопии.
Основой этой утопии были слова Хлебникова: » Я вижу конские свободы и равноправие коров». Надо дать все права, и не просто все права лошадям и коровам, не главное дать им разум, дать язык. У Заболоцкого это дается с чисто христианским самоотречением —в «Лице кони» говорится, что я вырву свой язык и отдам его коню. Это действительно грандиозная утопия. А теперь попробуем по-плехановски найти социологический эквивалент этой утопии: ведь это не что иное, как перенесение Октября на мир биологии, природы. То есть мало освободить человека от угнетения человеком — давайте дальше идти: освободим коров, лошадей, и это еще не все. Самое потрясающее: дадим разум не только собакам, зайцам, кошкам, но и растениям. Невольно думается: Боже мой, как же мы далеки сейчас от Заболоцкого, от Хлебникова! Сейчас мы людей превращаем в скотов, которые думают только о выживании, а Заболоцкий говорил совсем другое — помните, безумный волк чем занимается? — он из растений создает животных. Кстати сказать, сам Заболоцкий своим главным произведением считал не «Исцеление Ильи Муромца», а, как ни странно, «Безумного волка». И Пастернак, приглашая его к себе, если помните, писал: не забудьте захватить с собой «Безумного волка». Но вот что надо сказать по поводу «Торжества земледелия» и «Безумного волка»: конечно, идея «Безумного волка», проблематика его ошеломляюще новая, родная и очень близкая нам, но художественная ткань — бедная. Когда Заболоцкий, скажем, в «Торжестве земледелия» пишет: один старик сидит в овраге и объясняет философию собаке, конечно, нас ошеломляет, что старик объясняет философию со баке, которую уже наделили умом, способностью понимания, но как стихи это не очень сильно. Как я уже сказал, ранний Заболоцкий делится для меня на две части. Не принимая злобность «Столбцов», я считаю, что совсем не дело поэзии — злобствовать, потому что Божий мир — это ликование, и поэт — глашатай благословения. Второй ран¬ний Заболоцкий, то есть Заболоцкий «Безумного волка» и «Торжества земледелия» — я его принимаю, но, повторяю, язык, художественная ткань здесь какая-то бедная. Язык нищенский. И то, что он перенёс Октябрь на природу, на зверей, на растения, — все это делает Заболоцкого глубоко советским поэтом. Таким же советским, как глубоко советским прозаиком был гениальный Андрей Платонов. Вот это бы нам пора уже осмыслить сейчас. Времечко уже пришло, потому что слишком много сегодня охотников делать из Заболоцкого какого-то жалкого диссидента. Нет, у великих поэтов другой путь.
Прежде чем переходить к позднему Заболоцкому, надо сказать, что был ещё средний Заболоцкий. Да. конечно, «Вторая книга» и «Стихотворения» 1948 года – вот поэт, по которому проехала государственная телега. Поэт-инвалид – Заболоцкий «второй книги». Но там всё равно есть сокровища. Там есть такие бриллианты, что невольно задумаешься – ну как же перееханный? ну как же инвалид? Вот стихотворение 38-го года «Лесное озеро». Конечно, это одна из вершин всей поэзии Заболоцкого.
Опять мне блеснула, окована сном,
В венце из кувшинок, в уборе осок,
В сухом ожерелье растительных дудок
Лежал целомудренной влаги кусок,
(Это абсолютно гениальная строчка. — С.Д,)
И толпы животных и диких зверей,
Просунув сквозь елки рогатые лица,
К источнику правды, к купели своей
Склонялись воды животворной напиться.
Что такое «купель»? Это сосуд, соприкоснувшись с которым, всё становится крещённым, приобщённым к Христу, к источнику правды…
Это 38-й год. Несколько месяцев назад его били и топтали ногами. То, что с ним делали, вы знаете из «Истории моего заключения». Так вот, я вижу, что он судорожно пытается найти источник чистоты, покоя и даже нравственности. Смотрите – «лежал целомудренной влаги кусок» — удивителен этот эпитет «целомудренный».
Наконец, поздний Заболоцкий… Я хотел начать это выступление с того, что в русской поэзии есть три Николая Алексеевича: Некрасов, Клюев и Заболоцкий. Но я не собираюсь на прокрустовом ложе их как-то здесь растягивать, сопоставлять, подгонять под ранжир. Но Николай — это Никола Угодник, святой покровитель Руси Николай Мирликийский. Алексей — это Алексей Божий человек, который ушел из своей семьи, стал нищим и потом вернулся. Так вот эти трое носили имена Николая и Алексея, Николая Угодника и Алексея Божьего человека. Видите, как неожиданно засветилось слово во вполне вроде бы светском стихотворении 38-го года — купель. И все преображается. Вся природа — «целомудренной влаги кусок».
О Заболоцком нельзя говорить равнодушно, потому что все-таки его переехала телега нашего государства, нашей идеологии и, конечно, какие-то кости ему поломала. Он прямо говорил: «Мое здоровье осталось на дне одного озера». То есть там работали по пояс в воде. К характеристике поздней поэзии я прочту только одно небольшое стихотворение. Оно уже заслуженно здесь звучало. Это стихотворение — знаете, что в нем самое дивное? это, конечно, интонация, то есть предельно близкое, точное прилегание текста к теме.
Это было давно.
Исхудавший от голода, злой,
Шел по кладбищу он
И уже выходил за ворота.
Вдруг под свежим крестом,
С невысокой могилы сырой
Заприметил его
И окликнул невидимый кто-то…
Стихотворение завершается так:
И седая крестьянка,
Как добрая старая мать,
Обнимает его…
И бросая перо, в кабинете
Все он бродит один
И пытается сердцем понять
То, что могут понять
Только старые люди и дети.
А что он хочет понять? Что он понял, когда поел поминального хлеба? Это должно остаться в целомудренной бездне стиха, потому что ее нельзя нашим маленьким лотом измерить и вывести какую-то коротенькую мораль. Именно бездна стиха, именно целомудренность, не обследованная, не оскверненная — именно эта целомудренная бездна есть то, что почувствовал и понял поэт, когда эта седая старушка дала ему поминального хлеба.