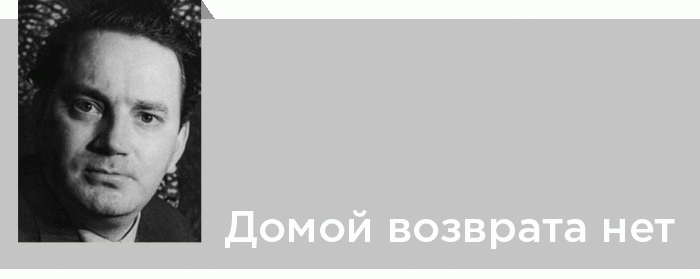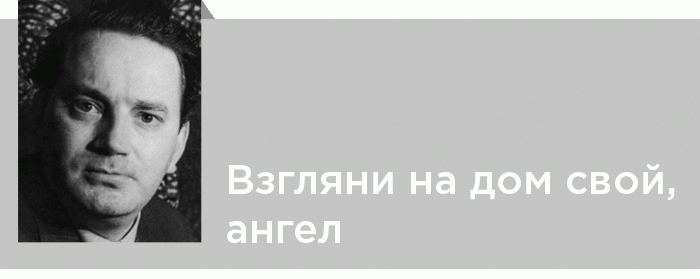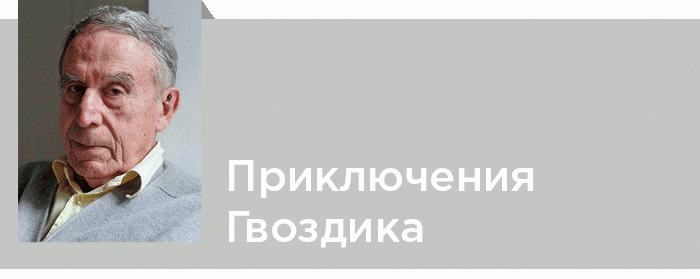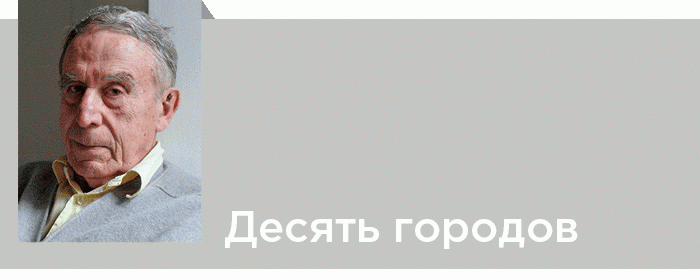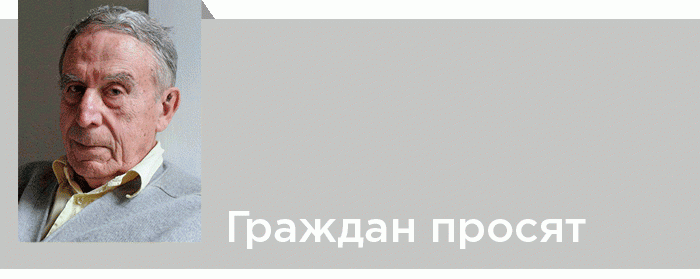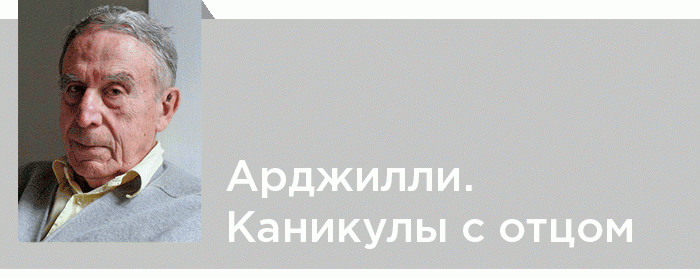Пауль Шаллюк. Энгельберт Рейнеке

(Отрывок)
1
Не предвкушение ли это счастья, счастья вне времени, просыпаться чуть свет и не открывать глаз; чувствовать, как занимается день, и догадываться, что за окном тебя ждет солнце, что оно согреет твое лицо,— и все же не открывать глаз; долго нежиться в постели и стараться не думать, какой день предстоит тебе; слышать звуки, вдыхать запахи и не задаваться вопросом, откуда они, — и не открывать глаз.
Я был счастлив, проснувшись, вернее, очнувшись, в то утро секунд на пять с закрытыми глазами я ощущал приближение рассвета. Пять секунд, может, больше, может, меньше. Потом я снова провалился, медленно провалился во что-то мягкое, опутавшее меня, словно сеть, и, проваливаясь, снова заснул; во сне услышал стук в дверь и сказал:
— Да... да, да!
Но рука стучала не переставая. Упрямо стучала, будто швыряла в окружающее меня призрачное пространство пустые гильзы, «Да входите же, — повторил я. — Да, да, да!» И кинул гильзы обратно в дверь. Но и это не остановило руку. Она застучала еще решительнее, еще строже, три раза ударила костяшками пальцев, выстукивая суровые приказы; дверь вдруг сделалась прозрачной, и я увидел клюв дятла, который выманивал меня из блаженного покоя; рука выбивала теперь дробь — по пять ударов подряд, все быстрее и громче, потом по восемь, по десять ударов; она стучала желтоватыми костяшками пальцев, сжатых в кулак. Что-то грохнуло в дверь, ее стукнули ногой, и я опять повторил «да, да, да», начиная уже возмущаться таким нетерпением, а потом понял, что это глупо; мои слова уплывали вдаль, но я слышал, как на гребне звуков они снова врываются в пустынный зал, затухая и опять кружась надо мной с гулким грохотом, исчезая и снова возвращаясь, хотя я давно уже не произносил ни слова и даже не слышал стука. Потом я пытался растянуть сеть, чтобы поймать их. Но они взмыли под самый потолок и кружились там и гудели еще какое-то время, а я вытащил часы и испуганно, а может, удивлённо, страшась и радуясь, увидел, как движутся стрелки: не от деления к делению равномерно, а с такой хитроумной поспешностью, что большая стрелка-пропеллер обгоняла маленькую, пытаясь скрыть ее от моего любопытного взгляда. Детскую игру в салочки я бы еще стерпел. Однако вопреки всем правилам и обычаям, вопреки исконной привычке показывать, как будущее, неизмеримо долго медля в настоящем, превращается в прошедшее, как движется настоящее в будущее благодаря равномерному ходу большой и маленькой стрелок, — вопреки этой привычке стрелки моих часов двигались то вперед, то назад; проходили по шесть-семь кругов, стараясь с необъяснимым усердием поспеть за временем, а потом на шесть-семь кругов убегали от него. И все это казалось возможным. Стрелки и колесики часового механизма с безумной достоверностью стремительно мчались то вперед, то назад. Своей игрой в салочки они до тех пор путали все представления, приводя их в совершенный беспорядок, пока меня, преодолев многие рубежи, не озарила мысль, что все это мне приснилось.
Я приподнялся. Кругом царила глубокая тишина, и глубину ее лишь подчеркивало слабое воробьиное чириканье. Опутанный мрачными видениями, я вдохнул запах лип, которые затеняли наш бульвар, тянувшийся вокруг всего городка по берегу реки. Запах цветущих лип был насыщен надеждой и ожиданием.
«Сегодня, — думал я, — сегодня, сегодня, сегодня. Сегодня оно должно прийти, он не заставит меня так долго ждать, не будет держать меня в неведении больше двух недель».
Пока я сидел с закрытыми глазами, ощущая тепло еще не остывшей за ночь стены, я на какое-то мгновение так же твердо убедился в том, что эта голова и эта рука — мои, как и в том, что сегодня придет письмо, А может быть, телеграмма. Но потом я вспомнил, что так было и в прошлые дни, вот уже целую неделю, каждое утро, изо дня в день, две недели подряд — сколько времени надо человеку, чтобы сойти с ума? Я и тогда был уже твердо уверен в этом, это была первое робкая мысль, возникавшая у меня, когда я просыпался. И все же письмо не пришло ни во вторник, ни в среду, ни в четверг.
Целых две недели — и все же это не мешало молодому асессору, который сидел на постели, оттопырив нижнюю губу, бормотать «сегодня, сегодня», как пластинка, которую он всякий раз мысленно ставил, хотя она треснула и не переставала повторять одно и то же: «Сегодня, сегодня оно должно прийти. Сегодня, сегодня оно должно прийти».
Вдруг меня охватила ярость. Черт побери! Я в яростном отчаянии стукнул кулаком по одеялу, следя со стороны за каждым своим движением, а потом громко, как заклинание, произнёс:
— Должно, должно, должно...
Какая глупость! Что это такое? Заклинаешь, дал? Пустые слова и колдовство с письмом — и так с самого утра! Что со мной происходит? Не заболел ли я? Лоб у меня был горячий. Он не может, не может заставить меня терпеть столько времени, разве он не видит, к чему это ведет? Так порядочные люди не поступают, не смеет же он...
Вчера он продиктовал письмо своей секретарше, фрейлейн Мюллер, прямо на машинку.
Ведь вчера истекли две недели... это тоже бдело записано на долгоиграющую пластинку... это служилось две недели назад, а может, произойдет через две недели, не все ли равно, воспоминания мои были до ужаса правдоподобны, не жди, нет, оно придет, не жди, чем все это кончится, погляди внимательнее, очнись, ведь ты еще спишь, под потолком ничего не грохочет, ничего не слышно... — это произошло две недели назад: я сказался на один день больным, а матери — чтобы избежать неприятных разговоров и не волновать ее раньше времени — сообщил, что еду на встречу молодых математиков, сам же отправился к Дитриху Барчу, пришел к нему на завод, мы поговорили о том, о сём, а когда он, взглянув в окно на заводские часы, перестал вспоминать о наших фронтовых похождениях, я без долгих проволочек объяснил ему, что мне хочется, нет, просто необходимо оставить работу в школе и, если это возможно, перейти к нему на завод. И тогда он сказал мне:
— Не позже чем через две недели я дам тебе ответ, возможно ли это. Все зависит от того, получу ли я станки-автоматы и когда именно.
Я поблагодарил его, и он вызвал через микрофон фрейлейн Мюллер:
- Запишите, пожалуйста: асессор, вернее, штудиенасессор, ты ведь в старших классах?
- Да, — подтвердил я.
Тут загудела заводская сирена, но не так, как те сирены, которые каждую ночь внезапно гнали нас из мирной обители в пустыню смерти; эта сирена едва урчала, не назойливо, а деликатно. И все же она не могла скрыть свое родство с теми, другими сиренами. Дитрих сказал:
- Минуточку, фрейлейн Мюллер, хорошо?
Ответа не последовало, но секретарша послушно писала под диктовку Дитриха.
- Стало быть, штудиенасессор Энгельберт Рейнеке, год рождения двадцать третий, математик, биолог, ну а как обстоит дело с химией?
- На худой конец, справлюсь, — сказал я.
- Прекрасно, теперь название твоей школы и фамилия директора, на всякий случай.
Я продиктовал и то и другое по буквам.
- Итак, не позже чем через две недели, - сказал он.
Вчера он написал письмо и бросил его в поток деловых бумаг, сегодня оно должно прийти, сегодня. Сегодня, должно! Но ведь я знаю, что не впервые сижу на постели в таком состоянии и колочу кулаком по одеялу, наблюдая за собой со стороны.
Странно, что Дитрих не спросил, почему я хочу оставить школу. Времени у него было в обрез — я чувствовал себя вором, — а, может быть, он так уверен в преимуществах своей профессии, что ему казались излишними всякие объяснения. Меня это вполне устраивало.
С чего мне пришлось бы начать, чтобы рассказать ему все по порядку, чтобы объяснить и оправдаться? Когда началась та история, которую я надеялся закончить сегодня? Сегодня письмо должно прийти: письмо или телеграмма, они движутся в бумажном потоке, я опять вижу ту сеть, слышу гул под потолком и деликатное урчание сирены, а две недели назад, или две недели спустя, было сказано: не позже чем через две недели. Когда и где был посеян ветер, ветер, который стал бурей, ветер с запахом крови, красный как кровь, заливший все небо от горизонта до горизонта, с запахом пепла, сыпавший пеплом отца, и пепел этот окрашивал лица людей; одни это видели, другие были слепы; ветер или буря, которая стихла, ведь не может же буря продолжаться вечно, но запах пепла въелся в наши поры, мы опрыскивали себя духами, наскоро изготовленными эссенциями; на время это приносило нам забвение, но буря опять надвигалась, она гнала меня на школы,. 1 которой учительствовал мой отец, изгоняла из города. Только куда? Буря надвигалась издалека. Может быть, она возникла в то самое утро, когда мы собирались идти в школу и отец сказал:
— Несмотря на карканье безумцев, немецкому народу предстоит славное будущее, несмотря ни на что, нашей школе предстоят коренные перемены.
При этом отец смотрел на маму и на меня отсутствующим взглядом, пожалуй, чуть-чуть лукаво. Мать рассмеялась, она считала, что он говорит чепуху. Кто мог понять такие таинственные пророчества: «Несмотря на карканье безумцев...» Мама смеялась, хотя и понимала, что эта фраза; отца могла быть фразой из торжественной речи, которую ему предстояло произнести от имени учителей и учеников по случаю вступления в должность нового директора Вольфганга Зондермана. Потом она мне призналась, что в этой фразе ей слышались стоны горести и скорби. Мать уже не смеялась Тем заразительным, веселым смехом, к которому мы привыкли. Она смеялась, словно по принуждению, нарочито и деланно. Отец это тоже почувствовал. Смеясь, она взяла его за руку и сказала:
- Будь осторожен, Леопольд. — Потом взглянула на него и серьезно добавила: — Ты ведь знаешь, они только и ждут случая, чтобы с тобой разделаться.
Позднее она сказала мне, что в эту минуту ей, как никогда, хотелось узнать, и не из газеты, а раньше, о том, что сказал отец со школьной трибуны. В то утро, сказала она, ее постоянная тревога за отца, который все настойчивее старался насолить коричневорубашечникам, переросла в отчаяние, в страх. У нее подкашивались ноги.
А отец, глядя в ее испуганное лицо, пробормотал несколько успокоительных слов, погладил ей руку, наклонился и поцеловал ее. Потом мы пошли в школу.
С этой сценки я мог бы начать свои объяснения, если Дитриху Барчу захочется когда-нибудь узнать, почему я ухожу из школы. А может быть, стоит начать по-другому? До нее и намного раньше? Почему я так дрожу? Ты уже не спишь, Энгельберт Рейнеке, бодрись! Войди в, дверь, не стой больше в маленькой, неосвещенной прихожей, постучи во вторую дверь и закури сигарету, устройся поудобнее в красном кресле, взгляни на Дитриха или на чертежи станков-автоматов, забудь о Вязьме, забудь, как он кричал, когда его ранили, смотри на дымок сигареты и говори медленно, расскажи ему эту историю так, словно ты вычитал ее в журнале. Рассказывай, рассказывай:
- Меня разбудили топот и крики, они слышались словно сквозь ватную стену. Шум доносился с ночного бульвара, но все же вселял в меня страх. Я встал, открыл окно и увидел крытую машину у соседнего дома: огромный серый ящик, мебельный фургон. Люди в черных мундирах вбегали в дом и выходили обратно, нагруженные вещами. Они бросали вещи в пасть фургона, он трещал, а потом люди в мундирах, тяжело ступая, снова скрывались в доме. Один из них, широкоплечий, размахивая руками, куражился, ругался, видимо, он был пьян.
Сколько времени ты смотрел на это бесчинство? Довольно долго. Лишь потом, когда отец уже стоял у меня за спиной и едва слышно повторял: «Вот и его взяли, вот и его взяли...», я разглядел в тени липы нашего соседа, нашего почтенного седого директора, Которого отец считал своим другом; директор запретил учителям и ученикам приходить в школу в нацистской форме; он отказывался предоставлять гитлерюгенду школьный стадион для спортивных парадов; во время одной из речей фюрера, которую все мы обязаны были слушать в актовом зале, он дважды выдергивал вилку репродуктора и с невозмутимым видом предлагал школьному оркестру исполнять народные песни; он ни словом не намекнул учителям на необходимость вступить в нацистскую партию и отказался сообщить своему начальству, кто из учителей состоит в ней, а кто — нет; мой отец был его другом. В ту ночь я увидел его жену, дочку и подростка сына под дулами пистолетов, направленных на них гестаповцами. Когда их выгоняли на улицу и грубо толкали в фургон, жена директора плакала. Отец оттащил меня от окна, не переставая повторять все с большим отчаянием:
— Вот и его взяли, вот и его взяли...
На мой вопрос, почему директор не бежал, ведь он должен был предвидеть события этой ночи, понимать, что его строптивость и неподчинение коричневорубашечникам принесет им беду, отец ничего не ответил.
Но и три недели спустя, когда в директорскую квартиру въезжал штудиенрат Зондерман, новый директор школы, и его семья из восьми душ, отец, запретив мне подходить к окну, опять ничего не сказал. Он сидел с нами за завтраком, курил сигару, молча глядел перед собой, как глядит человек, который опоздал на поезд и узнал потом из газет, что именно этот поезд потерпел крушение. Он угрюмо кивнул, когда мама, вытирая платком заплаканные глаза, повторила слова, произнесенные в ту ночь отцом: «Вот и его взяли», а потом чуть слышно и горестно добавила: «Боже мой, боже мой!»
Сегодня письмо должно прийти.
Я прислушался к уличному шуму. Прошла женщина, потом мужчина, снова мужчина, они направлялись спозаранку на вокзал или в город. Я их всех знал. За две недели я успел изучить их шаги, особенности их походки. Его я не пропущу, узнаю по глухому шлепанью резиновых подошв.
Я все еще прислушивался. Было очень рано, но, пожалуй, он уже мог выйти с Кирхштрассе и свернуть на бульвар. Я поднес к жалюзи золотые карманные часы, которые оставил мне отец, завещал их мне — пусть не формально, не письменно, но с тайным значением. Это случилось однажды в полдень, когда мы возвращались из школы.
— Ну, что там было? — спросил я.
- Так, пустяки, — ответил отец.
— Но что он хотел от тебя? — продолжал я допытываться.
— Самое скверное, — не слушая меня, сказал отец, — что Фроне, выйдя из своей каморки в до блеска начищенных сапогах, прошествовал мимо, не поздоровавшись не удостоив меня взглядом. Старый школьный привратник Фроне. После моей торжественной речи в актовом зале он сильно переменился, теперь он носит сапоги.
-— А директор? - спросил я. — Новый директор?
— Директор Зондерман был, разумеется, в коричневой форме, как подобает представителю власти, — продолжал отец. — Он положил свои часы на письменный стол. Я тоже положил часы на письменный стол» Когда он это увидел, он склонился над ними и обнаружил, что мои часы не идут. Удивительно, как быстро он это заметил. Он побледнел и встал. Потом засмеялся, довольно вымученно, я это сразу почувствовал. Он сказал: «Что же мне с вами делать, доктор Рейнеке? Следовало бы объявить вам выговор. Вам ведь известно, что вы не имеете права упоминать на уроках еврея Гейне. Но не будем об этом. Мне искренне, совершенно искренне хотелось бы, коллега, быть вашим другом. Но вам надо понять, что сила на нашей стороне и что будущее принадлежит нам. Большего от вас я и не жду».
— Ах, из-за Гейне, — сказал я. — Я-то думал, что из-за твоей речи. Значит, ему наябедничал Зигфрид.
- Наглец он, а не директор, — сказал отец. — Он мне в сыновья годится. Вот, — добавил он и остановился. — Эти часы будут твоими, если я так и не захочу ничего понять и если директору Зондерману уже не захочется надо мной смеяться.
Часы лежали у него на ладони, и он смотрел на стрелки, словно хотел узнать время, словно мог его узнать. Но времени часы не показывали. Ведь они не шли. Они никогда не шли, хотя и были исправны. Просто отец их не заводил. Всегда, как Мне помнится, стрелки часов находились в одном и том же положении, в каком, я уже забыл. Я не, знаю также, почему он носил с собой эти вполне исправные часы, от которых не было никакой пользы. Отец никогда не говорил об этом, а я никогда не расспрашивал его, наверное потому, что считал это одним из его многочисленных чудачеств.
Но потом под Вязьмой, когда я сидел один, скрючившись в какой-то воронке, — Дитриха Барча утром ранило и его отправили в лазарет — и когда на несколько минут замолчали и русская артиллерия, и наша, я неожиданно подумал, что в сознании отца эти бесполезные часы, возможно, воплощали своего рода бунт против того времени. Но к чему призывали его, о чем напоминали ему неподвижные стрелки? Чудачество! И что подразумевал он под понятием «время»? Я не развивал дальше свою мысль, видимо оттого, что опят» загремели орудия, не смог удержать ее в голове и вскоре совсем забыл, пока не вспомнил о ней благодаря маме, передавшей мне, когда я сдал все экзамены, отцовские золотые часы.
- Я должна тебе кое-что отдать, или, вернее, доверить, — сказала она, как только я снова очутился дома после долгих студенческих лет. Мама подвела меня к отцовскому столу, вручила мне часы и сказала:
- Не знаю, Энгельберт, замечал ли ты, как он гордился своими часами, уверенно чувствовал себя с ними. Он берег эти часы, для него они имели особое значение. Я не понимала почему. Но иногда мне кажется, что, если бы в день твоей помолвки часы были при нем, ничего не произошло бы.
- Ах, мама, — сказал я и обнял ее. — Не делай, ради бога, фетиша из этой вещицы. Он просто забыл их тогда, вот и все.
- Может быть, он действительно забыл их, — согласилась мать, взяв мою руку и разжав пальцы, чтобы еще раз взглянуть на лежавшие у меня на ладони часы, — просто не подумал о том, чтобы положить их в карман, ты, видно, это хотел сказать?
- Да, да, — подтвердил я, — ведь он был так же взволнован, как и все мы...
- Твоей помолвкой с дочерью нового директора.
- Но подумай-ка хорошенько. Мне теперь часто кажется, что он многое знал, господь умудрил его. А может быть, он что-то предчувствовал и нарочно оставил часы...
- Оставил мне в наследство, — сказал я, — завещал нам часы, положив их на письменный стол, перед тем как отправиться к Зондерманам праздновать мою помолвку?
- Об этом я и говорю, — сказала мать, глаза ее посветлели, она обрадовалась, что я угадал ее мысли. — Да, он положил часы на середину стола, жестом, которого мы уже никогда не увидим, Энгельберт.
Золотые часы на зеленом сукне стола? Какое безумное сочетание — золото на зеленом, а вокруг все коричневое, как будто стол только и существовал для того, чтобы служить этим золотым часам прибежищем, постаментом, укрытием.
Да, мой мальчик, об этом-то я и говорю. Я не только увидела их, я не могла не увидеть в них, лежащих на зеленом сукне, божье знамение. И я тут же взяла их в руки, ведь это было последнее, что осталось от него. Собственно, я пошла к нему в комнату лишь затем, чтобы отыскать бумаги, которые надо было сжечь, письма его парижского друга. Я всегда думала, что он ведет дневник, но дневника не оказалось, я нашла только эти часы, с которыми он никогда не расставался.
- Ах, мама, мама, — сказал я,— что бы там ни было, я благодарен тебе за то, что ты их сохранила.
Вопрошая отцовские золотые часы о времени, я часто вспоминал благочестивые размышления матери, которые всегда, о чем бы она ни думала, раскрывала какую-то частичку ее веры. Поэтому я и не мог возражать ей, а может быть, даже укрепил ее в этой вере. И сейчас — сегодня письмо должно прийти, — когда я сидел в постели, прислонясь к стене, еще не остывшей за ночь, я взглянул на циферблат этих золотых часов. Но времени они не показывали.
Я протер глаза. «Дела идут у нас все лучше...» — весело пел задорный женский голос рядом, в доме Зондермана. «Все лучше, лучше, лучше...» И когда я опять поднес часы к узкой полоске света, пробивавшейся сквозь жалюзи, то увидел, что время исчезло; я не сообразил, что оно перестало существовать потому, что часы, как при жизни отца, не были заведены, они стояли.
Тут я услышал, как по лестнице поднимается мама, и это вернуло мне ощущение времени. Она медленно поднималась со ступеньки на ступеньку. Ей было трудно. Посреди лестницы она остановилась и перевела дух, потом опять стала подниматься, подошла к моей двери. Робко, как и каждое утро, она три раза поступала, я сказал: «Большое спасибо, мама» — и вскочил с постели. Чтобы не разбудить спавшую в соседней комнате тетю Луизу, которая обычно вставала позже меня, мама наклонилась к замочной скважине и вполголоса проговорила:
- Время вставать, Энгельберт.
Взявшись за шнур жалюзи, я сказал:
- Да, да, спасибо.
Чье время, ее или мое?
Я поднял жалюзи и выглянул в окно, окунувшись в утро, в запах лип, и стал наблюдать за бульваром, который мягкой дугой опоясывал наш городок. Но почтальона я не увидел. Было еще слишком рано. Пробираясь сквозь солнечные лучи, газетчица тащила свою тяжелую кипу. И все же я не закрыл двери, пока умывался и брился в ванной комнате. Может быть, сегодня он явится раньше обычного и я увижу его прежде, чем он войдет в палисадник. Я хотел спуститься к двери раньше мамы, взять у него письмо... сегодня, сегодня оно должно прийти, сегодня... и быстро спрятать его в кармай, чтобы мать, которая, конечно, тоже подойдет к двери, не узнала, от кого это письмо. Может быть, когда я буду уже взбегать по лестнице, она спросит: «От Хильдегард Зондермаи?» — или просто: «От фрейлейн Зондерман?» — деловым и вместе с тем огорченным тоном.
Я брился, не глядя в зеркало. Я смотрел в комнату, Хильдегард в соседнем доме. Она раскрыла окно. Комната была пуста. Спальня Хильдегард Зондерман которая была моей невестой всего лишь полночи. Тень нашего дома заполняла сейчас эту комнату, У меня недоставало терпения следовать за ней с такой медлительностью. А разве она не могла быть моей собственной тенью, проворной, вездесущей, которую, я мог бы спросить: «Что ты видела? Ее платья, блузки, свитер? Что ты ощущала, обоняла, слышала? Что ты заметила и почувствовала? Забилось ли твое сердце сильнее? Сохранило ли большое зеркало ее изображение?» Молчание. Только тень нашего дома.
Хильдегард, подойди к окну, мне нужно с тобой поговорить, подойди, подойди к окну, Хильдегард, ты еще ничего не знаешь о письме, конечно, не знаешь, оно должно сегодня прийти от Дитриха Барча, он не спрашивал меня, почему я... помнишь ли ты... именно об этом я подумал, когда пытался объяснить все Дитриху Барчу — ведь и ты была при этом, Хильдегард, тогда и сейчас, всегда... помнишь ли ты тот день, когда наш новый директор, твой отец, вступал в должность, а мой отец произнес торжественную речь — ты улыбалась, Хильдегард, даже и сейчас ты улыбаешься, только иначе, немного иначе, ведь тогда ты была девочкой, в тот день, в актовом зале, когда мы оба еще ничего не подозревали, ничего.
Произведения
Критика