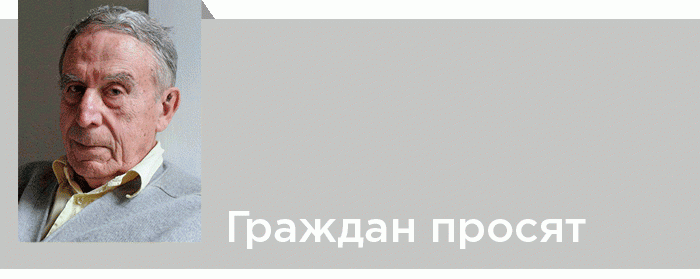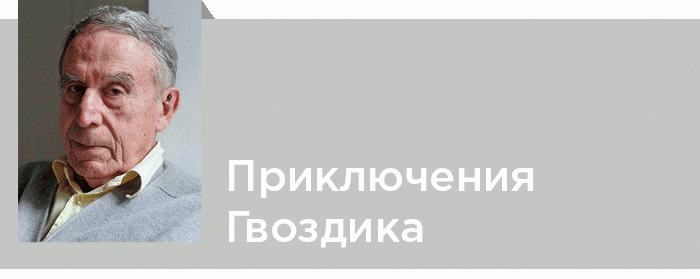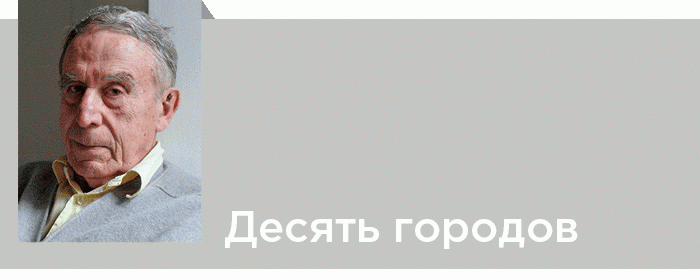Уве Йонсон. Марта на отдыхе

Вот здесь речь пойдет совсем о другом. Возможно, несколько действующих лиц совпадет с теми, которых мы уже встречали в “Миссис Креспаль”, но если все пройдет как задумано, получится вполне самостоятельная книга. Название у нее будет такое: “Марта на отдыхе”, а состоять она будет из нескольких попыток Клауса Нибура рассказать о своей матери.
Попытка первая
Ранним летом 1932 года Марта Клюндер собралась на пару с Петером Нибуром в лодочный поход, причем уже в пятый раз. Время встречи — третий четверг мая, место встречи — вокзал в Фюрстенберге, что на Хафеле, оттуда еще отходит железнодорожная ветка до Люхена.
Добрый день, Петер Петя. Да-да, эта история должна бы стать историей про Марту. Но для начала мы увидели лишь тебя, ты прибыл во второй половине дня на поезде, идущем со стороны побережья. А вот из берлинского поезда никакая Марта не вышла. Ты можешь, конечно, обшарить взглядом все платформы, разочарование порождает пустоту в твоем сердце, ибо ему не хватает Марты. Если возникла боль, признайся в этом себе самому. Тебя воспитали в духе естественных наук, так какое же тебе дело до игры модными словами? Потом заветрившийся кирпичный фасад Фюрстенбергского вокзала становится еще более облезлым, чем казался в предвкушении радости. А опаленный солнцем товарный вагон показывает тебе, как следует выносить ожидание.
Воспоминание
Петер Нибур, год 1926: Знаешь, чего я не выношу? Ожидания. Я воспринимаю его как покушение на мою жизнь. Чем прикажете заняться одному человеку в то время, которое он приберегал для другого?
Марта Клюндер, те же шесть лет назад: Но ведь ты все равно ждешь меня.
Петер: Но предпочитаю ждать вместе с тобой.
Марта К.: Знаю я тебя, ты решил подарить мне часы. А часы мне без надобности.
19 мая 1932 года. Ради этого дня господин доктор Нибур облачился в синюю форму машиниста, а еще надел прорезиненные бутсы — для лодки. Петер, он высокорослый и широкоплечий. И тут, конечно же, какая-то старушка сует ему прямо под ноги свою корзину, а он послушно подхватывает эту корзину, спешит вслед за старушкой и даже отвечает на ее вопросы, словно его ничто не тревожит. Сквозь открытые окна привокзальной пивной он видит: никакой Марты там нет. Будь в камеру хранения сданы вещи на имя Клюндер, он бы их сразу углядел. Да-да, он и в самом деле готов беседовать с этой бабушкой по фамилии Лабан: про майскую жарынь — с самой Троицы и всю последнюю неделю, жарынь и ни капли дождя. При такой пересохшей почве пшеница кой-где вообще не взошла. Он говорит на таком же южном мекленбургском наречии, как и бабуля Лабан, та, верно, думает, что он из здешних, но долго прожил в городе, потому что кисти рук у него стали узкие. А по манере наклонять голову во время разговора видно, что он привык разговаривать с человеком, который на голову ниже, чем он.
— А в корзине, которая обшита холстиной, там у вас случайно не цыплята?
— Да, это цыплята. Их надо сдать в почтовый фургон, который идет на Бредерайхе. Итак, что она должна господину за помощь? Вот он ужотко будет проходить через год мимо, тогда и возьмет себе в награду одно яйцо. Бабуля рада-радехонька. А фройляйн, которая служит на почте в Фюрстенберге, сразу видит, что это человек из Берлина, потому что он просит “одну марку для местной корреспонденции”. В глазах Элли Корбюн, “Писчие товары и машбюро”, он, без сомнения, студент, у кого еще, спрашивается, могут быть такие изысканные пожелания.
Фюрстенберг, жителей — четыре с половиной тысячи. В аптекарском магазине Инхан его принимают за туриста, который собрался делать фотоснимки. Причем за туриста образованного, недаром он прямиком топает к церкви. Рыбаки на Баалензеебрюкке полагают: он опоздал на пароход, но с какой стати он тогда разворачивается и уходит? Ну чего ради рассказывать им, что на этих мостках вполне могла сидеть Мар та Клюндер? В общем, темное дело с этим пассажиром, при себе у него только и есть, что истертая сумка из парусины, такая сумка уж никак не может служить рекомендацией в глазах хозяев фюрстенбергских отелей. Верно, верно, он поворачивается и уходит обратно, к вокзалу.
А если спросить по этому поводу Фридриха Дюзеншёна, тот объяснит, в чем тут дело, недаром он повидал свет, этот Фридрих Дюзеншён. Итак, перед нами просто безработный, вот на таких-то с нас и дерут налоги. Сам Фридрих Дюзеншён, к слову сказать, никаких налогов не платит. Это мужчина лет шестидесяти, с морщинистым лицом, сидит он себе в тиковой куртке и мятых штанах на скамье, как раз под окнами станционного ресторана, и, если судить по значку, он почетный служащий отеля. И вовсе не Дюзеншён ему фамилия, но таких Петер уже навидался на своем веку, на скольких углах они только ни сидят, дрожа от любопытства, изнемогая от желания с кем-нибудь поговорить, да такой одним только взглядом выпьет кофе из твоей чашки, пожалуй, надо дать ему какое-нибудь имя. И вот что грызет нашего дорогого Фридриха всего сильней: этот Молодой человек наверняка живет на пособие, а сам притом заказывает целый кофейник, значит, кофейник да плюс чаевые и налог на напитки обойдется ему не меньше чем в семьдесят пять пфеннингов. Впрочем, у бабули Лабан взгляд более острый и точный: к сожалению, этот самый Фридрих еще изрядное время просидит у общины на шее. Фрау Ловизе Лабан с некоторой долей ехидства улыбнулась своему предположению, что синий пиджак у молодого человека тщательно отутюжен, и белая рубашка под пиджаком — тоже, сам же он не далее как вчера побывал у парикмахера, где его подстригли под ежик, а при такой прическе вполне можно и галстук носить. Итак, молодой человек прифрантился, он ждет девушку, он хочет произвести на нее впечатление.
Добрый день, Марта, ибо ты снова здесь, в неотступном взгляде Петера и в его воспоминаниях. Стоит только описать приметы, как тебя сразу отыщут. Роста в тебе 1,64 метра, глаза карие, темные, круглая головка, правильные черты лица, мягкая, слегка отвисшая грудь, бедра узкие, таз слегка низковат, ноги красивые, на язык остра, акцент мекленбургский, звучит как подделка, голос — альт, возраст — двадцать пять лет и два с половиной месяца, студентка, специальность — немецкий язык и психология, место жительства — Саксония, опоздание составляет семьдесят две минуты. Вот только в сознании Петера ты не разделена на отдельные понятия. Ты целиком там живешь, со всем, что он уже видел и слышал, и это хранится в его памяти одновременно, хотя сейчас он неотрывно думает лишь об одном: зачесала ты волосы наверх или нет. Его бы это вполне устроило. А за этими размышлениями он успевает забыть, что ждет тебя. Ибо ты всегда присутствуешь там, где присутствует Петер.
Попытка вторая
После садов Ораниенбурга Марта — так она расскажет Петеру по дороге — только и думает о том, почему она едет другим поездом, а не тем, которым уговорено. Необходимость извиниться одолевает Мартину гордость, она предвидит также, что Петер не даст ей договорить. Петер с серыми глазами, Петер с полными губами, ах, как он умеет молчать.
Лёвенберг, Гранзее. К великому сожалению Марты, точность — один из первых вопросов, по которым они с Петером достигли согласия уже начиная с 1926 года. Она могла бы возразить ему, что, ожидая другого, человек неизбежно думает об этом другом, но согласилась бы с ним, что подобное воспоминание отравлено, поскольку тебе не известно, как долго этот другой будет отсутствовать. Время без нее Петер выносит лишь с большим трудом. Так и должно быть, это ей по вкусу, хоть она и никогда в этом не признается. Опоздание всегда ошибка, оба это знают и оба стараются скрыть, она — свое раскаяние, он, Петер, — свое огорчение. В общем, начало подпорчено. Ну на кой ей сдалась витрина на штеттинском вокзале, витрина, которая задержала ее надписью на одной из этикеток: “Костюм лодочный” „ который она и купила единственно из радостного предвкушения. Но, совершая такие покупки, вполне можно наткнуться на подружку прежних лет: Петер, ты только представь себе, это была тетя Марго, она недавно приняла католичество и вышла замуж. Теперь ей запрещено общаться с такими людьми, как ты, или, скажем, как я. А пока подавали кофе, поезд взял да и ушел. Но покупка оказалась очень удачная. Тетя Марго тоже так считает. Ткань на костюм для поло, еще белая блузка, и за все про все пять девяносто пять. Ты знаешь, как мне это пойдет! — вот первая фраза, приготовленная для Петера.
Данненвальде, Дрёген. Она специально сделает прическу для него. Для него она и волосы отпускает, отпускает последние шесть лет, их уже можно зачесывать наверх, потому что ему приятно видеть, какая у нее круглая голова, какая стройная шея. Это он ей говорит, но не говорит, что она превращается из девочки в женщину.
Хафель вторично проползает под поездом. Хафель сверкает в честь каникул. Близится Фюрстенберг. Следующая — Фюрстенберг. Марта сразу видит Петера, у того места, где останавливается багажный вагон. Но Петер стоит, прислонясь к забору, и явно никуда не спешит. Он смотрит на нее чужим и любопытным взглядом, хотя ведь не может не думать про ту фразу в ее письме: “А еще у меня есть новая блузка, и я тебе ее покажу”. Она сразу угадывает игру, она ее сама придумала после Ораниенбурга. Игра выглядит так: “Мы совершенно посторонние люди, сейчас мы познакомимся. И это будут полчаса исключительно для Фридриха Дюзеншёна. Любезно, размеренным шагом он подходит к молодой даме, приехавшей из столицы. В столице она, конечно, знает все входы и выходы, но здесь, в Фюрстенберге, ей не обойтись без его помощи. Он — мужчина в расцвете сил, и предубеждение, которое он питает к бабью в брюках, уступает его тяге к элегантности. Он повидал свет. И она в самом деле спрашивает его: не может ли он оказать ей любезность.
— Милостивая сударыня, нет, милая барышня, обратясь к Фридриху, вы сделаете самый правильный выбор.
Растерянная и беспомощная, она протягивает ему багажную квитанцию, а уж он, можно сказать, припускает со всех ног, могучим взмахом подхватывает ее парусиновый мешок с палаткой, понтонную повозку, рюкзаки и забрасывает их на открытую платформу лихенского состава, и все перекладывает, и принимает ее приглашение — для него это великая честь — разделить с ней купе, тем более что у него и дела в Лйхене есть. Но к его великой досаде спустя короткое время появляется этот тип в синей куртке, совершенно не учитывая и не уважая права старшего, права господина Дюзеншёна. Единственное, что говорит в его пользу: молодой человек скромно забивается в уголок, у другого окна, как вполне посторонний человек.
День добрый, — говорит молодой человек, и с хмурым видом, от имени дамы и от своего, Фридрих отвечает: день добрый. Ему надо подумать про погоду, чтобы можно было рассказать ей что-нибудь на эту тему. У тех, кто поднаторел в гостиничной службе, это называется вести беседу.
Пусть у меня будет компания, — предлагает молодая дама. Фридриху доставляют удовольствие звуки ее голоса, ясного и четкого в любом слове, короче, совершенно мекленбургского. Уж не показалось ли ему, Дюзеншёну, что его спутница бросила на дерзкого пришельца взгляд, серьезный и пытливый. Нет, нет, конечно показалось. К сожалению, она проговорила нечто до того очевидное, что Фридриху только и приходит на ум единственный вопрос: можно ли ему закурить? Курение, разумеется, разрешено, об этом свидетельствует красная табличка на стене, но уж Фридрих-то знает, как подобает себя вести в дамском обществе.
Ко всеобщему удовольствию и развлечению, — весело говорит она.
Фраза довольно загадочная, но Фридрих счел за благо рассматривать ее как разрешение, после чего извлек из кармана уже початую сигару. К сожалению, тот, второй, тоже раскуривает трубку, словно разрешение дамы распространялось и на него. Господин Дюзеншён вне себя от негодования, он все еще продолжает кашлять, когда поезд уже отправился. И лишь после Равенсбрюка, лишь возле Регенштайнбаха он почувствует себя достаточно уверенно, чтобы объяснить даме, что этот водный массив именуется также Тименбах, а назвали его так в честь расположенных поблизости Тимензее и лесничества Нойтимен, через которое мы, дорогая фройляйн, как раз и проезжаем.
Он хорошо знает эти места, уж кто-кто, а Фридрих их знает. Если тема погоды безвозвратно упущена, остается возможность поговорить о пейзажах и прекрасных видах из окна.
Да, — вдруг произносит его визави, хотя считать это одобрением едва ли можно.
Но дайа рывком вскидывает подбородок так, словно она крайне чем-то удивлена, словно боится поверить своим глазам, и взволнованно восклицает:
Ой, а здесь тоже грядки!
Грядки? Грядки в лесу?
Вероятно, милостивая фройляйн имеет в виду границы охотничьих участков, — определяет Фридрих своим раздумчивым голосом. Уж что он знает, то знает! — Это, видите ли, такие делянки в лесу, а межи между ними, чтоб вы знали, называются просеки. А некоторые еще называют их вырубки, это дороги, по которым люди возят дрова. Вот так-то.
Но собеседница Фридриха стоит на своем:
Никакие это не просеки, это грядки.
И на какое-то мгновение она преображается в глазах Фридриха, теперь это одна из породы тех дамочек, что селятся в отелях, сварливо и упорно стоят на своем, хоть ты им двадцать раз все объяснил точно и обстоятельно. По большей части таким дамам около пятидесяти. Ну и намыкался же с ними Фридрих! Эта молодая дама по меньшей мере вполовину их моложе. Но упорно, словно путешествующая без сопровождения матрона, указывает она ему на разделенные участки леса вдоль дороги, короткие и вскопанные по краям, как огородные грядки, или тропинки, утоптанные, как садовая дорожка. К своему великому сожалению, Фридрих и сам это теперь видит. Тропинка едва ли многим шире, чем проходы между грядками, словом, никакая тачка здесь не проедет. Но может ли порядочный человек отказаться от своего слова? И однако он не испытывает ни малейшей благодарности, когда третий в купе, этот курящий трубку и пьющий кофе бездельник, вмешивается в беседу между ним и молодой дамой.
Медлительным, глубоким голосом — такие голоса Фридрих слышал у дикторов радио — он говорит:
Это пожарные просеки, сделанные для защиты от искр, которые сыплются из трубы паровоза. Просто безответственная наглость со стороны железной дороги — и все это в 1932 году!
К великому огорчению Фридриха, его ученица тоже поворачивается к незнакомцу, к этому молодому зазнайке, хотя тот вроде бы ни к кому не обращался, а на нее даже и не глянул. Слишком поспешно - это на взгляд Фридриха — она возражает, что через такие узкие просеки огонь вполне может перепрыгнуть.
Ведь правда? — спрашивает она с недопустимой доверительностью и еще добавляет: — Иди у меня глаза старушечьи, ничего не видят?
Да уж, барышня, глаза у вас старушечьи, — отвечает этот тип, даже не успев толком влезть к ним в купе.
Фридриха так и подмывает возмутиться: это ж надо, сказать даме, что у нее глаза старушечьи. Мало того, у нее вдруг сделался скромный, сделался смиренный вид. Она покорно выслушивает из уст этого красавчика такую фразу:
не столько леса, сколько подлесок, опавшая хвоя, корневища, фашинник. Вы, наверное, слышали, что бывает, когда горят торфяники, огонь идет под землей, просто ужас.
Это выглядело как примирение. И тут Фридрих Дюзеншён должен был выслушать от Марты странную, просто очень странную историю. Судя по ее рассказам, именно Берлинская окружная дорога и в частности один берлинский носильщик могут оказаться повинны в том, что человеку, когда он путешествует, проще простого опоздать на поезд. Фридрих солидно кивает в знак согласия, хотя столица со множеством вокзалов дальнего следования до сих пор не входила в сумму его познаний о мире и уж тем паче он не смог бы совершить там пересадку. Петер же остерегается отвести взгляд от проносящегося мимо леса. Ибо Дюзеншён был бы возмущен до глубины души тем, что кто-то позволяет себе смеяться, когда он рассуждает на разные темы с фройляйн Клюндер. Ведь ни в одном из ее слов нет ни на грош правды. И уж если есть на свете человек, который знает городскую железную дорогу в Берлине как свои пять пальцев, то этот человек — Марта. Вот уже целых два года утром каждого второго понедельника она прекрасно находит дорогу из постели Петера к Анхальтскому вокзалу, а оттуда на поезде дальнего следования до Лейпцига, прямой вагон — на Вентимилья. Благодаря электропоезду он неустанно возит ее на прогулки между Тегелем и Ванзее. На остановке Химмельпфорт девушка позволила себе поддержать Фридриха, сказав со вздохом: “Ах, какие здесь леса, просто чаща”. Хотя сама вместе с Петером побывала на Ростокской пустоши и на Хайдберге, что в Гюстрове, а еще в Цеденикском бору. Марта давно уже привыкла к лесным массивам. Когда поезд поехал по открытому месту и достиг берега Большого Лихенского озера, Петер вторично обернулся к спутнице господина Дюзёншёна и сказал с каким-то сомнением в голосе, скорее даже с укоризной:
А уж багажа-то вы с собой набрали...
Само собой, когда человек на свете один-одинешенек, — отвечает та.
И поскольку Фридрих неуклонно придерживается требований этикета, он ожидает после этих слов сочувственного молчания. Его не слишком благоприятное мнение о манерах столичной молодежи вторично подтверждено вопросом, который Петер задает быстро и небрежно:
Уж не надеетесь ли вы; что я помогу вам добраться до озера со всем вашим багажом?
Не только надеюсь, но и вполне уверена, — отвечает Марта мрачно и откровенно.
Фридрих Дюзеншён уже вполне мог бы отправиться домой, располагая тремя марками и доказательством того, что она все-таки бывает на свете, любовь с первого взгляда. Но что-то внутри у него свербит и мешает оставить этих двоих наедине. В дальнейшем он не раз и не два будет рассказывать, как недостойно обошлись с ним, пожилым человеком. Ибо лишь после того, как, повинуясь указаниям Марты, он соберет из резиновой оболочки и каких-то непонятных колышков байдарку, перед его взором предстанет Петер, который сидит и поджидает у мостков в точно такой же байдарке. Мало того: этот безработный достанет из своей облезлой сумки малоформатную фотокамеру, от которой так и разит богатством. Под конец, оправившись от удивления, Дюзеншён даже позволит тому запечатлеть, как он стоит на берегу, растерянный, с бессильно повисшими руками. Редкие и встрепанные седые волосики венчают его лицо, сморщенное от непосильных раздумий. Взяв три марки, он кричит: “Я же не для этого старался!” И все. И скатертью дорожка, Фридрих Дюзеншён.
Лишь после того, как Дюзеншён скрывается из вида за густым камышом, вы начинаете кругами подгребать друг к другу, пока одна байдарка не уткнется в другую. Это у них такая форма приветствия, принятая уже шесть лет назад. Руку вы подаете только чужим людям, а друг друга вы заключаете в объятия.
Петя, ты чувствуешь, чем от меня пахнет?
От тебя очень хорошо пахнет. Крапивой.
Попытка, третья
Какая светлая у них палатка, их парусиновый дом, тебе невольно приходится открыть глаза. Хотя проснулся ты от того, что рука твоя вдруг стала пустой и легкой. Твоя Марта тебя покинула. По счастью, тебе удается обнаружить мерцающие очертания ее головы в утренних водах, восточнее их островка. Наконец она возносит руку к солнцу. Доброе утро!
го мая 1932 года. Высокий островок посреди озера круто обрывается к воде. На самой вершине островка, на просеке, среди сплетения кустов и
ельника притаилась ваша Палатка. Открыт лишь один проход, но озеро должно оставаться свободным от рыбацких лодок, да и на островке вы одни-одинешеньки. Обнаженная — если, конечно, не считать купальной шапочки, — на взгорок поднимается Марта.
А если бы меня кто-нибудь похитил? — с упреком говорит она и ныряет в махровое полотенце, которое ты подаешь ей как слуга.
Кто опоздал, тот останется без завтрака, — отвечает слуга.
Второй снимок, сделанный в этот же день, означает расставание. На нем изображена Марта, сидящая в лодке. Лодка стоит вплотную к берегу, позади — сверкающие барашки озера и вырастающая из воды суша, прикрытая неравномерно растущими ветлами. Стрелки камыша перед ней стоят тихо-тихо. На поверхности воды лишь едва заметные волны — до того обленился ветер. Байдарка стоит на высокой воде, словно узкая, длинная стрела, которая вот-вот вылетит из лука. А Марта ждет, уже взяв весло в обе руки. Снимок ты отдал на увеличение, 15 см. Ты пытался узнать, что скрывает свет, направленный в лицо, что прячут тени на ее лице. Но лишь при цифрах 18 х 24 ты отыскал это в своем воспоминании. Не только поворот ее головы к тебе, но и вопросительный взгляд — все запечатлено на снимке. И если ты хочешь сохранить этот, последний взгляд, она будет сидеть тихо, как только сможет.
Мог бы и спеть что-нибудь за мои деньги — требует она, а сама, описывая полукруг, отгоняет байдарку назад. И вот уже Петер стоит на песках земли Бранденбург, вполне готовый для выступления на сцене, рука прижата к сердцу, и горестно льется ария: “Марта, Марта, ты сокрылась”... “а со мною портмоне”, — злорадно завершает она, сама же тем временем осаживает назад, за камыши, курс — на Лихен. Марта едет за покупками. А пела она в такой вот манере — она сама называет это “манера одной из бывших”, ужасные перепады высоких и низких тонов, причем завершающее слово арии звучит у нее так: порхтмонет! И этот ее голос раздается у тебя в ушах все утро, пока ты заклеиваешь киль байдарки, так что порой ты, незаметно для себя, ей подпеваешь.
У тебя повышенный интерес к именам. Не из-за ее ли имени ты и начал бегать за ней, как объяснял студентке Клюндер во время чаепития? К тому времени Марте успело донельзя наскучить ее имя. Уж слишком часто ее дразнили из-за хозяйственной хлопотливости библейской Марфы, сестра которой Мария избрала благую долю, и не менее часто ее дразнили цитатой из оперы Флотова. Но Петер сумел ей доказать, что оперная Марта была переодетой фрейлиной королевы, хоть неискусной в прядении, но наделенной незаурядными способностями в исполнении песни “The last rose of summer”. Лично тебя больше занимает другая библейская цитата, из того же Луки, ю, 38: “здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой”, как подтверждение действительности, заключенной в одном-единственном имени. Тогда тебе очень понравилось, что эта истина стара, как сам Вавилон.
Имя собственное, nomen proprium, в человеческих высказываниях есть слово, которое заменяет обозначение личности или предмета, являющегося темой данного высказывания. Согласно этой магии она, в имени своем, была для тебя единственная в мире, девятнадцатилетняя Марфа, лишь ее ты подставлял на место Марты, которая сокрылась, и с тех пор ты отмечал каждое 29 июля как день ее тезоименитства. Под жаркими лучами солнца ты тихонько выпеваешь ее имя, но в первоначальном варианте: “Возврати мне, что нашла ты, иль со мною раздели”.
Воспоминание
Марта Клюндер, осень 1926-го: вечно ли ты сеешь нечто в мыслях других людей, и тогда у них в саду вдруг произрастает что-то новое?
Петер Нибур, тоже шесть лет назад: какое мне дело до других людей?
Марта К.: Я недавно перечитала это место, и там говорится так: женщина именем Марфа приняла его в дом свой. Разве я не женщина?
Петер Нибур: Ты меня сфотографировала?
Марта: Да уж, и думаю, что я тебя никому не отдам.
А с ней — и его портмоне, а в портмоне действительно были деньги. Вчера ты выдал ей в их общую дорожную кассу целых двести марок. В Гер мании в этот год более шести миллионов остались без работы и без шансов ее получить. Лишь половине из них государство выплачивает пособие по безработице. И Фридрих Дюзеншён хоть и держался очень гордо, но в конце концов не без удовольствия принял вознаграждение. Из каждого миллиона жителей Германии каждый год кончает самоубийством 260 человек — от голода, лишений, отчаяния, это больше, чем в любой другой стране мира. А у вас есть деньги, есть что менять. Вот спроси у Марты, она назовет это надежностью. Надежное будущее, — говорит эта особа, которой не пришлось Ни наниматься приходящей прислугой, ни вымаливать деньги за уроки в качестве репетитора. Еще до сдачи экзамена Марту взял к себе на службу один весьма самостоятельный профессор. Профессор этот вознамерился доказать что-то основополагающее в истории искусств, он готов еще пять лет выплачивать ей жалованье за справочные изыскания в библиотеке и за навыки в машинописи. За время своей работы у профессора она так его выдрессировала, что теперь он даже дает ей один свободный день в неделю, чтобы она могла заниматься своим поэтом Мёрике. Причем этот день ей нужен именно в конце недели, когда она ездит в Берлин к некоему господину Нибуру.
Но все-таки одного из нас это уже коснулось, — пытается доказать ей он. — Ведь целых два с половиной года тебя никто не хотел брать на службу, а если кто-то спросит меня, то ему будет сказано, что все эти годы я прожил единственно благодаря пишущей машинке, которую Марта водрузила мне на стол осенью, пять лет тому назад, совсем новую машинку, только что с фабрики, сверкающую игрушку, играя на белых клавишах которой ты сумел пробиться, ты печатал для других людей, пока не завершил работу над собственной диссертацией, а Нибур тем временем не приобрел известность как специалист по сельскому хозяйству в земле Мекленбург со времен Тридцатилетней войны и тем сделал себе достаточно громкое имя для того, чтобы занять пост редактора. А уж если этой осенью на книжный рынок поступит твоя вторая книга, ты вполне сможешь приобрести и женщину, и обстановку для этой женщины, лишь бы она согласилась.
А потом ты перейдешь работать в газету и удачно женишься, а я, бедная, брошенная девушка у очага, должна буду соображать, куда же мне теперь податься. Так говорила она ему голосом, полным ожесточения.
Изменщика любя,
Я так страдала,
Ведь я всю ночь тебя
Во сне видала.
Вот видишь, — ответил ты именно с той холодностью в голосе, какой она от него требовала, — коли так, оставайся со мной.
За последние пять лет это была твоя третья попытка уговорить ее выйти за тебя замуж. К 1927 году ты готов был поклясться, что из вас двоих она более благоразумная, — у каждого теперь была своя меблированная комната. Уже в 1930 году ты мог пригласить ее к себе в мансарду, район Берлин-Фриденау. Тогда, как, впрочем, и сегодня утром, тебе должно было нравиться, до чего она стремится сохранить свою независимость, а потому предпочитает быть с тобой в качестве Марты Клюндер и своими силами завоевать звание фрау доктор, а не получить его в придачу к замужеству. И вообще, что это за фамилия такая — Нибур, — сказала она. Марта Нибур, Марта Нойбауер.
И ты с ней соглашаешься.
Но вот уже свет между ветвями деревьев говорит о наступлении полудня. Ты кажешься себе все более одиноким на фоне пустынной просеки. Пора бы ей уже и прийти. И, точно подгадав нужное время, ты стоишь на берегу и держишь штевень ее лодки.
Когда ты пришла, все уже были в сборе или нет? — должен спросить ты, ибо такой у вас уговор.
Когда я пришла, все уже были в сборе, — отвечает она и так наглядно демонстрирует возмущение этих всех, что у нее даже голос становится пронзительным и резким. Подумать только, до чего я падшая особа! За мной все время шлепала какая-то старушонка, не иначе твоя бабуля Лабан. А ну убирайся отсюда, не смей топтать пашни Бредерайхе!.. Все потому, что это была как раз сестра Фридриха Дюзеншёна. Они все так на меня смотрели, так смотрели, словно я прибыла к ним прямиком из Содома. И они всё как есть про меня знают: я-де заигрываю с незнакомым молодым человеком, с первым встречным, короче говоря, и спальный-то мешок я для него прихватила, не говоря уже о бритвенном приборе. И вот. с этим молодым человеком я отправляюсь на остров посреди Лихенского озера и остаюсь там на всю ночь. Вот до чего низко я пала в глазах добродетельных жителей Лихена. Видишь, как нам, женщинам, приходится вместо вас тащить на своих плечах весь груз эмансипации. А еще эта особа покупала себе сигареты “Золотой доллар”, хотя одна сигарета, одна-единственная сигарета стоит целых два пфеннига. И у нее еще хватает наглости ходить на рынок в Лихене.
А вот за все это, — говорит Петер, — за все это ты наденешь юбку, которая прикрывает коленки, и блузку, которая доходит до самой шеи.
Как же, как же, ты мне ее подарил. Помню. И даже знаю чего ради: ты хотел, чтобы я красиво выглядела.
Произведения
Критика