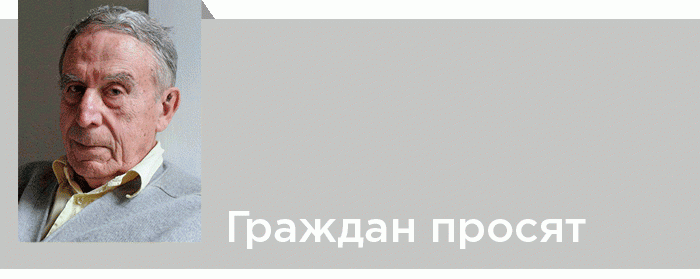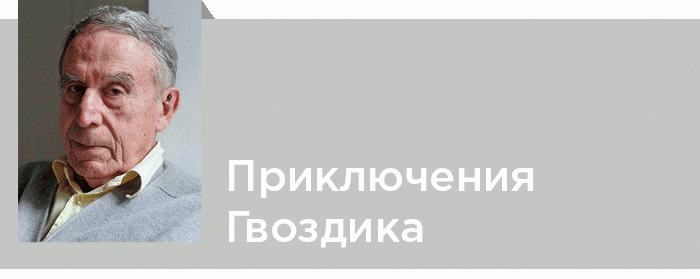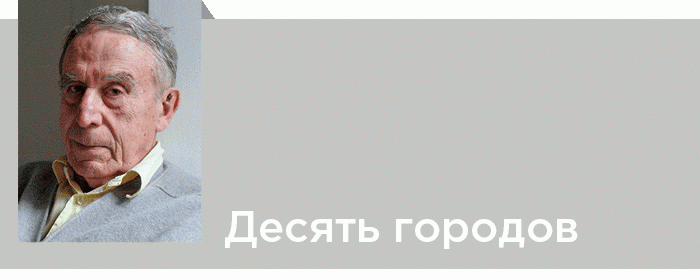Уве Йонсон. Записки потерпевшего крушение

(Отрывок)
Вечером, вдоль Сотых улиц идет в свой ресторан пожилой человек. Когда-то давным-давно ресторан принадлежал ему, сейчас там хозяйствуют пуэрториканцы, но он так и не смог навсегда расстаться с этим помещением, опрятным и светлым. Новым хозяевам пора бы усвоить, что по вечерам он всегда заказывает только кофе и тост, но они ведут себя по отношению к нему неправильно. Да тут вообще все делается неправильно. Вот у него есть, к примеру, свое насиженное место! Спиной к окну, о чем они прекрасно знают. Знать-то знают, но место это для него не приберегают. А ведь он каждый вечер приходит ровно к семи часам, могли бы и запомнить. У него никогда не хватает денег больше чем на один тост и чашку кофе. Вот прежние хозяева, ирландцы, те старались ему помочь, они всегда наставительным тоном повторяли заказ, чтобы он вслед за ними лучше его произносил, не с таким смачным немецким акцентом. Если человек целый день не имеет возможности хоть что-нибудь сказать, к вечеру он заболевает. Можно бы разговаривать и с самим собой, но это уже дурной знак, с этого обычно и начинается! Порой он спохватывается, что шевелит губами. Что разговаривает с покойниками. Только эти покойники не должны быть немцами.
— Сэнк’ю, - боязливо произносит он.
В 1941 году, при получении американского гражданства, местные чиновники всячески уговаривают его не отказываться от гражданства немецкого. Вполне может статься, что после окончания войны его вдруг охватит тоска по родине. Это ж надо - тоска по родине!
1971
Господин д-р Дж. Хинтерханд (1906-1975) разрешил начинал с июня 1975 года вносить в этот текст следующие ниже рассуждения, поправки, комментарии и дополнения.
1
В 1957 году, после освобождения из федеральной тюрьмы — это Оссининг на берегу Гудзона, — он был вынужден избрать Нью-Йорк местом дальнейшего проживания, когда еще сохранившиеся у него друзья почти силой заставили его заглянуть в их квартиру, что на Риверсайд-драйв, после чего как бы ненароком устроили на ночлег в комнате для гостей, где по стенам были расставлены уцелевшие остатки его имущества, расставлены таким образом, что он не мог не угадать за всем этим предложение хотя бы на время поселиться здесь. То, что им удалось подобрать из его библиотеки, сам подбор книг свидетельствовал о том, что они его хорошо помнили. Да и оборудование Помещения с персональной кухонной нишей и ванной тоже свидетельствовало о дружелюбии, учитывавшем его пожелания, ибо они предоставили в его распоряжение такой вид из окна, с пятнадцатого этажа, на Риверсайд-парк, через мост, в сторону Гудзона и на обрывистый берег, так тщательно припомнили его былые пристрастия, что он просто не мог отказать им в праве приобщиться к той радости, которую они хотели доставить и ему, и самим себе столь щедрым даром. К сожалению, уже тогда, как и вообще начиная с 1947 года, он был слишком неловок, чтобы отблагодарить за дружеское участие свободной манерой держать себя, непринужденностью в повседневном общении, поскольку его деяние, а вернее сказать, предыстория деяния сохранялась у них в памяти как некая доминанта всех его мыслей, с другой же стороны, все это время сохранялось и негласное табу: не поминать о случившемся даже самым невинным намеком, тем более в общении с супружеской четой, тем более с четой, имеющей детей- подростков. В остаток выпала только дружеская поддержка. Полная беспомощность в ресторане, ранее упомянутая, хоть он и не отрицал ее, проистекала из другой... как бы это сказать получше... из другой констелляции? Или не констелляции, а конституции? Потому, может быть, что он по собственной инициативе прекратил свои визиты в ресторан. Когда в шестидесятых годах множество домов на Риверсайд, в том числе и этот дом, объединились в кондоминиум... ну; перешли в общую собственность квартиросъемщиков, а у него все еще не возникла приязнь к какому-нибудь определенному месту на этой земле, он употребил остатки. своих сбережений, заработанных благодаря перемене профессии, на то, чтобы приобрести в собственность выделенную ему часть квартиры, — употребил из чистого смущения, исключительно повинуясь привычке. Его проживание в районе Сотых улиц, между Бродвеем и Риверсайд-парком, особенно после переезда друзей в другой штат, обернулось с течением времени закономерной случайностью.
2
Если говорить о еврействе или вообще на еврейскую тему, то уже та, первая записка представляет собой всего лишь видимость, основанную на слухах, и не более. Прежде всего он стремится заверить всех, что для самого себя уже в молодости отринул эту проблему, пусть даже и сформулированную на немецкий лад, отринул из религиозных и вдобавок из официальных соображений, а об успехе свидетельствует допущение, “что все это вполне возможно”.
Однако, с другой стороны, он хоть и самую малость, но все-таки еврей. Да и к какому другому выводу, судя по внешнему виду, могли прийти воспитательницы сиротского приюта в Гнезно касательно младенца мужского пола двух месяцев от роду, когда летом 1906 года этого младенца подкинули к задней двери приюта в мужской жилетке и с висящей на шее карточкой, где дитя было поименовано как “Йоахим де Катт”? Поскольку им предстояло сделать выбор между четой голландских рабочих на роль родителей и чьей-то глупой шуткой, над ребенком, хоть и не без некоторых сомнений, был совершен обряд евангелического крещения с тем последствием, что до шестнадцати лет, будь это в то и дело меняющихся приютах, у очередных приемных родителей или в гимназии, его и воспринимали, и называли “одним из энтих, из не наших”, и продолжали называть так даже и после того, как имя его появилось в официальных личных документах и звучало оно так: “Йоахим”, причем представляется весьма вероятным, что рукой писаря водила то ли жалость, то ли стремление к порядку.
Так ли, иначе ли, но это была вторая информация касательно его личности, и он, уже двадцати лет от роду, в 192® году поведал ее одной девятнадцатилетней девушке, которая мнилась ему предназначенной для всей его дальнейшей жизни, но, к сожалению, происходила из шверинского семейства, славящегося своим сугубым протестантизмом, с ходом времени, естественно, обедневшего и оставившего ее сиротой. Однако еще более, чем смутное происхождение героя, девушку привлекло сделанное им признание, не совсем обычное, а также его особенности, будь то всего лишь карточка у него на шее, хотя даже за двадцать лет жизни, сперва по соседству, а потом и совместной, речь об этой карточке никогда не заходила, ни по случайности, ни в шутку, и вместо имени “Йоахим” он получил от нее прозвище Джо, а получив, принял, впрочем не столько ради нее, сколько ради его тогдашней склонности к англосаксонской манере говорить и способу жить.
Однако спустя некоторое время он снова выдвинул на передний план еврейское пятно на своей репутации, выполнив свое первое, данное ей обещание, а именно наряду с диссертацией по философии выпустив в свет литературную книгу. Вышла книга в 1931 году с посвящением ей прямо на первой странице. Поскольку его собственное имя весьма смахивало на псевдоним, он придумал для себя другое, многозначное, — “Йоахим де Катт”. Мне это было бы вполне понятно, ибо читателю, имеющему за спиной Нижненемецкое образование, оно напоминало о поведении кошки. Но кошки, они народ способный, а напоминать об их способностях автору не пристало, да вдобавок само имя де Катт разом отдавало и прусским духом, и обычным кокетством, все это — во вред роману. Как это водится при пробах пера, он рассказал в своей книге про юные годы мальчика-сиротки на земле мекленбургской, про неудержимое стремление опекунов мальчика воспитать в нем большее добронравие, нежели у других детей, про бунт ребенка против их правил приличия, после чего вполне можно было ожидать неприятностей от объединенного бюргерства. Вдобавок книга начиналась воспитательным насилием со стороны некоего опустившегося трактирщика — тот в 1930 году стал членом муниципального совета, надеясь с помощью национал-социализма избавиться от долгов. При уровне начитанности последнего он, хоть и ненадолго, стяжал обществу городка Гнезно славу мекленбургской Шильды, ибо с места в карьер возглавил поход горожан против некоего скульптора, который предложил городу Гнезно увековечить в бронзе гордое животное с их герба. Все, что Фрик, Геббельс или Гитлер когда-нибудь говорили против этого объевреившегося (и, к сожалению, весьма знаменитого) скульптора или про арийское искусство, упомянутый член муниципалитета повторял охотно и многократно, соблюдая при этом полную точность цитирования, даже с включением грамматических особенностей, и разве что сохраняя исконное произношение. Далее, стало известно о существовании в потенциальной публике и другой группы, поэтому автор “Пасомой овцы” от всей души стремился поддразнить именно этих людей и дать им возможность для наблюдений. Поэтому же он был вынужден прибегнуть к другому заимствованию из вокабуляра картежников, играющих в скат, помянув того, который последним разыгрывает свою карту, и назвал себя “Дж. Хинтерханд”, то есть вторая рука.
К сожалению, он лишь после выхода книги в свет спохватился, что нацистская часть немецкой читающей публики знакома с законами собственного языка не более, чем с предписаниями австрийского правительства, которое в годах 1782-1783 потребовало от проживающих в Австрии евреев принять новые фамилии. 1енри Менкен приводит в качестве примера такие, как, скажем, Карбункул или Аромат. И тогда в тех разделах национал-социалистских газет, где, как правило, публиковались статьи на культурно-политические темы, в самом непродолжительном времени зашел разговор о некоем “еврейском осквернителе Дж. Хинтерханде”, у которого даже недостало скромности, чтобы сменить свою столовой выдающую его фамилию. Вышедший через год сборник рассказов постигла та же участь, и только одну южнонемецкую редакцию охватили некоторые сомнения после того, как она присовокупила к разносной статье фотографию “осквернителя”, ибо “Дж. Хинтерханд”, будучи тогда двадцати шести лет от роду, настолько соответствовал представлениям нацистов об истинно арийской внешности, что у расовых исследователей, чьи таблицы настоятельно требовали именно такой формы черепа, просто слезы выступали на глазах. Короче, под фотографией теперь стояла такая подпись: “Пресловутый полукровка Хинтерханд”.
Но масла в огонь, судя по всему, подлило его письменное высказывание о не вполне немецкой фигуре Гитлера, о не вполне богатырской фигуре Геббельса и некоторых других столпов партии, если их сравнивать с требованиями, которые они сами же и предъявляют к остальным. Тут уж не заставило себя ждать изгнание и лишение германского гражданства, каковое и произошло сразу же, в 1933 году. Вполне корректно, как и ведут себя разъяренные наци, в объявлении говорилось о некоем человеке по имени Йоахим де Катт.
Ранее приведенная записка содержала одну ошибку, ибо, как и каждый эмигрант в США, он лишь спустя пять лет обратился с ходатайством о предоставлении ему американского гражданства, именно он, считавшийся после того, как Германия начала войну, enemy alien — враждебным иностранцем, которому для любого выезда за пределы Нью-Йорка надлежит испрашивать разрешение у district attomey — окружного прокурора. День испытания точно датируется февралем 1944 года, а принесение клятвы на Конституции — августом 1944-го, поскольку Соединенные Штаты уже смекнули, что поражение Германии не за горами. К слову сказать, он в благодарность той девушке 1926 года рождения изменил свое имя на Джо Хинтерханд, все еще не зная и не ведая, какую судьбу он себе этим уготовил.
Он просит рассматривать в данном пункте его возражений три слова как продиктованные исключительно требованиями времени или, скажем, как “вспомогательные слова”, но вспомогательные не в грамматическом, а в совсем другом смысле, с известной долей сомнения: “национал-социалистский”, “объевреившийся”, “общественный”.
3
Прожив семнадцать долгих лет на правах приемыша то в одной, то в другой семье, невольный свидетель тех увечий, которые могут нанести друг другу мужчина и женщина, он должен был заново выработать собственный взгляд на супружескую жизнь, причем взгляд уже весьма анахроничный для тех времен, когда супружеская неверность стала темой анекдотов. Одинокий ребенок, которому знаки внимания были ведомы лишь в форме требования, выговора или приказа, он принял благородное решение, по меньшей мере лично для себя, — решение воплотить в жизнь то, что противоречит правилам. Не исключено, что им руководило наивное желание обезопасить и себя самого от возможного предательства, не видеть еще просвечивающий за всем договор обмена, как будто за верность можно заплатать ценностью, ей равной. Друзьям по университету, с их марксистскими взглядами, он вполне бы мог следовать теоретически, да и в смысле морали тоже, но всякий раз испытывал смущение, когда они приводили цитату из КАЛИНИНА:
Брак — это политическая задача.
Он воспринял это как сугубо личное мнение и, соответственно, поставил условие себе самому, как оно поминается в “Пире” ПЛАТОНА. Там (со 118D по 194А, стефановское издание) слово берет АРИСТОФАН, чтобы поведать миру миф об андрогине, о якобы существовавшем некогда едином человеке, которого Зевс, сочтя слишком для себя опасным, разделил на две части, на половинчатых, на “разъединенных” людей, и с тех самых пор люди пребывают в неустанном поиске другой своей половины. По слухам, этот поиск иногда кончается удачей:
И тогда желанье И стремление к цельности Называют любовью.
Кто сохраняет в своей памяти пусть даже тень этой сказки, тот по собственной вине становится самоуверенным и тщеславным, полагая возможным уже к двадцати годам Отыскать такое, что бывает даровано лишь изредка и лишь очень немногим, иными словами, он по чистой случайности ошибочно истолкует как неизбежность то, что однажды ему рано или поздно вдруг понравится некая девушка лицом и голосом, кожей и волосами, понравится с первого и последнего взгляда.
Он возомнит, будто всего лишь подвергает проверке постулаты некоего античного философа, когда с первой же минуты начнет выспрашивать про ее детство, про ее юность, про ее учителей (не упоминая, конечно, первого любовника) и, не веря своим ушам, услышит такое:
О своей родне она отзовется с насмешкой, едва речь зайдет об их партийно-политических предпочтениях; ей тоже приходится подрабатывать к скудной стипендии (писать акварели на заказ), еще она копит деньги, чтобы провести каникулы на Балтийском море, еще она намерена отрастить волосы, подобно ему читает “Weltbühne” и при каждой возможности ходит в бассейн, к тому же она уверена, что Александру Кол- лонтай неправильно цитируют — это насчет теории стакана воды, более того, она берется это доказать.
Идеалом остается моногамная связь, основанная на большой любви (“Новая мораль и рабочий класс”, 1920, с. 46 и след.), из деревьев она предпочитает тополь, еще она не возражает против повторного свиданья, но вообще-то считает мерзким и отвратным, когда люди влюбляются друг в друга, лично ей это ни к чему, лично она это отвергает...
Тот, в чьих ушах сказанное сейчас прозвучит как дополнение к уже сказанному ранее, сопряженное со взглядом, движением и звуком, будет до смерти рад, когда хоть что-нибудь ему в ней не понравится, ну, к примеру, ее привычка громко шмыгать носом вместо того, чтобы взять носовой платок и один раз как следует высморкаться...
Короче, это шмыганье носом прозвучало единственным предостережением, и тот, кто готов многое пропускать мимо ушей, неважно, какое над ними небо, ясное или пасмурное, тот пусть берет с собой на каждую совместную прогулку шелковый платочек или махровое полотенце, а зимой пусть вдобавок навещает ее по утрам с охапкой дров для печки, и еще пусть он молча и дажё не без удовольствия выслушивает ее заверения, что вот, мол, уже целый год у нее ни разу не было насморка, а про грипп и говорить нечего...
Тот уже давным-давно начал бы, сообразуясь с ее пожеланием, правдиво изображать молодого де Катта, как завтрашнего, так и позавчерашнего, не заподозрив ее при этом ни в наличии хороших мадер, ни в излишнем любопытстве, и смущаясь, как и следовало ожидать, преобразованием отдельных периодов своей жизни в драгоценные случайности и совпадения, покуда она будет оставаться той, которой он все поверяет и которая все воспринимает как должно. Но изложив совокупность обстоятельств своей жизни, он тем самым поверил ей средоточие своей личности, то место в сознании, пребывая в котором человек дерзает оперировать понятием “я”, той тайной индивидуума, тем единственно незаменимым и неисцелимым местом, для обозначения которого раньше прибегали к слову “душа” и которое промарксистски настроенные друзья героя в порядке исключения разрешили ему употреблять для нужд беллетристики. Это известие не было для него ни жертвой, ни потерей, а было, напротив, надежным обещанием.
Помимо всего прочего, он обсуждал с ней свою идею “Пасомой овцы” — фразу за фразой, персонаж за персонажем, — написанной для нее и не послужившей поводом для заблуждений и ошибок. Ибо к ПЛАТОНУ присоединился и другой гарант, человек нашего столетия, звали его ЭРНСТ БЛОХ, и ЭРНСТ БЛОХ описал как необходимый и естественный процесс то, чего в противном случае следовало бы опасаться, как чуда.
Таким образом, именно то Великое, Совершенное, Спасительное, Глубокое, о чем мечтает женщина, коль скоро она по праву наделена живым умом, служит для мужчины-творца многоцветным воплощением категорического императива в его творчестве, чтобы и сам он, и его творчество были ее достойны, чтоб он носил только ее цвета, чтобы сражался за нее как за меру души и предначертанного для творчества абсолютного Априори.
В августе 1932 года он предложил ей заключить с ним союз, дабы обезопасить их совместную жизнь перед лицом буржуазных норм поведения и закрепить браком шесть лет взаимной проверки.
4
Осенью 1932 года некое нью-йоркское агентство пригласило “мистера Дж. Хинтерханда” совершить поездку в Нью-Йорк на предмет чтения лекций. К его хоть и не чрезмерному разочарованию подруга попросила друга отказаться от предложенной поездки. Это вызвало не просто разочарование, но настоящую растерянность, поскольку не кто иной, как именно она продолжала настаивать, чтобы они и впредь жили порознь, да и выйти за него замуж официально тоже отказывалась (из-за своей диссертации), а тут вдруг ни с того ни с сего потребовала, чтобы он не вздумал пускаться за океан без нее, ибо впоследствии она едва ли сможет последовать за ним в такую даль, куда он прибудет много раньше, чем она. Самым недвусмысленным образом она выдвигала именно эту причину, а отнюдь не страх перед столь долгой разлукой.
Поездку, рассчитанную на четыре месяца, он всячески отстаивал, хоть и сам начал тем временем сомневаться в убеждении, за которое промарксистски настроенные представители из числа их общих друзей были готовы дать голову на отсечение, а именно в убеждении, что “мы победим”. На самом же деле получалось, что речь идет о том, как бы на случай совсем иной "Победы подыскать в безопасном удалении такое местечко, где некий писатель и некая искусствоведка смогли бы продолжить свою работу, пусть даже и не на немецком языке, а на каком-нибудь другом. Как и при всех совместных обсуждениях, они достигли согласия, сойдясь на том, что для начала в ее же интересах следует отпустить на разведку его одного. Он запомнил ее прощальный жест на вокзале Фридрихштрассе, с платформы которого отходил скорый поезд в Лондон. Это был жест безмолвного обещания: она просто прижала руки к груди.
Жест, придуманный ею только для них обоих, он вспоминал на перегоне от Бостона до Нового Орлеана, он даже просил разрешения привести строчки из письма, адресованного ей в октябре 1932-го, ибо все его письма рассматривали будущие места совместного обитания как для нее, так и для него:
“И напротив, когда мы состаримся, когда ты слегка растолстеешь, а у меня станут глубже морщины на лице, мы все равно будем жить так, чтобы отомстить этим кроватям, которые до того широки, что заполняют всю комнату и предстают передо мной то в виде катафалка, то в виде музейного экспоната под балдахином. И чтоб подушек на этих необъятных просторах никогда не бывало меньше двух, хотя ни один путник не может настолько устать за одну-единственную ночь. Вот такие кровати мы и расставим в нашем нью-йоркском доме, где с шестнадцатого этажа открывается вид сразу на Центральный парк и на Гудзон, где от входной двери идет парусиновый навес, чтобы предохранить от дождя тротуар, по которому шагаешь ты, и чтоб молодой парень, облаченный в ливрею давно исчезнувших княжеств, всякий раз снимал перед тобой фуражку и называл в своем приветствии день недели. Итак, ночью с наших сидячих мест мы сможем видеть серую воду Гудзона, сможем бросать взгляд поверх реки, на сплошную и раскидистую цепь огней вдоль Вашингтонского моста, и чтоб снизу доносилось шуршание автомобильных шин, подобное звуку непрерывного дождя, хотя на самом деле дождей, пожалуй, и не будет, а расплачиваться за все мы будем, конечно, чеками...
Весной же мы, возможно, переберемся в одну из этих местностей в стиле Новой Англии, где широкими дугами, среди зеленой и красно-коричневой листвы раскинулись изящные белые дома, сплошь деревянные, и они напомнят тебе о чем-то, что представлялось столь же старинным и добропорядочным; вода поступает прямо из стены, вода разной температуры, вода бежит кругом, вода отапливает дом и, обратившись в лед, повергает масло и джин в холодный ужас, а за стенами дома она предстает в виде бассейна среди аккуратно подстриженного газона, окруженного древнеримскими заветрившимися каменными скамьями и статуями, и все это видится с террасы словно море, а по морю в зависимости от времени года смещаются песчаные отмели, теряясь из виду, вечерами же мы будем пробираться среди пузатых автомобилей по дороге в город, и покажем тебя людям, и растолкуем туристам преимущества многочисленного среднего класса для существования в основе своей демократического общества, а кто из них тебе понравится, того мы возьмем к себе в дом, который ночами поскрипывает и потрескивает всеми полами, всей мебелью, причем мебель очень похожа на твоих бабок, и мы тоже, только ты слегка располнеешь, а у меня станут глубже морщины, — на пожелтевшей от времени фотографии, стоя рядом, мы говорим: да”.
Путешествие с успехом и с перспективами, мера предосторожности, необходимость которой подтверждена решением немецких избирателей присудить победу Гитлеру. Вот только по возвращении де Катта в Европу, в Германию, осененную ныне знаком свастики, была подвергнута аресту некая особа, известная новым властям из-за своих отношений с бежавшим за границу осквернителем собственного гнезда под именем Дж. Хинтерханд, он же Йоахим де Катт, по каковой причине ей отказали в продлении международного паспорта. Почти пять месяцев он проторчал на южном побережье датской провинции Фальстер. Почти пять месяцев в тревоге, но без всякой надежды, беспокоясь хотя бы и потому, что он не понимал, как это столь ушлая особа не может найти лазейку между заставами на границе со Швейцарией, с Нидерландами, с Данией. На письмах, поступающих от нее, стоял почтовый штемпель Мюнхена, Бавария, и ни единого раза она не поведала о том, что испытывает симпатию к тамошним жителям. Одно из писем, более других показавшееся ему убедительным, кончалось пожеланием “и боже упаси меня, после того как мы свидимся, снова попасть в Германию”. От Гьедсера до Варнемюнде, в гитлеровскую Германию, паром в те времена шел два с половиной часа, и ежедневное созерцание высоких бортов парома порождало в нашем герое искусительные планы. Из баварских краев она с обратной почтой отвечала ему: “За то, что тебе не следует возвращаться (в Германию), говорят и еще два чрезвычайно важных обстоятельства: во-первых, вполне возможно, что тебя тотчас арестуют и нам по-прежнему не удастся быть вместе. А во-вторых, я не вынесу, когда у тебя отнимут возможность писать (здесь). Это можно бы сравнить с тем, что тебя поразила внезапная слепота или стряслось еще что-нибудь не менее ужасное, способное повергнуть в отчаяние нас обоих.
Но мы ведь уже сумели провести один год в ожидании, так неужто мы не сможем прождать еще полгода или даже целый год?”
Can’t we? Хотя иностранным языком для нее был скорее французский.
Пока в конце концов его друзья не смекнули, что де Катту — такое у него было Прозвище — надо помочь и не послали некоего человека на помощь. Это был человек, который представлял себе брак в свете высказываний КАЛИНИНА, но тем не менее оказался желанным посредником, ибо начал с вопроса, нет ли уде Катта неофициальной фотографии той особы, каковую можно бы употребить для оформления заграничного паспорта, все равно какого.
Фотографию он хоть и передал, но никакой при этом надежды не испытывал. Именно той ночью датировано приписываемое ему изречение: “Для меня она навсегда потеряна”, ну и тому подобное. Однако примерно после девяти месяцев разлуки с ней в Гьедсер поступила из Германии телеграмма, адресованная некоему Дж. Хинтерханду (за подписью Карл Алинин). Телеграмма предлагала ему спустя полтора часа после наступления полуночи ожидать телефонного звонка. Но когда четко в назначенное время он сел в спальный вагон, следующий из Германии, та, которую он искал, спала за закрытой дверью купе и проспала до самого Копенгагена. Она проспала не только переезд на пароме, но и его самого.
Он может с уверенностью сказать, что портовый город Гьедсер сейчас пишется как-то иначе, вроде бы Iecep. А также он просит в своем постскриптуме о том, чтобы к его словам “единственно для них обоих” и “демократический” относились с известным недоверием.
Произведения
Критика