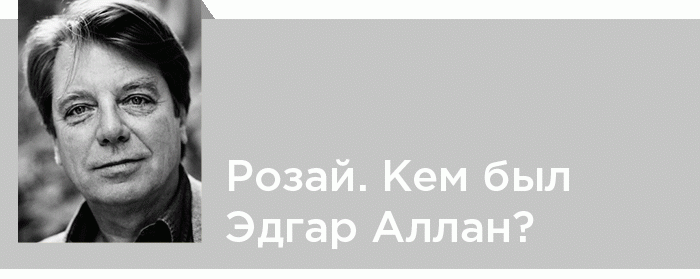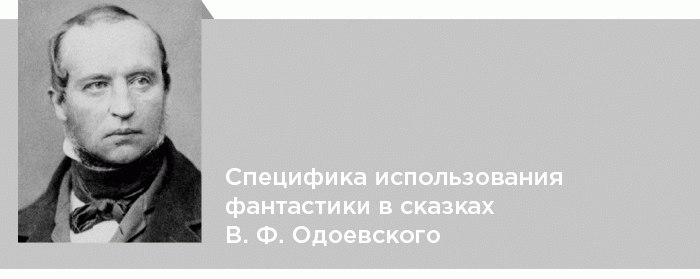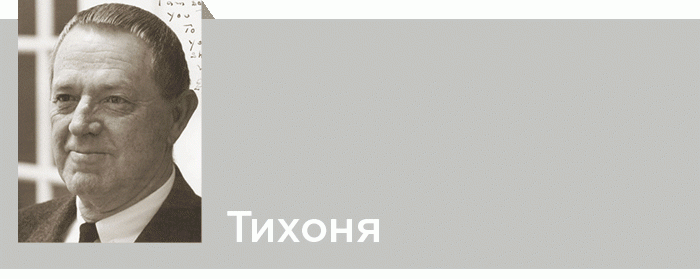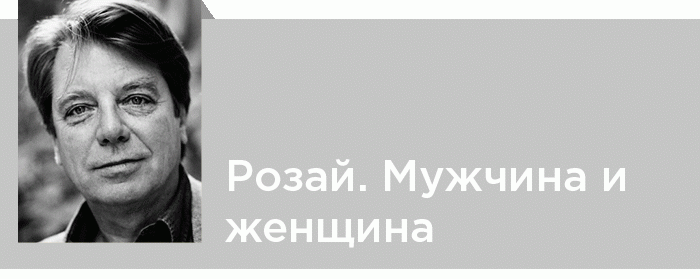Петер Розай. Город

Утверждение, будто я предался безделью по чистой лени, нельзя признать справедливым. Хотя на первый взгляд оно похоже на правду. Я встаю, за редким исключением, не раньше одиннадцати, потом, не умывшись и не приведя в порядок одежду (я в ней же и сплю), нетвердой походкой спускаюсь по лестнице с четвертого этажа, где находится моя конура, и с полуслипшимися глазами выползаю на улицу, на свет божий. Сияет солнце — я посылаю ему проклятия, а если солнце скрыто тучами или того хуже — льет дождь, я ругаюсь пуще прежнего. В моем положении дождь означает, что надо прятаться, «надо прятаться» в большинстве случаев означает «зайти в кабачок», а «зайти в кабачок» означает тратить деньги, что невозможно, когда таковых не имеется. А поскольку я уже который месяц сижу без работы, с деньгами у меня туго. Но здесь, в городе, это обстоятельство мало кому заметно, потому что без работы ходит каждый второй, богатых просто нет, а бедны поголовно все. Изо дня в день только и разговоров что об увольнениях, притом массовых. С газетных страниц человеку постоянно бьет в глаза слово КРИЗИС и еще одно выражение, куда более непонятное, куда более жуткое, — МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС; все это слова, которые, по сути, ничего не объясняют, но люди произносят их, чтобы вообще хоть что-нибудь произнести. Меня эта говорильня, по правде сказать, давно не занимает. Ужасное стало будничным, и я свыкся с этим кошмаром. Раз уж ты не в силах ни улучшить, ни ухудшить положение дел, будь то своих собственных или чужих, примирись с мыслью, что все идет своим чередом, мир меняется сам по себе, меняется непрерывно, и только в твоей жизни все остается по-прежнему.
Чаще всего я сижу прямо у ворот своего дома. Колени и спина дрожат от слабости. Я беру в рот щепку, двигаю ее языком туда-сюда и сглатываю слюну, обильно выделяющуюся ввиду отсутствия завтрака. Щепка — вещь исключительно ценная, от нее во рту возникает ощущение чего-то съестного. Правда, при этом можно уколоть губы. И тогда выступит кровь. Сижу ли я на ступеньках справа или слева — наш привратник все равно недоволен. Сяду слева — он гонит меня направо, отдыхаю справа — гонит налево. В эти минуты его физиономия дьявольски серьезна.
— Паразит! Паразит нахальный! — кричит он, всякий раз давая мне повод заметить, что ему впрямь не мешало бы поохотиться на паразитов, скажем на клопов, которых в нашем доме больше чем достаточно. Его тявканье влетает мне в одно ухо и вылетает в другое. Я слишком устал, чтобы напрягаться еще и из-за него. Обыкновенно я даже засыпаю и вздрагиваю от испуга, когда в меня пуляют камнями уличные мальчишки или когда — а это, увы, бывает крайне редко — в мою шляпу падает монета. Где бы я ни был и чем бы ни занимался, шляпу я всегда кладу перед собой: ловлю шанс. Но сколько ни расставляй человеческой щедрости капканов, их все равно будет мало.
Район, где я обитаю — беднейший в городе. Улов тут у меня, естественно, невелик, и вместо милостыни со всех сторон сыплются обидные ругательства или советы типа: «Шел бы работать, не калека, поди». К вечеру я перебираюсь в более приличную часть города, хотя «приличной» ее можно назвать лишь с большой натяжкой. Весь этот город от окраин до центра тонет в грязи и запустении. Окруженные угольными шахтами, каменоломнями, заводами и терриконами, дома, улицы да и сами горожане окрасились в какой-то копотно-ржавый цвет. Коренные жители так привыкли к грязи, что уже не замечают ее. Зато люди приезжие невольно поднимают воротники, закрывают рот платком и, едва переступив порог гостиницы, мчатся в ванную. Поначалу это угнетало и меня. Теперь моя одежда разве что колом не стоит, а я и рад, поскольку жалкий вид есть наипервейший залог успешного попрошайничества. Конечно, больших денег я не соберу — те, кто подает мне на бедность, сами не слишком богаты — и потому прибыток не задерживается у меня в кармане, а отправляется дальше, к хозяину водочного завода. Моя обычная доза спиртного — сущий пустяк для здорового, крепкого мужчины. Но в моем нынешнем состоянии достаточно двух стаканчиков рома, чтобы я уже был пьян в стельку. Часто утром я прихожу в себя, лежа с остекленевшими глазами в сточной канаве. Тогда я хохочу как полоумный, хлопаю себя по лбу, ползу к ближайшей колонке и сую голову под холодную воду. То-то блаженство!
Я еще помню, как пришел в этот город и подумал, что, наверное, народ здесь живет богато и уж что-нибудь от этого богатства мне да перепадет. Я стоял на горе, вниз по крутому склону сбегала извилистая дорога, а у подножия, на морском берегу, лежал город — дымились фабричные трубы, у причалов белели корабли, а дальше простиралось бескрайнее серо-зеленое море, рябое от белых барашков, и над морем звенел ветер, звенели голоса, как будто кричавшие мне: «Приглядись получше, деньги здесь сами плывут в руки, а в воздухе парят банкноты!» Тут я заметил сверкнувшее над бухтой облачко пыли и счел это добрым знаком. И что же? Первый мой день в этом городе ничуть не отличался от последнего: начала не было, был лишь отсроченный, медленный конец. Но мог ли я предвидеть все это, когда смотрел с горы на окутанную дымом низину, туда, где окна и крыши домов мерцали, словно россыпи золотых монет? Над кораблями в гавани кружили чайки, и белизна их крыльев казалась мне сродни свежему снегу. Крутые безлесные горы полукольцом обрамляли бухту и город и, врезаясь в море, растворялись в светлой дымке. Мне хотелось стать птицей, отважно ринуться в бездну, чтобы, распластав руки, завладеть сразу всем. Я воображал себя соколом. Сегодня я понимаю, что был самой обыкновенной голодной вороной.
С того дня, как я поселился в этом городе, время пролетело с невероятной быстротой. Поинтересуйся кто-нибудь, сколько я уже здесь торчу, вряд ли я сумею дать точный ответ. Но поскольку никому это не интересно, с меня довольно знать, что миновало лето и началась осень. Пауки в моей комнатенке осоловели и ловятся без особого труда. Ранним утром, когда я просыпаюсь первый раз, стоит чертовский холод. В щелке между старыми мешками из-под угля, заменяющими мне оконные занавески, брезжит унылый день. Повсюду валяются дохлые мухи. Меня это, правда, мало беспокоит. Я нащупываю возле кровати бутылку водки и длинным глотком отправляю в утробу обжигающую жидкость. По телу разливается тепло, и я снова проваливаюсь в сон или, лучше сказать, в беспамятство. К полудню не помогает даже самый большой глоток: несмотря на туман в голове и общую слабость, спать уже невозможно. Каждый день я задумываюсь над тем, для чего, собственно, вообще встаю с кровати, но каждый день поднимаюсь вновь, так и не решив почему, — таков я во всех своих поступках. Я откидываю волосы с лица, тру глаза и нос. При этом взгляд мой часто падает на скомканные газеты, которыми я с вечера укутываю поясницу, и выхватывает из текста отдельные слова. Затем я ковыляю к окну, сквозь дырку в мешке смотрю на улицу и хохочу идиотским смехом. Особенно смешат меня слова вроде УБЕЖИЩЕ, АППЕНДИКС или ПОДДЕРЖКА ОБЕЗДОЛЕННЫХ. На полу возле кровати валяются красные и голубые сигаретные пачки. Я снова и снова ищу в них сигаретку, хотя отлично знаю, что они пусты. Стоит мне раз-другой нагнуться, как комната начинает плыть у меня перед глазами, пол уходит из-под ног. Я воображаю себя на корабле, далеко в открытом море, и, хотя это чистейший бред, мне кажется, что море сулит богатство, или пропитание, или надежду на сколько-нибудь сносную жизнь. Я знаю, это всего лишь глупые фантазии, и часто говорю вслух: «Идиот! Несчастный ты идиот!» Но, как правило, этот спасительный прием дает осечку. Когда я смотрюсь в настенное зеркало и, по мере того как я к нему приближаюсь, моя физиономия становится все больше и больше, я непроизвольно складываю губы в толстый бугристый бантик, затем открываю рот и оскаливаю прокуренные зубы, покрытые похожим на плесень налетом. Так и стою до тех пор, покуда не встречаюсь взглядом с самим собой: я вижу круглый черный зрачок в радужной оболочке, зачарованный своим зрачком, я не в силах сдвинуться с места, но мало-помалу во мне поднимается дикий страх перед этим неподвижным изображением, которое вроде бы должно быть отражением меня, но почему-то не имеет со мной ничего общего. Мне вдруг начинает казаться, что за спиной стоит какой-то незнакомец, чужак, незваный гость, убийца, — я резко оборачиваюсь и неистово молочу кулаками воздух. Когда, запыхавшись, я наконец утихаю посреди комнаты — четыре шага в длину, четыре в ширину — и смотрю на грязную голую стену или на вытоптанный линолеум цвета блевотины, мне порой кажется, что я окончательно спился и сошел с ума. Ценой больших усилий я восстанавливаю душевное равновесие, нередко с этой целью я бьюсь головой об стенку или о железный каркас кровати, покуда теплой приятной струйкой не потечет кровь. Вот он — ты, думаю я, разглядывая свежую, медленно засыхающую на пальцах кровь. В стену стучат соседи и орут: «Эй, потише там!» Я и ухом не веду, но, если они меня уж особенно взбесят, запускаю в стену пустой бутылкой.
Своей ненавистью соседи меня прямо со света сживают. Ютятся они в точно такой же убогой мансарде, как я, но воображают, будто я им не ровня, будто можно смотреть на меня сверху вниз — потому только, что сумели раздобыть какую-никакую работенку и где-нибудь на фабрике сподобились за гроши мести двор или вывозить мусор. Вся их жалкая философия исчерпывается фразой: «Нам живется лучше, поскольку мы работаем и соблюдаем во всем приличия!» Встречаясь со мной на лестнице, они плюют мне под ноги и вообще стараются всячески выказать свое презрение. Я со своей стороны могу им лишь посочувствовать, ведь живут они в вечном страхе за свою паршивую должностишку, день и ночь думают о часе увольнения, когда им придется стать на одну доску с тем сбродом, на который они сейчас поглядывают свысока. Что до меня, то я давно оставил мысль устроиться на работу. Будет возможность наняться поденщиком-чернорабочим — наймусь. И не более того. Бросьте вы, наконец, морочить себе голову, думаю я, проходя мимо биржи труда, где бурлят толпы безработных. Эти люди так взвинчены, словно боятся, что до них не дойдет очередь за счастьем, каким тут якобы можно запастись на всю жизнь. Нельзя предаваться отчаянию, полагают они, наоборот, нужно быть проворным, решительным, готовым тотчас использовать подвернувшуюся возможность. Того, что такая возможность не существует и никогда не представится, а сами они уже превратились в настоящих доходяг, они намеренно не замечают. Поиск работы стал у них манией. И кто знает, быть может, как раз в то самое время, пока эти горемыки толкутся на бирже, в другом конце города ищут рабочую силу, нанимают людей?! Стоит прошелестеть малейшему слушку, как они сразу приходят в движение, бегут, обгоняя друг друга, словно речь идет о жизни и смерти. Но почти всегда их усилия напрасны. Примчавшись на место, они узнают, что никто не требуется, никого на работу не берут, просто кто-то позволил себе шутку, пошлую, глупую шутку, и нечего им тут путаться под ногами, убирались бы лучше подобру-поздорову. С пунцовыми пятнистыми лицами и дергающимися кадыками они отправляются восвояси. Но уныние их непродолжительно. Уже на следующий день, умытые и прилизанные, они вновь выстраиваются перед биржей. Биржа — это вместительное здание, огромное, как корабль, можно даже сказать — океанский исполин, и в то же время слишком маленькое, явно слишком маленькое, потому что на борт взято слишком много надежд; если бы надежды обладали физическим весом, здание это неминуемо потонуло бы в земной пучине.
Лично я, вместо того чтобы околачивать пороги биржи и уповать на милосердного боженьку, брожу себе по городу и клянчу подаяния. Как всякий нищий, я вынужден постоянно менять участок, ведь если будешь мозолить глаза одним и тем же людям, они привыкнут к тебе и не кинут ни гроша. Вот почему я плетусь то в центр, то в портовые кварталы, то в пригороды. Исподволь у меня вошло в привычку запоминать названия и расположение улиц. Своими познаниями я могу быть полезен приезжим, которые плутают по городу. Кстати, и это дает кой-какой доходец. Куда, однако, приятнее разглядывать красные, желтые и голубые вывески магазинов, где изображены то бритвы, то канатные узлы, то свежие кровянистые куски мяса. Перед вывесками мясных лавок я могу мечтать часами. И тогда, глядя на идущую но улице женщину, я представляю себе, как всаживаю в нее нож, режу пополам, потом потрошу. Содрогаясь от этих чудовищных мыслей, я прижимаюсь лицом к окну мясной лавки, откуда, наверное, кажусь диким зверем, и гляжу на цинковые ванночки с выложенными на продажу потрохами. Стоит мяснику запустить туда красную ручищу и бросить на весы пригоршню потрохов, как у меня начинают дрожать коленки и я хватаюсь за подоконник, чтобы не грохнуться наземь.
Нередко, очнувшись от дремоты где-нибудь в подворотне или на углу улицы, я не сразу соображаю, где нахожусь, который час и что я вообще тут делаю. Как-то раз, бросив взгляд на монеты в шляпе, я вдруг ясно понял, что меня обокрали, и начал громко звать полицию. Но когда сбежались прохожие и стали смеяться надо мной — дескать, рехнулся парень, спятил совсем! — я догадался, что поднял ложную тревогу, умолк и под улюлюканье толпы пристыженно улизнул прочь. Случилось так, наверное, оттого, что мне приснился сон о первых днях в городе, когда меня обворовали уличные мальчишки. В тот злосчастный день — а он уже клонился к вечеру — позднее солнце заливало этот уродливый город морем ласкового мягкого света. Дома, как всегда, выглядели нежилыми и заброшенными, но в них шла своя жизнь, и женщины, высовываясь из окон, развешивали пестрое белье. Шуршанье веревок по блоку, хлопанье простынь на ветру, болтовня и смех женщин — все это создавало иллюзию счастливой беззаботной жизни. Из подъезда с веселым криком выскочили дети, то ли преследуя какую-то худущую собаку, то ли гоняя пустую консервную банку, но уж никак не спасаясь от злобного привратника. Я с умилением смотрел на их забавы, не придавая особого значения тому, что сорванцы незаметно окружили меня. И надо сказать, намерения их были не столь безобидны, как казалось со стороны. Пока я, улыбаясь, разглядывал их диковинные лица (у большинства были беззубые рты и остриженные под ноль головы, потому что дети жили в зараженных вшами квартирах), так вот, пока я благодушно смотрел на этот веселый тарарам, маленькие негодяи ловко обчистили мои карманы. Когда я спохватился, ребят уже и след простыл, лишь издалека доносились их крики. Со всей быстротой, на какую только способны мои ноги, я обогнул несколько домов в надежде схватить воришек. Но на улице, где я рассчитывал их застать, не оказалось никого, кроме старика, с непостижимым упорством подметавшего один и тот же кусок тротуара. На вопрос, не пробегала ли здесь ребячья ватага, он покачал головой, отвернулся, постучал метлой о стену дома и с упрямством маразматика вновь принялся драить и без того чистый асфальт. Словно в насмешку надо мной, как раз в эту минуту ветер принес нахальные голоса моих обидчиков. Дважды я почти настигал их, но так и не настиг. Усталый и раздосадованный, я стоял в узком переулке, проклиная воров, и вдруг подумал, а не заодно ли с ними старик. Позднее я убедился, что мои подозрения были совершенно необоснованны. Вернувшись на ту улицу, где был старик с метлой, я увидел, что он тоже исчез. В грязных окнах играли лучи заходящего солнца, вниз по улице с громким шорохом летел газетный обрывок. Тут моя злость сменилась страхом; не чуя под собой ног, я бросился бежать — и бежал, пока не достиг более людного места.
С тех пор меня преследует дурацкая боязнь стать жертвой воров. У меня нет ничего такого, на что они могли бы позариться, и все же я часто останавливаюсь и оглядываюсь назад: нет ли там каких злодеев? Но, чуть захмелев, я мгновенно забываю о простейшей осторожности. Войдя в кабак, высыпаю из карманов на стойку все свои деньги. Я никогда не пересчитываю их, поручая это хозяину, и с вожделением смотрю на полки за его спиной, где мерцает в темноте батарея бутылок.
— Хватит? — неуверенно спрашиваю я. — Хватит? — бормочу я, без конца облизываю губы и нервно переминаюсь с ноги на ногу, пока хозяин наконец не смахнет деньги в ящик, а потом, неуклюже повернувшись, не протянет мне бутылку какого-нибудь пойла. Разумеется, он меня частенько надувает, достаточно взглянуть на его хитрую оплывшую рожу, чтобы понять это, и я вновь даю себе зарок всегда пересчитывать перед кабаком свою наличность, но, придя с дрожащими коленками и чугунной головой к заветной двери после бесконечных скитаний по городу и заслышав звон стаканов и бутылок, я мигом забываю о своих благих намерениях. Вверх по ступенькам, пинок в дверь, деньги на стойку — эти три действия сливаются в одно. Иногда (увы, нечасто!) у меня набирается денег на две бутылки — достаточное количество, чтобы не просыхать несколько дней кряду. Впрочем, мне и этого мало. О чем я мечтаю, так это о вечном опьянении. Правда, мне это не по карману — ни сегодня, ни завтра. Но даже будь у меня денег что песку морского, они бы меня не спасли, ведь, очнись я хоть на секунду, все бы стало ненужным: пьянство, нищенство, мучительное вставание по утрам, выход из дому, каждое мое движение и вообще вся моя жизнь.
В предутренние сумерки меня будит ледяная стужа: оказывается, назюзюкавшись и не имея сил дотащиться до дома, я ночевал на мостовой. Земля холодная, как остывшее тело покойника. Лицо мое одеревенело от мороза, руки и ноги занемели. Даже ругнуться нет сил. Сперва я шевелю руками очень осторожно, боясь, как бы они не сломались, затем начинаю быстрее и быстрее хлопать себя по бокам. Немного оклемавшись, я отправляюсь в гавань в надежде раздобыть что-нибудь съестное. Сколько бы я по дороге ни рылся в карманах, денег не прибавляется — пусто, ни гроша! Ну и холод, думаю я, и от этих мыслей меня пробирает еще больший озноб. Я пускаюсь бежать, но бег мой не долог: для хорошей пробежки я слишком слаб. Иногда я задерживаюсь у какого-нибудь трактира, уже открытого в такую рань, и жадно втягиваю носом водочные пары. Они придают мне немного бодрости. По крайней мере мне так кажется, когда я стою у дверей и гляжу на свое отражение в грязных окнах — синие тонкие губы, заострившийся нос; стоит мне провести рукой по волосам, как перед глазами начинают кружить тощие серые птицы. Из трактира падает желтый дымный свет, образуя на земле яркий четырехугольник. В нем черный силуэт — моя тень. Глазные яблоки мои похожи на большие желтые пергаментные шары, и меня преследует неотвязный страх, что они вывалятся и я, ослепнув, останусь на утренней мостовой. Ужас гонит меня прочь. До гавани рукой подать, но дорога кажется мне бесконечной. Из подворотен и котлованов выползают калеки, бродяги, нищие. Я от них абсолютно ничем не отличаюсь: я состою из одного лишь голода, и в них тоже ничего, кроме голода и инстинкта жизни, не осталось. Пусть ты исчезнешь — эта улица все равно не вымрет, думаю я, все равно по ней будут слоняться такие же, как ты, небритые и грязные шелудивые люди, никто не заметит твоего отсутствия, потому что другой займет твое место и будет исполнять твою роль, как ты, — плохо или хорошо, — уж так повелось меж людьми. Наступающий день висит над городом давящим облаком. В небе, высоко над самыми высокими башнями, уже рассвело, и в лучах солнца поблескивают парящие частички сажи. Я попадаю в засаженный диковинными деревьями большой приморский парк с концертной эстрадой посредине. Все заросло бурьяном, и только посыпанная галькой главная аллея хранит следы танцевальных вечеров, бывших тут в лучшие времена. На садовых скамейках потягиваются спросонья бродяги, складывают одеяла, плащи и щурятся на раннее солнце. Быстро и молча они хватают свои пожитки, спешат на набережную, надеясь разжиться какой-нибудь едой. Однако большинство поспевает к шапочному разбору. Те, что пришли сюда первыми, подобрали все объедки, после них осталась уж вовсе несъедобная дрянь, да и ту давно растащили чайки. Эти птицы, некогда радовавшие мне глаз воздушными играми и стремительными падениями, со временем стали для меня символом голода. Ночами я просыпаюсь, разбуженный кошмаром: крики чаек и всюду в темноте их жадные клювы.
Ранним утром залитая солнцем бухта кажется широким, почти четырехугольным зеркалом. На белой дымящейся воде стоят черные трапеции кораблей. По склонам гор лениво поднимаются сонные облачка тумана. Я смотрю на маяки по обеим сторонам входа в гавань. В эту пору суток они прекращают свое предостерегающее мигание. В открытое море, гудя, выруливают лоцманские катера. Вдали яркими золотыми точками сверкает водная гладь. В твоих глазах тоже сверкают точки, думаю я, красные и изумрудно-зеленые в радужке; опустив веки, я слышу, как о волнорезы бьется прибой, я дышу, дышу в такт моря, и, когда волны набегают друг на друга, во мне поднимается какое-то неизъяснимое чувство — счастливая боль, болезненное счастье, — и я изо всех сил сдерживаю себя, чтобы не разрыдаться. В такие минуты я уже не жалкий бродяга, и все это — безработица, голод, нищенство — остается позади. Ты подкидываешь монету, думаю я, она переворачивается в воздухе, орел-решка, орел-решка, падает, катится по земле и наконец ложится не на ту сторону, да так быстро, что и заметить не успеешь. Сунув руки в карманы, я часами стою неподвижно и смотрю на восходящее над морем солнце.
Когда я чувствую в себе достаточно сил, я отправляюсь в порт, к угольной стенке. Бывает, на час-другой и мне дают работу. Долго кидать уголь я все равно не могу. Лопаты тяжелы и захватывают разом чуть ли не полцентнера, во всяком случае мне так кажется. Получив наряд, я раздеваюсь, повязываю нечто вроде фартука и взбираюсь на черную скользкую насыпь. Бросив первую же лопату, я покрываюсь испариной. Пот смешивается с угольной пылью. Корабль и люди, горы и башни — все плывет у меня перед глазами. Я закрываю их, чувствую, как к горлу подступает тошнота, кидаю уголь вслепую, с остервенением, но угольная гора не уменьшается, не желает уменьшаться, однако я должен заставить ее исчезнуть — как чародей, я должен заставить ее исчезнуть, потому что платят мне не за часы, а за центнеры. Иногда я делаю короткую передышку, бросаю взгляд на голые скалистые склоны, которые кончаются в вышине острым гребнем, и на небо, чью голубизну не согревает даже солнце.
— А ну давай! Шевелись! — орут надсмотрщики, заметив, что я отдыхаю. Я поспешно нагибаюсь и снова кидаю уголь. Времени поразмышлять у меня хоть отбавляй, на это грех жаловаться. Даже когда я думаю, что ни о чем не думаю, я все равно думаю, хотя бы о том, что не думаю ни о чем, и так тянется минута за минутой, я устал, мечтаю кончить работу, остановиться, но — не могу. При загрузке угля мне иной раз бывает удивительно покойно. Меня больше не существует, я — это не более чем непрерывное движение рук, сощуривание глаз и глотание пыли. Когда угольная куча наконец исчезает в корабельном трюме и на каменных плитах пирса остается лишь черное круглое пятно — свидетельство того, что куча действительно была, — я стою с лопатой посреди черного круга и тупо смотрю под ноги: никак не верится, что всю эту работу проделал я, что теперь я свободен. И так я стою, пока кто-нибудь не толкнет меня в плечо и не сунет мне несколько монет — мой заработок.
Потом я тащусь в какой-нибудь тихий уголок, где, подложив под голову пиджак, засыпаю или просто гляжу на кутерьму портовой жизни. Из ржавых пятен на бортах демонтируемых судов возникают причудливые картины — передо мной простираются то пустыни, то дымящиеся на морозе болота, и все время я один, одинокий, заблудший, и вот, несмотря на бесконечную усталость, я бегу дальше, гонимый страхом, я бегу, бегу из последних сил, пока не окажусь в каморке, где, вжавшись лицом в тюфяк, погружаюсь в непроглядную темень.
Заработанные деньги на несколько дней выбивают меня из колеи. Потом я возвращаюсь к привычному образу жизни и вновь прошу подаяния. Или отправляюсь в гавань — часам к трем утра. В это время как раз причаливают рыбачьи баркасы. В неразберихе и бедламе выгрузки, сетей, баканов и ящиков я хожу кругами, как голодная кошка, и караулю удобный момент, чтобы стащить рыбу. К сожалению, я не единственный, кто добывает пищу подобным способом. Спускаясь тускло освещенной улицей в порт — с боков все черно, и только впереди пляшут блики качающихся на ветру фонарей, — я всегда надеюсь, что туда устремилось не слишком много любителей даровой рыбы. Чем больше их набежит, тем бдительнее будут рыбаки, а значит, и украсть будет сложнее. Но мои надежды никогда не сбываются. Всякий раз у причала стоит целая орава голодных босяков и смотрит в темную морскую даль, откуда скоро появятся баркасы. С моря дует ледяной ветер. Волны громко хлопают о понтоны. Порой и без того окоченевшую толпу мочит мелкий дождик. Я присаживаюсь на сваленные поблизости канаты, натягиваю на голову плащ и до подхода баркасов пытаюсь покемарить. Другие тем временем тихонько переговариваются, притоптывают ногами и ругаются.
А потом вдруг у горизонта, прыгая на волнах, возникают красные и зеленые огни сигнальных фонарей; толпа приходит в движение: «Идут! Идут! Смотрите, идут!» Над темным пирсом свищет ветер. Приход баркасов — это всегда своего рода спасение. Фонари на суденышках становятся больше, вот уже видны черные контуры надстроек — значит, совсем скоро баркасы уткнутся в причал.
— Помощь не нужна? — спрашиваю я рыбаков, занятых швартовкой.
— Катись отсюда! — несется в ответ.
Я прекрасно знаю, что мой вопрос не имеет смысла, но всегда задаю его. Может, просто для очистки совести, для самооправдания. Я ведь хотел поработать, думаю я, слоняясь между огромными ослизлыми кучами рыбы и выжидая удобную минутку. Рыбаки, топая резиновыми сапожищами, сходят на берег, таскают ящики и грозят кулаком. Я делаю вид, будто не замечаю их угроз, с нарочитой задумчивостью смотрю на искристо-серые сумерки над морем, потом вдруг молниеносно наклоняюсь и бегу прочь. Под ярким уличным фонарем я разглядываю свою добычу: чешуя блестит, глаза стали воскового цвета, в раскрытых жабрах немо стоит смерть. Пока я устало бреду домой, занимается рассвет. Из окон доносятся детские крики, позвякивание посуды и заспанные женские голоса. Скоро выглянет солнце, кое-где из фабричных труб уже валит дым.
Рыбу я готовлю лишь около полудня — сразу по возвращении сил у меня нет. Я только заворачиваю ее в газету и бросаю в угол, где стоит спиртовка. Затем валюсь на тюфяк и пытаюсь уснуть. Чем позже я начну день, тем лучше. Беготня по городу не только ужасно изматывает, но и возбуждает зверский голод. Если я встану в полдень, то наемся рыбой на целый день. А что мне еще надо? Лежа на тюфяке, я думаю о рыбах в море. Мне снится бессчетное множество рыб, плывущих по полю. Я выскакиваю из укрытия и глушу их палкой. Отрываю им головы и пожираю их. Окровавленный, я возвышаюсь посреди зеленых, дрожащих на ветру стеблей. Или мне снится пароход, который бороздит городские улицы и вдруг возникает под моим окном. Воздух тяжел от копоти, вдали мерцает маяк, за кормой пенится вода, мы приближаемся к выходу из гавани — и вот уже город позади. Неожиданно начинается бесцветный промозглый дождь. Спросонья мне часто кажется, будто я нахожусь в корабельном трюме, в самом низу, почти у киля, отделенный от черной бездны всего лишь несколькими досками и балками. Только привычное движение руки к бутылке возвращает меня в реальный мир, я начинаю хохотать и все смеюсь без удержу, когда вспарываю рыбье брюхо и вытаскиваю плавательный пузырь. Пока рыба жарится, я откидываю мешки-занавески и впускаю солнечный свет. Я о чем-то думаю, но только не о будущем.
Иногда мне кажется, что я вообще выпал из времени. У меня было прошлое — я его потерял. Впрочем, пожалуй, нет: моя жизнь — это бесконечная вереница вчерашних дней, и ничего в ней не меняется. Я, в сущности, перестал быть реальным. Я — игра собственного воображения. Бессвязно и бесцельно вспоминаю разные пустяки. Иных доказательств у меня нет, нечем подтвердить, что я прожил жизнь. К примеру, мне видится: вот я сижу за столом, стол круглый, и, судя по звукам оркестриона, доносящимся до меня, нахожусь я в кабачке, в распивочной. Я замечаю перед собой стакан водки — маленький, затертый прикосновением тысяч пальцев, потерявший прозрачность стакан; я нюхаю водку, но не пью, только разглядываю стакан и свою руку возле него, тяжелую и вялую. По столу бежит муха. Я прогоняю ее. Она улетает, но тотчас возвращается. Много раз я пытаюсь прогнать ее, прежде чем настигну одним быстрым шлепком.
Или мне видится такая картина: вот я сижу и пишу, заполняю карандашным огрызком какую-то анкету — наверное, на бирже труда, на призывном пункте или в полицейском участке; я без конца пишу свое имя и дату рождения, делаю аккуратные прочерки в графах, где встречаю вопросы, на которые не знаю ответа, но вот читаю: СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, ДАТЫ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ — и захожусь от смеха. Откуда-то выныривает форменная фуражка, лица под ней не видно. «Извольте вести себя прилично!» — говорит чей-то голос, а я хохочу еще сильнее, я не в силах справиться с собой, затыкаю рот кулаком, но фуражка рявкает: «Пьяная скотина!» Меня спускают с лестницы и пинками выталкивают на улицу. Лежа на земле, я смотрю на дома и на людей, высоко и стройно уходящих в небо.
Порой возникает такое чувство, будто я прожил в этом городе всего несколько мгновений, будто все это неправда — и безработица, и ничегонеделание, и нищета. Тогда я выскакиваю из комнатушки, сбегаю по лестнице, смотрю на людей и машины, а затем опрометью кидаюсь назад в дом. Недавно меня разбудил бой часов на башне. По старой привычке я сосчитал удары. Пробило двенадцать раз, двенадцать — я точно помню. Полдень, подумал я, время вставать, и, осушив полбутылки, выбрался на воздух. Кромешная тьма, кругом ни души. Я застыл в дверном проеме, словно каменное изваяние. Мимо шел полицейский. Увидев меня, он остановился, широко расставил ноги и похлопал дубинкой по ладони. Я хотел что-то спросить, но губы не слушались, и тогда я сказал:
— До чего же холодно!
Полицейский присвистнул сквозь зубы, тихо и насмешливо, как крыса, затем повернулся и, качая головой, зашагал дальше. Я смотрел ему вслед, пока он не исчез за углом, мелькнув в ярком свете фонаря.
Всякий раз, когда я прохожу мимо какой-нибудь фабрики, в первую минуту меня так и подмывает шмыгнуть в ворота, мимо вахтера, чья бульдожья ряшка виднеется за стеклом проходной. Мне хочется сразу пойти в отдел найма и подать заявление. Чтобы убедиться в безупречности своей одежды, я осматриваю себя с головы до ног, но вижу замызганную рубашку, засаленный пиджак, вытянутые на коленях брюки и стоптанные ботинки, носки которых нахально вылезают из-под бесформенных манжет. Я не останавливаюсь. Ворота остаются позади. Я сжимаю кулаки. Что-то надо делать, думаю я, что-то надо делать. Тогда я ускоряю шаг, голова горит, и я боюсь самого себя.
Соседи считают меня сумасшедшим, и, как знать, возможно, они правы. Частенько я встаю в мрачнейшем настроении, и вдруг мне приходит в голову мысль:Сегодня ты должен съесть апельсин! и снова: Сегодня ты ДОЛЖЕН съесть АПЕЛЬСИН! и опять: СЕГОДНЯ ТЫ ДОЛЖЕН СЪЕСТЬ АПЕЛЬСИН! Я так и вижу воочию апельсин, и, кажется, все счастье мира заключено именно в этом апельсине. У меня нет денег на апельсин. Целый день я ношусь по городу, целый день я вынужден носиться по городу в поисках апельсина. Напрасно я внушаю себе:ДА НЕ НУЖНО ТЕБЕ НИКАКОГО АПЕЛЬСИНА!напрасны мои попытки напиться, запереть себя в комнате — все тщетно, неведомая сила гонит меня исполнять желание, разъяренной осой влетевшее утром мне в голову. Сегодня это апельсин, завтра — кусок колбасы или яблоко. Если я и не достигну никогда предела своих мечтаний, так достигну по крайней мере другого предела — изнеможения и распада.
Соседи утверждают, что я сумасшедший, и, возможно, они правы. Часами я сижу в гавани и смотрю в морскую даль. Мне нравится там, даже когда — как сейчас, осенью — льет дождь и по лицу хлещут черные капли. Вечером в тени западного предгорья море принимает изумрудный оттенок, а в восточной части, куда падают последние солнечные лучи, сверкает золотым блеском. На берегу рыбаки готовят снасти. Все идет своим чередом. И роптать не на что. Могло бы, наверное, быть иначе, но иначе не стало. Это печально, думаю я, но многое на свете печально. Вот мое единственное и притом ложное утешение.
Критика