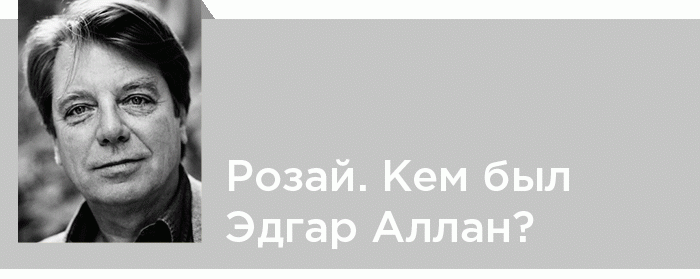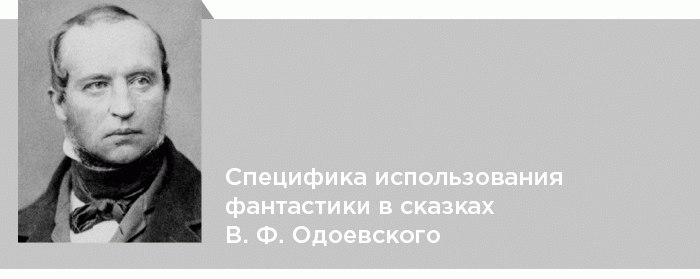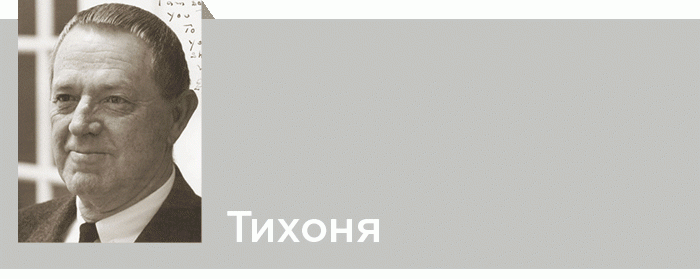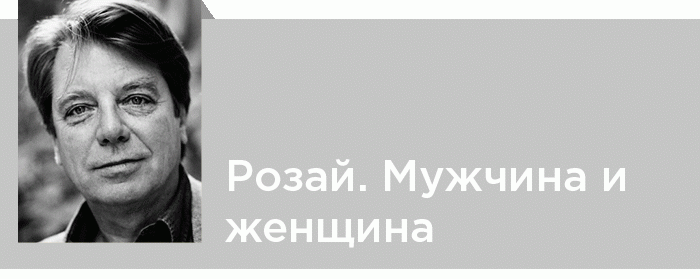Петер Розай. Уход

В один из октябрьских дней прошлого года я собрался в дорогу. Мысль о путешествии занимала меня давно, но лишь в тот день я твердо решил осуществить свое намерение. Говоря здесь о своей решимости, я, признаться, кривлю душой, ведь, по правде-то, я ничего не решил, а просто подчинился обстоятельствам, которые вынудили меня сняться с якоря. Дело в том, что накануне наш десятник объявил, что по причине намеченного сокращения рабочих мест во мне тут больше не нуждаются. В первую минуту это известие прямо-таки ошеломило меня, как-никак я проработал на этом дровяном складе долгие годы. Однако потом я усмотрел в словах десятника перст судьбы. Что, спрашивается, забыл я в Голлерне, раз у меня отняли работу? Голлерн — это маленький провинциальный городишко, рабочие места в нем наперечет, и, чтобы найти поденную работенку, надо быть просто счастливчиком. Конечно, я мог бы попытать удачи, и очень даже вероятно, что мне бы и подфартило — знакомых у меня в городе полным-полно, но я сказал себе: ты ничего не сыщешь, ты ничего не сыщешь, ты ничего не сыщешь, — и начал поторапливать себя в дорогу, сделав таким образом свое дальнейшее пребывание в Голлерне невыносимым. Повстречайся мне тогда кто-нибудь и скажи: «Слыхал я, ты ищешь работу, пойдем, я беру тебя к себе», — боюсь, мое путешествие так бы и кончилось ничем — настолько шатким было мое решение. Но такого предложения не последовало (здесь я должен сознаться, что всячески провоцировал его, снуя как заведенный взад-вперед по главной улице Голлерна), и я вправду собрался в путь или, лучше сказать, заставил себя собраться — хотя бы для того, чтобы сохранить остатки самоуважения. Я в точности помню то утро: было, наверное, часа четыре, когда я проснулся с чугунной головой и мелкой дрожью во всем теле. Накануне вечером я, должно быть из малодушия, напился вдрызг, чем, вообще-то, в нормальной жизни никогда не грешил. Я лежал в постели и глядел в окно. В сумерках рождалось утро. По запотевшим стеклам сбегали капельки. Так я провалялся с добрых полчаса, зарывшись в тепло одеял. Я скрестил руки на груди, крепко обхватив пальцами локти. По улице с грохотом пронеслась машина. Этот грохот словно означал знамение свыше, а то и приказ — я мигом вскочил, наспех умылся, механически оделся, слегка дивясь естественности, с какой двигались мои руки и ноги, затем сгреб в кучу деньги и документы и, ни разу не оглянувшись, вышел из дому.
Стоял солнечный, хотя и по-осеннему прохладный день. Городок еще спал. Ставни на окнах были закрыты. Шнырявший меж домами ветер гнал облачка пыли. Несколько кошек, задрав хвост трубой, крадучись завернули за угол. Одна кошка хотела перебежать мне дорогу, но я шуганул ее. Эта неожиданная вспышка злости была единственным движением души, нарушившим то состояние прострации, в котором я пребывал. Мне и сегодня непонятно, с чего это я тогда взбесился, ведь я вовсе не суеверен и всегда потешался над теми, кто усматривает в разных там черных кошках и кофейной гуще указание на грядущие перемены в своей судьбе. Я быстро шагал по безлюдным улочкам, потом пересек железнодорожные пути и, миновав дровяной склад, где раньше работал, вышел в открытое поле. Над лугами стлался легкий туман, сквозь который местами уже начинало проступать голубое небо. День обещал быть прекрасным, но даже это меня не радовало. Если бы в ту минуту кто-нибудь увидел, как я бреду по полю — с опущенными плечами, угрюмый, злой, с маленькими красными глазками, — он вряд ли предположил бы во мне человека, по своей воле собравшегося в путешествие, о котором мечтал полжизни. Непредвзятый наблюдатель наверняка принял бы меня за никудышника, которого только что, перед самым закрытием, выставили из кабака и который, не имея своего угла и злясь на себя самого и на весь свет, вступает в новый день, не зная, где и как он его окончит. Когда мне повстречалась конная подвода и крестьянин поприветствовал меня с козел, я только втянул голову поглубже в плечи и прибавил шагу. Едкий запах навоза, которым была нагружена телега, еще долго преследовал меня. На первой же развилке я, сам не знаю почему, повернул налево. Возможно, я избрал это направление только потому, что там, шагах в десяти от перекрестка, торчала каменная статуя какого-то святого, увешанная старыми, давно увядшими венками, которые с легким шорохом терлись на ветру друг о друга. Я бросил камень в одну из продолговатых серых луж, стоявших в разъезженной колее. Шоссе, окаймленное по-осеннему голыми вишнями, похожими на метелки, вело почти напрямик к лесистой вершине, еще сумрачной в тени высоких гор, громоздившихся по краям долины.
Здесь, пожалуй, уместно сказать несколько слов о расположении этой долины и в особенности моего родимого Голлерна. Долина эта представляет собой широкую впадину ледникового происхождения, у реки немного заболоченную. В конце долины горы поднимаются не отвесно, а как бы уступами. Сначала это всего лишь поросшие густым лесом холмы, переходящие затем в более крутые склоны, увенчанные острыми скалами, однако отсюда, снизу, с «лягушачьей перспективы», эти красоты рельефа глазу недоступны. Пики гор настолько далеки от низины, что даже в самые ясные солнечные дни выглядят белесыми треугольниками, уходящими в голубое небо. Глядя на них, никто не поручится, существуют ли они на самом деле или же это просто миражи. Правда, тот, кто родился и живет в Голлерне, едва ли задумывается над этим, если он вообще способен над чем-либо задумываться. Голлерн — это жалкий городишко, про который даже самые рьяные его патриоты не станут говорить, будто он исполнен какой-то особой красоты или значимости. Можно пойти еще дальше и сказать, что, не будь Голлерна вовсе, мир бы от этого ровным счетом ничего не потерял. Конечно, если подходить с такой меркой, то окажется, что лишь немногие места на земле имеют право на существование. Но тот, кому выпало безвылазно жить в захолустье вроде Голлерна, на подобную беспристрастность не способен. Бедняга лишь замечает невыносимую сутолоку голов, домов и улиц, ему ненавистны все эти приевшиеся запахи, голоса и шаги, он более не в силах терпеть людей, с идиотской настойчивостью исполняющих свою ежедневную работу. Поглоти земля Голлерн со всем его народонаселением, добей огонь все уцелевшее — во мне вряд ли шевельнулось бы чувство жалости, напротив, я бы от души порадовался такой славной катастрофе. Благодаря ей я бы разом, палец о палец не ударив, избавился ото всех своих пут и обязанностей и, отряхнув с одежды пепел и сажу, подался бы на все четыре стороны. Этого, однако, не произошло. Еще на той первой развилке меня стали одолевать сомнения: а стоило ли вообще уходить? И не лучше ли повернуть обратно? Я долго смотрел на Голлерн, лежавший за лугами и полями долины. Над крышами поднимался дымок. Завтрак готовят, подумал я. При воспоминании о завтраке, который мне изо дня в день подавала хозяйка, я почувствовал такое омерзение, что опустил глаза и во весь дух побежал по направлению к молчаливой зеленой вершине.
Но все было напрасно: Голлерн не шел у меня из головы. Я видел перед собой прямую пыльную главную улицу. Один дом лепится к другому. Не будь на них номеров, ни за что не догадаться, в каком конце улицы находишься, настолько одно похоже на другое. Большинство домов построено руками их обитателей. По таким мелочам, как, например, узкие, состоящие сплошь из цветочных грядок палисадники, пестрые флагштоки, флюгера и цветочные ящики, украшающие почти каждый дом, сразу видно, сколько тут вложено любви и как горды люди своими норами. Может быть, именно эта выпирающая наружу гордость и есть самое несносное в этих домах, потому что на самом деле в них нет ничего такого, чем бы можно или должно гордиться. А может быть, это всего-навсего зависть, травящая душу тому, кто глазеет на эти чистенькие мещанские дома, а сам ютится в какой-нибудь конуре и не в состоянии выстроить такой домик скорее из-за полнейшей бездарности, чем из-за нехватки денег, прилежания или предприимчивости. Что до меня, то я никогда не мог представить себе жизни в этаком домике — с женой и чадами. Конечно, это вовсе не означает, что мне неведома тоска по жене, семейному уюту и порядку, но мне всегда было достаточно посмотреть разок на эти дома и их обитателей, чтобы убедиться: я не вынесу жизни, которая основана на пресловутой узости мышления, обыкновенно именуемой самодовольством. Этот факт частенько приводил меня в уныние. Во всяком случае, до того как я отправился в путешествие, жизнь моя текла среди голлернских домов, на голлернской улице. От главной улицы ответвляются многочисленные переулки и вскоре исчезают в открытом поле. Если смотреть в них со стороны центра, то, словно в окне, увидишь поля и пастбища, начинающиеся сразу же за домами. Взглянешь туда, и прямо не верится, что стоишь в самой середине города. Может, это вообще одна из наиболее примечательных черт Голлерна: всюду с болью сознаешь его границы, всюду буквально через два шага упираешься в окраину. В Голлерне нельзя затеряться, как, допустим, в лесу, в безлюдных горных долинах или в каменных дебрях больших городов. В Голлерне ты обречен смотреть лишь на то, что рядом с тобою, ведь такая штука, как «задний план», здесь попросту отсутствует. Хочешь жить в Голлерне — мирись с этим.
Погруженный в эти вот мысли, я порядком удалился от города. На полях рассеялся туман. Полосы кустарника, в здешней местности уже изрядно облетевшего, отделяли одну пашню от другой и, казалось, были опутаны тонкой серо-голубой паутиной. Капли росы срывались с веток вишневых деревьев и в тишине громко шлепались на землю. С темного перелога взлетела стая ворон и, то кидаясь врассыпную, то вновь соединяясь в черный шумливый рой, устремилась к лесистому холму, куда направлялся и я. Холм лежал передо мной, как зачерствевшая буханка хлеба. Макушки деревьев на холме были неподвижны. Они же должны качаться, подумал я, ветер-то вон какой сильный! Я послюнявил палец и поднял его вверх. С одной стороны палец начал подмерзать. Значит, ветер дул с запада. Я пристально смотрел на деревья и, чем дольше вглядывался, тем больше убеждался: да, макушки качались, поначалу еле-еле, потом все сильнее и наконец с такой силой, что я уж опасался, выдержат ли они напор ветра. Однако они стояли крепко. Да, крепко. Мне прямо слышалось завывание ветра. Но стоило опустить глаза, как все вокруг стихало. Если в отчаянии решился не терпеть более, а бежать, подумал я, то беги. Что толку от прекраснейшей квартиры, милейших соседей и мерного дыхания окружающих тебя вещей, шкафов, столов и кресел, что толку от надежды на долгую и, вполне возможно, счастливую жизнь, коли сейчас и здесь жить решительно невмоготу, коли это самое «сейчас и здесь» для тебя нестерпимее всего на свете. Я остановился и посмотрел поверх волнистой местности на дома Голлерна: их контуры, теперь особенно четкие, вырисовывались на холодном ясном небе. Голлерн — это Голлерн, подумалось мне, а я — это я, и между нами невозможен никакой мир, никакой компромисс, только «или он, или я», да, собственно, так между нами всегда и было заведено.
Перила моста выглядели сверху как ограничительные линии беговой дорожки. Передо мной открывалась широкая, плоская лощина, по которой змеилась река. Навалившись всем телом на перила, на мосту стоял какой-то человек и задумчиво смотрел на серо-зеленую воду. Над рекою поднимался пар, и в лучах солнца иногда вспыхивали маленькие радуги. Человек стоял почти на середине моста и плевал в воду. Он не заметил моего приближения. Казалось, у противоположного берега перила сливаются воедино. Когда я поравнялся с человеком, он вдруг поднял голову и спросил, махнув рукой в том направлении, откуда я пришел:
— В Голлерн — туда?
— Да, — ответил я, — туда.
На песчаных речных отмелях торчал густой бурый кустарник, взъерошенный после наводнения. Среди россыпи камней, как башня, возвышался огромный белый валун.
— Мне в Голлерн, — сказал человек.
Я уже удалялся от него.
— Голлерн там! — крикнул я еще раз ему вдогонку с другого конца моста. Из-за шума реки человек, наверное, не расслышал моих слов, потому что больше не обернулся, а уверенно зашагал вверх по отлогому склону. Так я в последний раз произнес слово «Голлерн».
Я шел целый день, без передышки. Дорога петляла в густом лесу среди обрывов, уходя все выше и выше. По пути мне попался лесопильный заводик. Я изо всех сил колотил в двери и ставни, но никто так и не открыл. В канале, подводившем ручей к двигателю пилы, неслась холодная прозрачная вода. На камне валялась пригоршня ржавых гвоздей. Убедившись, что на мой зов никто не откликается, я пошел дальше. За несколько часов пути мне не встретилось ни души.
Под вечер, с наступлением сумерек, я добрался до маленькой горной деревушки Трайбах. С первого же взгляда она произвела на меня самое удручающее впечатление. При слове «деревушка» невольно представляешь себе Трайбах по меньшей мере таким: церковь или площадь, а вокруг них уютная горстка домов, мысленно видишь липы, общинные здания и тому подобное. Однако в Трайбахе ничего такого и в помине нет. Составляющие его десять-пятнадцать домов как бы зажаты в угрюмой расселине среди подступающих со всех сторон отвесных скал. Как я позднее узнал в трактире, Трайбах возник на месте бывшего поселка лесорубов. Строили времянку, а вышло — как это часто случается в нашем мире, — вышло нечто вековое, окончательное. Такое окаменение половинчатых решений вызывается убожеством, беспомощностью, апатией и другими обстоятельствами, которые в ретроспекции выглядят прямо-таки гротескно. Муха, угодившая в клей, еще какое-то время сучит лапками, прежде чем покориться судьбе, — так и жители Трайбаха, наверное, поначалу предпринимали все возможное, чтобы выбраться из этого безрадостного места. Но шли годы, и трайбахцы давно примирились со своей участью — это, кстати, тоже общечеловеческое свойство — и теперь даже горды тем, что корпят вот здесь на горных кручах, среди густых непроходимых лесов год за годом и, наконец, всю жизнь. Попробуйте только намекнуть им на те возможности, которые в любое время доступны обитателям других мест, — они тотчас с негодованием отмахнутся от вас. Об этом они и слышать не желают. Если же тем не менее вы будете и дальше толковать им об окрестном мире, они и вовсе обозлятся, схватят свои шапки и рукавицы, швырнут на стол монеты за пиво и, не попрощавшись, уйдут из трактира. Кивнут только трактирщику, и во взгляде мелькнет что-то заговорщицкое, словно они хотят сказать: «Когда же ты наконец выставишь этого заезжего наглеца?»
Так вот, я пришел в Трайбах под вечер. С тихого, серого неба падали крошечные, спрессованные морозом снежинки. Окрестный лес поглощал шум моих шагов. Тусклый свет последних дневных часов все более сгущался во тьму. Щебень, которым была усыпана дорога, подмерз. Оказалось, что моя одежда, в долинном Голлерне вполне соответствовавшая сезону, здесь, в горах, совершенно непригодна. Мало-помалу во мне крепло подозрение, что, внезапно решившись бежать, я был прав в главном, но что касается многих побочных вещей, то здесь я дал маху. С другой стороны, заглуши я в себе порыв в то памятное утро, я бы наверняка так никогда и не тронулся с места. Стало быть, двинуться в путь, притом немедленно, и уйти прочь было единственно верным решением. Правда, о таких деталях, как одежда и провиант, я не позаботился. Теперь я понял, насколько опасны и даже гибельны могут оказаться для серьезного предприятия всякие мелочи. Человеку, занятому решением какой-нибудь задачи, главное всегда видится неизменным, а вот мелочи с каждой минутой приобретают все большее значение. Затем — весьма скоро — наступает равновесие, и наконец мелочи перевешивают и сами становятся главным, и человеку надо решать: отступить или идти наперекор. Мысль о возвращении в Голлерн я отмел сразу. Страшно уже одно то, что эта мысль вообще пришла мне на ум. Чтобы отвлечься, я начал подшучивать над неожиданными холодами, то и дело выкрикивая слова вроде СОСУЛЬКА или ГРЕНЛАНДИЯ. Раз у меня даже вырвался смех. И все же основную часть пути я шел, стиснув зубы и как бы украдкой шевеля окоченевшими пальцами рук и ног. Если бы не стыд перед самим собой, я бы крепко похлопал себя по плечам и немного пробежался. Но мной завладело какое-то упрямство, дурацкая гордость. Еще немного, и я бы вовсе скинул пиджак и рубашку, лишь бы убедить себя в том, что холод мне нипочем.
Снег валил все сильнее. Из лесу на дорогу вышел человек с топором на плече. Шляпа у него была в снегу.
— Далеко ли до деревни? — спросил я, радуясь, что хоть кого-то встретил.
— Да с четверть часика будет, — ответил он и пошел дальше.
Он не предложил мне составить ему компанию, но я прибавил шагу и вскоре нагнал его. Лицо мое пылало от стыда. Человек тупо смотрел перед собой.
— Снегу-то намело! Да, похоже, наметет еще больше, — сказал я.
— Да-да, — пробурчал он сердито, отряхивая снег с воротника куртки.
Дорога пошла слегка под уклон. Спуск становился все круче, а наши шаги быстрее. Воздух был густ и бел от снега. Лес немного отступил от дороги. Я пыхтел, едва поспевая за моим спутником, как вдруг он рассмеялся.
— Вот мы и пришли, — сказал он, указав во мглу, сквозь которую бешено мчались снежинки. В первый миг я ничего не увидел и решил, что он меня просто дурачит. Только спустя несколько минут я разглядел во тьме еще более темные контуры домов, едва возвышавшихся над землею. Света не было нигде.
— Что это за место? — спросил я.
— Трайбах, — ответил мой спутник, — Трайбах, — и, не попрощавшись, свернул с дороги.
Послышалось громыханье двери, детские голоса и брань женщины. Затем воцарилась мертвая тишина. Я обхватил голову руками и в каком-то столбняке простоял среди дороги минут пятнадцать, не меньше. Если бы я стоял здесь всю ночь, этого наверняка бы никто не заметил. Дом, куда вошел мой спутник, находился в самом начале деревушки. Она располагалась на поляне поперечником не более четырехсот метров и напоминала плотную темную кучу. Когда луна выходила из-за туч, снежные равнины вспыхивали холодной белизной. Сквозь щелочки в наглухо закрытых ставнях пробивались тонкие полоски света. Понурив голову, я вошел в деревню. Там я набрел на трактир.
На следующий день я спозаранку отправился в дорогу. Бесстыжий трактирщик, заломив адскую цену, пустил меня переночевать в общем зале своего заведения. После того как убрался последний посетитель, я улегся в компании старого сенбернара с гноящимися глазами возле затухавшей печки. Усталость после долгого перехода, пахнущее псиной тепло собачьей шкуры и в обилии выпитая водка быстро сморили меня, и я уснул, хоть и лежал на жестком полу. Поутру меня разбудила какая-то старуха, шуровавшая в печке длинной кочергой. Собаке она попросту дала пинка, да и меня, очевидно, постигла бы та же участь, не вскочи я на ноги, напуганный визгом собаки. Мало что соображая, я стал дожидаться трактирщика. Когда, потеряв всякое терпение, я попросил старуху принести что-нибудь поесть, она завопила:
— Ишь ты, жрать захотел! А больше тебе ничего не хочется?
При этом она так яростно колотила кочергой по печке, словно на месте печки был я. Со злости я чуть не бросился на старуху. Не я ли заплатил за эту убогую халупу, да еще такую грабительскую цену?! И вот теперь со мной обращаются как с попрошайкой! Чтобы остыть, я вышел на воздух, а когда собрался вернуться в дом, дверь оказалась на запоре. И я пошел своей дорогой.
За ночь намело много снегу. Даже на дороге он был мне по колено. До меня еще никто не проходил и не проезжал. С горных лесов дул теплый ветер, и оттого снег сделался тяжелым и мокрым. Ждать попутной повозки не имело смысла. Да и случись такая оказия, вряд ли меня подвезут. Ступай себе дальше, подумал я, помощи ждать неоткуда, а если она и существует, то не для тебя. Стоя у края поляны, я еще раз посмотрел на Трайбах. Из труб тонкими струйками вился дымок, ветер подхватывал его в вышине и сгонял в облака, которые повисали клочьями над лесной опушкой, а там и вовсе рассеивались. Если бы не эти струйки дыма, деревушка была бы, вероятно, с первого взгляда совершенно незаметна. Она совсем утонула в выпавшем за ночь снегу. Вон и трактирщик выполз на порог. Я узнал его по черному фартуку, повязанному вокруг огромного, как чурбан, живота. Я был слишком далеко, чтобы он мог видеть меня, и все же в бессильной ярости погрозил ему кулаком.
Около полудня, после многочасового подъема по темному лесистому склону под неумолчную капель, я вышел на плоскогорье, поросшее кое-где мелким кустарником, никакой другой растительности там не было. Навстречу мне дул ураганный ветер, и я продвигался вперед с еще большим трудом, чем прежде. По небу обезумевшим стадом неслись облака. Иногда ветер швырял одно из них вниз, в ущелья, разверстые вокруг плоскогорья, словно темные жаберные щели. Когда между облаками случайно появлялся голубой просвет, я в бессмысленной радости воздевал руки к небу. В эти минуты собственные шаги казались мне слишком короткими, силы — слишком малыми, а вся затея — смехотворной. Я устремил взгляд на одинокую причудливую ель, возвышавшуюся на горном гребне, как дорожный указатель. Несколько раз я сбивался с дороги и по грудь проваливался в снег. Если бы кто-нибудь спросил меня сейчас: «Куда путь держишь?» — я бы устало повернулся по кругу и сказал: «Туда, туда, туда и туда!» Но я никого не встретил.
От ели дорога круто и извилисто шла вниз. Из-под ровного снега, тяжелым настом укрывшего землю, торчали черные скалы-башни, по которым стекала вода. Можно было подумать, что они сделаны из угля или окаменевшего дерева. Со дна ущелья поднимался туман. Было слышно, как в вышине завывает ветер. Чем ниже я спускался, тем тише становилось вокруг. Голова у меня раскалывалась от боли. Я набрал пригоршню снегу и набил им рот. Грохот и шум сходящих лавин меня не пугали. Туман сгущался. Ты все дальше и дальше от неба, подумал я. И вдруг вообразил, что внизу, в туманной долине, притаился Голлерн — я с воплями кинулся в гору. Усталость от быстрого подъема привела меня в чувство, и я повернул обратно. Проходя снова мимо черных скал, я положил руки на камни, и по пальцам заструилась талая вода.
Лес вновь принял меня. При виде темных деревьев, от которых валил пар, меня обуял страх. Мне казалось, будто я вижу, как они дышат, слышу потрескивание растягивающейся и сжимающейся коры. Какой-то зверь — не то олень, не то косуля — стремительно выскочил из зарослей и перебежал мне дорогу. Я долго рассматривал следы на снегу. Затем пошел дальше, проваливаясь в снег, тишину и беспамятство. Снег соскальзывал с веток и глухо шлепался на землю. Несмотря на холод, с меня градом лил пот. Несколько раз пришлось перебираться через замерзшие речушки. Под мутным льдом журчала вода. Я пытался острым камнем пробить дыру в ледовом панцире, но не смог.
Передо мной открылась поляна. До моего слуха донеслись голоса, крики. Середину поляны занимало поросшее камышом заледенелое болотце. Четыре человека резали лед и рубили его на куски. Я слышал пение длинной пилы и твердый стук топора. Заметив меня, люди бросили работу и повернули головы в мою сторону. Эти головы были похожи на крепко-крепко сжатые кулаки. Один из мужиков держал топорик у груди, ухватив его обеими руками. Из бурых зарослей камыша выпорхнула птица. Кругом стоял лес, словно черная монолитная стена.
— Куда ведет эта дорога? — крикнул я мужикам.
— В Зерлесс, — ответил один.
— В Зерлесс, — повторил другой.
— В Зерлесс, — сказали они хором. Для меня это прозвучало как проклятие. Когда я ушел с поляны, позади вновь раздались крики людей и пение льда.
В деревушку под названием Зерлесс я пришел на исходе дня. Вечный сумрак горных лесов уже переходил в ночную мглу. Мои башмаки и штаны насквозь промокли от снега. Домишки Зерлесса стоят на голом скалистом холме, который островком выдается над лесным морем. Одна из сторон холма представляет собой почти отвесную стену. Снег на ней не задерживался, и потому виднелись гладкие коричнево-красные камни. В целом холм казался уродливым горбом из остывающего мяса. Меня нисколько бы не удивило, если бы из каменных складок холма вместо воды сочилась густая бурая кровь. Стоя у подножия и глядя вверх на разъезженную грязную дорогу, ведшую к домам, я заметил здоровенную вороную лошадь, из ноздрей ее валил белый пар. Лошадь во весь опор неслась под гору, а за нею гнались двое мужиков. С испугу я повалился в придорожный сугроб. Крики мужиков вынудили меня поднять голову, и тут я увидел, что на боку лошади зияет кровавая рана.
— Стой! Тпру! — кричали мужики. — Стой!
Лошадь дико ржала, и глаза ее лезли из орбит; кровь широкой дугой расползалась по шкуре до самых задних ног, мускулы которых так выпирали из-под кожи, что казалось, кожа вот-вот лопнет. На развилке лошадь секунду помедлила, а затем, широко раскрыв пасть, кинулась влево и помчалась к лесу. Мужики щелкали кнутами и без конца вопили «стой! стой!». Они бежали со всех ног, однако по сравнению с лошадью, летевшей как стрела, их бег казался черепашьим шагом. За ними поспевал мальчик со связкой веревок через плечо, предназначенных, видимо, для поимки лошади. У него было сопливое красное личико. Он бежал, не сводя глаз с лошади, словно рассчитывая заворожить ее взглядом и заставить остановиться. Я не смог удержаться от смеха.
— Жми педали! — крикнул я мальчишке, но он меня не услышал.
Тяжело дыша, мужики топтались на опушке в явной растерянности, поскольку лошадь давно скрылась в чаще. Когда к ним подбежал мальчик, они набросились на него с кулаками: наверняка лошадь удрала по его вине. Мне было слышно, как он вопил от боли. Всюду на снегу краснели брызги лошадиной крови. Я медленно поднялся по ущелью в деревню.
О Зерлессе лучше ничего не говорить. О Зерлессе лучше помолчать. Скалистый холм обдувают ледяные ветры. Дома стоят по обе стороны дороги, а между ними щиты для задержания снега. Перед домами громоздятся высоченные сугробы. Женщины выплескивают сюда грязную воду, выбрасывают золу и мусор. Кажется, сам бог велел свиньям возиться в этой помойке. Но свиней в Зерлессе нет, зато тут полно визгливой детворы, румяной и чумазой как поросята. Компания таких шалопаев, видимо дожидавшихся, когда приведут взбесившуюся лошадь, оказалась на моем пути. То ли эти ребята с пеленок были приучены к недоверию и коварству, то ли они как-то связали буйство лошади с моим появлением, но встретили они меня враждебным молчанием и даже не пошевелились, чтобы освободить мне дорогу. Глаза их были безразличны и холодны. Едва я миновал их, как они разразились дикими воплями и забросали меня снежками и всякой дрянью. На шум из своих приземистых изб, напоминавших крысиные норы, повыскакивали мужчины и женщины и стали глазеть на меня, даже не прикрикнув на детей, чтобы те унялись. Мужики не вынули рук из карманов, дымящихся трубок изо рта, а женщины, подперев кулачищами бесформенные бока, сдавленно хихикали. Как на грех, именно в эту минуту я поскользнулся в грязной жиже и растянулся во весь рост. Все так и покатились со смеху. Унижение мое было беспредельно. Позади меня дети кричали как безумные. Некоторое время я лежал неподвижно, словно труп. Затем, чтобы встать, я уперся в землю, и между пальцев у меня оказалась какая-то деревяшка — то ли сломанное кнутовище, то ли заборная планка. Я ухватил палку, голова у меня горела, сердце бешено колотилось — и вот я уже на ногах, я был высок, высок и силен, я был великан, орангутан, чудовище, я ринулся на детей, прямо на их красные от крика лица, на их маленькие упитанные тельца. Кого-то я просто сбил с ног, а всех остальных, которые попадались мне под руку, лупил палкой. Когда путь мой стал свободен, до меня дошло, что я натворил. За моей спиной раздались яростные крики, не оставлявшие сомнения, что надо уносить ноги. На минуту я приостановился: зачем, подумал я, висит над лесом это тяжелое и темное небо, зачем торчат, как черные копья, макушки этих деревьев? Потом я рванулся вперед и устремился вниз по склону. Направо или налево? — мелькнуло у меня в мозгу на перекрестке двух дорог, и я побежал, так и не успев принять решения, налево. Сзади пыхтели преследователи. Потом донесся лай собак. К своему ужасу, я увидел далеко впереди двух мужиков, тащивших на аркане вороную лошадь. У меня не было иного выхода, кроме как сойти с дороги. Я прыгнул в поле и испугался, потому что в первую минуту не ощутил под ногами земли. Наконец я почувствовал твердую почву: снег был мне по пояс. Преследователи уже настигали меня. Мужикам крикнули, чтобы они отдали лошадь мальчику, а сами попробовали отрезать мне путь к лесу. Я между тем добрался до пригорка, с которого ветер смел весь снег. Там положение мое стало куда лучше, и я понесся гигантскими шагами к лесу.
Всю ночь я торопливо шел по лесу, уходя все дальше и дальше от погони. Вокруг уже давно все стихло, но мне по-прежнему чудились голоса преследователей. Ночная стужа сковала снег. Деревья скрипели и стонали. Поляна, через которую лежал мой путь, была залита голубым морозным светом. Плывшие по небу облака приоткрыли на мгновение молочно-тусклый ломоть луны. А я все шел, углубляясь в лесную чащу; ночь была слишком светла, чтобы укрыть меня. Под утро усталость вынудила меня остановиться. Прислонившись к дереву, я жевал снег и кору. Тут мне вспомнился Голлерн, а вместе с ним и то, как я очутился здесь, мне вспомнилось мое путешествие, мои планы, но все это находилось в такой невероятной дали, что было мне едва понятно.
Критика