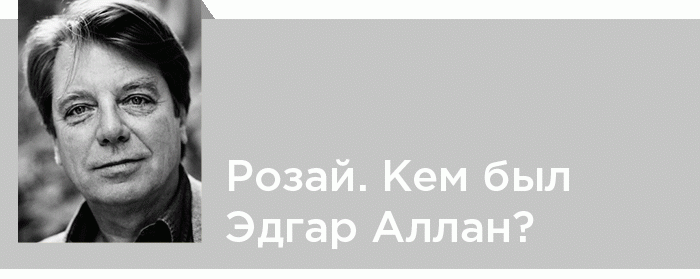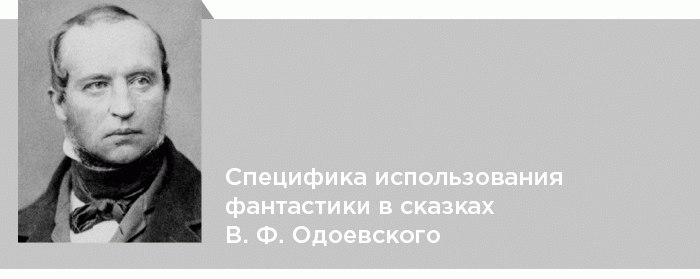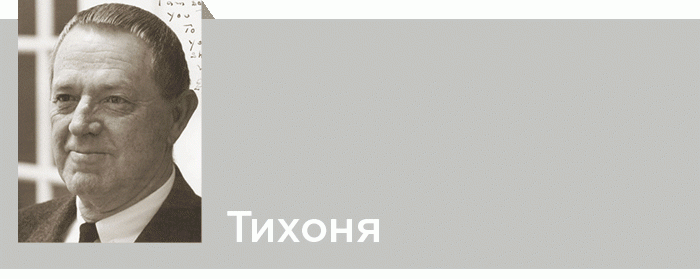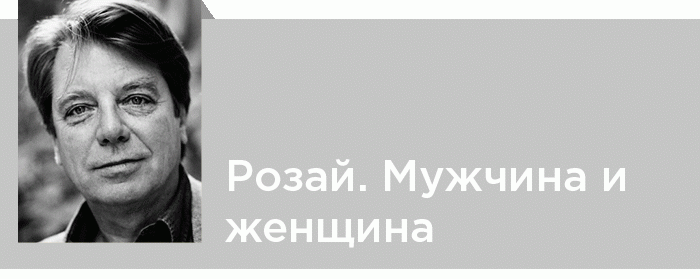Петер Розай. Очерки поэзии будущего

(Отрывок)
I
Все, что есть истина, прекрасно: вот убеждение революционера.
(Тем самым я хочу сказать, что к области прекрасного пришлось бы отнести тогда даже такие вещи, как, например, раковая болезнь, или землетрясение, или извержение Пинатубо. Но тот, кому откроется эта красота, должен будет по-другому взглянуть на всю нашу людскую жизнь.)
Много лет назад я написал в одном очерке: «Научись думать без притворства, по-настоящему, то есть так, чтобы уже ни в чем больше не было уверенности».
Эти слова ободряли меня, я сделал их своей заповедью и старался держаться ее, пусть даже это вредило успеху моих книг.
Процесс мышления всегда интересовал меня не меньше, чем письмо, чем творчество формы. Пожалуй, здесь уместно сделать предупреждение, напомнив то, что Стендаль выразил приблизительно так: «Если процесс мышления не доставляет тебе радости, то мои размышления настроят тебя скорее всего против меня, но, быть может, они дадут тебе предчувствие счастья, которого ты еще не знаешь».
Нет, я вовсе не собираюсь разыгрывать здесь тщеславную роль этакого великого мыслителя. Да и мысли мои слишком часто не имели никакой цели — во всяком случае не вели ни к чему определенному, что можно было бы предъявить как результат — это были скорее поиски, продвижение. Можно ли сказать, что вперед? Куда это, вперед? Издавна я называл себя романтиком человеческих усилий.
«Блистательное заблуждение всегда предпочтительнее, чем тривиальная истина», — говорит в одном из своих афоризмов экономист Шумпетер. Это звучит несколько высокомерно и элитарно, в сущности, очень по-австрийски.
Мой тезис о непритворном мышлении содержит прежде всего личную программу, ободряющий призыв, обращенный к самому себе. Человеку пишущему важно, чтобы ему указали, в чем его задача; слишком уж часто грозит ему опасность впасть в тщеславный нарциссизм. Ведь в конечном счете изолированность и одиночество поэта можно оправдать только тем, что он абсолютнореально идет на риск.
Отказаться от какой бы то ни было уверенности — это значит: каждый раз ставить на карту все.
Такие вещи не совершаются каждый день, возразите вы. Но все же их совершают все снова и снова, говорю я.
Все людские дела суть в конце концов игра. И малая толика действительности, измененной нашим сознанием, преобразованной действительности, та малость ее, которая выпадает из политики, науки, экономики и т. п., являет собою, даже если собрать все по крохам, не больше того, что создает искусство — с его мудрой содержательностью, с его формотворчеством, результаты которого так прочно запечатлеваются в человеческих головах.
В моих записях следует такой пассаж: Я думаю, что художник должен быть беспощадным? Ленивая радость от того, что уже удалось сделать, — вот от чего надо беречься, — и беспрестанно биться над преодолением трудностей, еще не преодоленных.
Записывая эту мысль, я, кажется, начал понимать, в какую игру мы стали бы здесь играть: Вы там, в аудитории, я здесь, за кафедрой, — мне казалось, что по условиям нашей совместной игры мои мысли обречены на то, чтобы приобрести оттенок театральности.
Не скрывалось ли за этим отвратительное, до ненависти доводящее своей основательностью подозрение в том, что игра, которую мы ведем, не позволит мне донести до вас мои мысли, сделать их понятными?
Выскажусь театрально: в этот момент меня охватило чувство безнадежности, которое так хорошо мне знакомо. Очень реальное чувство. Как мне о нем рассказать?
Человеческая ситуация здесь такова, что нам приходится переворачивать каждый камень, чтобы посмотреть, не затаился ли под ним клочок правды.
Такая, назовем это, к примеру: мнительность, проистекает, возможно, еще и от того, что, как художник, я привык упаковывать усилия моей мысли в форму, закладывать их в нее, как в кузов машины: И вот так я обычно отправляю результаты моих усилий к Вам.
Но обращаться к людям напрямик? Не говоря уж о том, чтобы комментировать самого себя. Художник нуждается в форме не в последнюю очередь потому, что строгость расчета помогает ему вытерпеть ту ложь, которая неотделима от всякой речи.
«Никогда не лги», — говорит Троцкий в «Искусстве и революции», это и есть формула спасения. К этому следует добавить: Не лгать — это, правда, чуть легче, чем говорить правду, но все же более лживо, чем не говорить ничего.
Я понимаю, когда рок-звезды и другие мастера развлекательного жанра (Entertainer) изо всех сил стараются убедить людей, что они их любят. Почему они это делают? Не оттого ли, что принято считать, будто бы тот, кто любит, лжет меньше?
«Я люблю Вас всех!» — Если бы я так сказал, это прозвучало бы малоправдоподобно.
Ненависть — и она тоже отражается в облике моих произведений: кривая усмешка; стащить в грязь.
Точнее: ненавидящий или гневный жест — отвернуться, чтобы, наконец, быть одному, типичный жест. Пусть некрасивый, но мне приходится запасаться энергией отовсюду, откуда можно; брать там, где ее избыток, где она бьет ключом.
То, в чем мы больше всего нуждаемся, — это сила, необходимая для того, чтобы придать нашим мыслям смелость, решительность и бескомпромиссную проникновенность.
Я ненавижу вас всех — эта формула полезна. Она дает импульс, побуждающий к мышлению, возможность — неважно от чего — оттолкнуться.
Истекать кровью от ран: — тоже неплохое начало!
Ненависть — это подразумевает холодный, ясный и все-таки жгучий взгляд извне, когда чувствуешь свою отстраненность от «явлений»: «взгляд насекомого».
Если видишь где-то скатерть, разорви ее!
Я прерываю эти компрометирующие изречения, чтобы предложить вам отрывок текста:
Под летучими кровлями из соломы или какого-то тростника сидят на корточках индейцы в пестрых одеждах и обрывают корешки у только что собранных луковиц, маленьких и белых; их связывают в пучки для продажи на рынке.
Лодки, в которые переносят потом мешки с луком, чуть заметно покачиваются на голубой воде. Тут же неподалеку пасутся две лошади и, по лошадиному своему обычаю, отгоняют мух хвостами.
Одну лодку вытащили из воды; корма косо вздымается над неровным берегом; отколотый нос упирается в самую воду.
Из киоска, единственного прибрежного магазина, где не продают ничего, кроме колы и соленого печенья, слышится монотонная музыка. В этих гватемальских заметках мне больше всего хочется рассказать о своей бабушке со стороны матери. Она воплощала в себе принцип, противоречивший взглядам моего отца и служивший для меня защитой. Для меня она была больше, чем человек. Я видел в ней как бы ангела, прилетевшего к нам на Землю из другого мира.
У ангела был огненный меч: рукоять из полированного мельхиора; она искрится, отбрасывает брызги огня и света. Чем-то этот меч напоминает, впрочем, простой предмет домашней утвари, обычный веник для снега, какой можно найти в каждой деревенской кухне.
Начнем со сна: я живу в каком-то отеле; не знаю, где, в Мадриде ли, в Венеции, в Париже? Обстановка довольно помпезная, театральная. Во сне взгляд скользит вдоль ряда просторных комнат; распахнутые створчатые двери или дорогие портьеры отделяют их друг от друга и одновременно соединяют. Какой смысл имеет эта анфилада, я во сне хорошо понимаю: Я должен чувствовать себя уверенно. Может быть, на сцене? Странное желание.
Зачем я приехал в этот город, сон ничего не говорит. Это не имеет значения.
В комнату входит женщина. Ее высокая фигура и лицо тоже скрыты под широкими платками.
Мое хорошее настроение, моя уверенность — всего сразу же как не бывало.
Через какое-то время, позднее, я иду со своим братом по улице на окраине города. Мы что, пьяные? Или это просто места такие безрадостные, что я чувствую себя во сне как с похмелья?
Во всяком случае я рассказываю своему брату историю о женщине и, чтобы передать фантастический характер этой истории, я выдаю ее за сон. Во сне брат говорит: «Но ведь это же наша мать!»
В Гватемале есть такие лавки, где покупатель может посмотреть на товар только через решетку. Продавец со своим товаром сидит как будто в клетке и протягивает оплаченные вещи сквозь прутья решетки. Обычно в таких лавках не продается ничего ценного, всего лишь хозяйственные товары, продукты вроде гречи или риса, мыло, зубная паста.
Индейцы Гватемалы напоминают на первый взгляд прирученных животных. У них тесная связь с почвой, с землей, они любят сидеть пригнувшись или на корточках. Благодаря их яркой пестрой одежде в сочетании с темными, бронзового цвета лицами они не выглядят запыленными или грязными. Они маленького роста и щуплые.
Лицо моей бабушки было круглое, как буханка хлеба, смуглое, почти темно-коричневое, и на нем было несколько родинок, как маленькие бугорки. Ребенком ее однажды забыли в меже на солнце — от этого такая кожа. Глаза у нее были темные и всегда подернуты влажной, как бы бархатной пеленой. — Невысокого роста, округлая, приземистая, она передвигалась как будто на слишком коротких ногах, и линии ее тела были не видны под широкими домашними платьями.
Я не знаю той части Моравии, откуда родом моя бабушка. Моему воображению, пищу которому дают впечатления от Богемии и севера Нижней Австрии, рисуются пологие, ритмично всплывающие над равниной холмы; как бы волны, покрытые сверху редким лесом. Но общий характер местности определяют широкие пахотные поля, среди которых там и сям разбросаны маленькие поселки.
Теперь я выдумал следующую историю: Это должна быть история спившегося человека, который хочет забыть свое прошлое. Он пьет, чтобы забыть, чтобы разрушить свою память и свою способность думать дальше. История начинается с того, что человек этот переезжает в новую квартиру, на новое место жительства. Он все хочет начать сначала. Но когда он говорит о начале, то думает он, по существу, о конце. Как говорится об этом в старинных священных книгах: Где же еще найдет бог место на земле, если не в твоем сердце? И потому: сокруши его, сокруши!
Я начал записывать эту историю в Гватемале, в номере Mayan Palas Hotel в городе Антигуа. Тогда там еще не было так много туристов, как сейчас, это был полуразрушенный городишко с неровными, кривыми улочками, которые, как и сейчас, спускаются по откосу к Аламеде.
Раньше я написал, что отправился в Гватемалу ради того, чтобы вспомнить свою бабушку. Но что если меня привели сюда совсем другие истории? — В ночь на 10 сентября 1541 года, вскоре после того, как из Мексики было получено известие о гибели Альварадаса, великого завоевателя, в нескольких частях города бушевал огонь. Вдова Альварадаса, La sin Ventura несчастная Dona Беатрис, взяла бразды правления, и гранды вручили ей верительные грамоты. В знак траура она приказала вымазать стены дворцов черной глиной. Три дня подряд неудержимый ливень низвергался с небес на Сантьяго, а на четвертый день произошло страшное землетрясение, и город был затоплен потоками воды, переполнившей кратер вулкана Агуа.
Словно в поисках противоядия я вошел в одну из церквей. Там перед жестяной подставкой, на которой горели свечи, перед крестом, на котором был распят Христос, преклонила колени маленькая женщина-индианка. И когда я увидел, как вздымались ее плечи, так тяжело она дышала от истовой молитвы, мои глаза тоже наполнились слезами, и какие-то флюиды прошли между нами или какая-то хорошая, добрая река, уводившая меня все дальше во времена моего детства, когда мы с бабушкой ходили в церковь.
Пора бы внести в мой рассказ какой-никакой порядок. Итак, я сидел в отеле Mayan Palas. Ну, хорошо. Что это был за отель? Кроме громкого названия, ничего особенного. Останавливались здесь, главным образом, фермеры и торговцы с западной возвышенности Верапаз, с тихоокеанского побережья или из Эль Сальвадора, специализировавшиеся на кофе и сахаре. В большом зале (днем он служил гостиной и читальней) устраивались вечера танцев, которые пользовались известным успехом в округе. Музыканты играли маримбу, и мужчины, до тех пор, пока не напивались, вежливо и корректно кружились под музыку с разодетыми дамами, большей частью проститутками. Комнаты располагались по окружности внутреннего дворика; чтобы попасть в них, нужно было пройти под козырьком выступающей крыши, которую поддерживали деревянные колонны.
Во дворике росли обыкновенные растения: лимонные и апельсиновые деревья, большие банановые кусты, фиолетовая и красная bougainvillea, а папоротники и другие вьющиеся растения-паразиты свисали с балок крыши для украшения.
Этот внутренний дворик был лучшим украшением отеля наряду с просторной гостиной, отведенной под вечерние увеселения.
Я свел знакомство с двумя мужчинами, которые, как и я, были в отеле постоянными жильцами. Одного звали Гершель, это был немецкий еврей, бежавший от нацистов; врач, который навсегда остался в Гватемале из чувства человечности. Он лечил индейцев, которые приходили к нему часто из дальних мест.
Второй, по имени Джозеф Кон, был американец, кажется, из Пенсильвании; но это не имеет значения. Много лет назад он приехал в Центральную Америку и в какой-то момент навсегда осел в Антигуа. Его главным занятием было ничегонеделанье. Я познакомился с ним на углу какой-то улицы: хорошо одетый господин с маленькой щетинистой бородкой, он всегда держал при себе серебристую фляжку со шнапсом и постоянно к ней прикладывался. Потом он вытирал губы тыльной стороной ладони.
«Есть на что поглазеть, приятель? — спросил он, улыбаясь; у него были глаза хищного зверя, взгляд бессмысленный и одновременно жесткий; потом он протянул мне бутылку: «Угощайтесь!» Я отказался, но мало-помалу мы, хотя и не без труда, начали разговор.
Первичное ощущение, когда посмотришь вокруг незащищенным глазом, — это полнейшее «тохувабуху», хаос. Чтобы от него защититься, мы всегда держим наготове целый арсенал упорядочивающих моделей, своего рода клеток или сетей, с помощью которых мы пытаемся обуздать действительность, не знающую ни цели, ни правил, проносящуюся мимо нас, хрипящую от напряжения.
Эту операцию усмирения художник должен приберечь под самый конец. Надобно позволить, чтобы действительность буйствовала вокруг как можно дольше, необузданная и дикая, надобно бесстрашно смотреть на ее буйство; уметь отрешиться от своего знания. Отложить в сторону свою способность суждения. Художнику надлежит двигаться туда, где начинается отчаяние, позволить вещам развиваться в направлении кризиса.
Ничего нет хуже, чем готовые решения, предопределенные идеологическими клише; но так же неприемлемы и заранее заготовленные эстетические формулы — вроде того, когда говорят: «Это совсем как у Ван-Гога!»
Люди слишком склонны забывать, что то, что Ван-Гог видел как Ван-Гог, мы видим так, как видим это именно мы: оно серое, пестрое, маленькое, жалкое, покосившееся от ветра.
Нет, я не собираюсь впадать в героически прямолинейную рабулистику. Это, скорее, для Томаса Бернхарда. Мне всегда больше импонировал хитроумный Одиссей, а не отважный, но простоватый Ахилл. Должен ли художник всецело отдавать себя на волю действительности, без сопротивления, подавляя классифицирующую мысль, до последней возможности, до ощущения плененности, когда уже никуда не деться? Нет, этого я не говорю.
Я — сторонник двойной игры.
Слабость, которую я питаю к Одиссею, носит характер амбивалентный: С моей точки зрения, Одиссей окружен лучистой аурой расчетливости. И я тоже, почти что вопреки своей натуре, приучился думать с расчетом; правда, до этого, с самого начала я был как яростный Ахилл, который должен идти на бой и сражаться.
Меня закалили жестокие войны; я к битвам пригоден и в битве хорош,— писал я весьма наивно и хвастливо в одном раннем стихотворении. Не то чтобы стихотворение было плохое, но оно кажется мне слишком поверхностным. Правда, я всегда испытывал восхищение перед творцами великих систем — будь то Кант, Гегель, Маркс или, скажем, Фома Аквинский, — но мне приходится следить за тем, чтобы в уголках моих благоговейно сомкнутых губ не затаилась предательская усмешка.
Для поэта знание — всего лишь субтекст, пусть даже и немаловажный.
Поэту свойственно удивляться; он не разучился испытывать удивление.
Поэт забывает то, что он знает.
Когда работаешь, то движешься между двумя полюсами: абсолютного порядка и абсолютного беспорядка. Следует не терять из виду оба полюса, видеть их одновременно. Чем сильнее напряжение, которое выдерживаешь, тем насыщеннее твое произведение.
Это как облако из слов, написал я когда-то неточно, но довольно наглядно, облако, из которого в один прекрасный момент выпадают единственно нужныеслова.
Да, хрупкость — вот что представляет огромную ценность для художника.
ADHOC к вышесказанному:
1. Когда Шумпетер говорит о том, что блистательная ошибка предпочтительнее банальной истины, он не учитывает, что это не что иное, как тривиальные истины, или иначе говоря: имманентность образует «ход вещей».
Это столь явно элитарное пристрастие к исключительному, лежащему в стороне от проторенных дорог, к невероятному, это для меня нечто очень австрийское, я нахожу, что этот кавалерийский стиль мышления отнюдь не уводит от цели; и достоин любви.
В том же направлении ведет следующее замечание Витгенштейна: «Я думаю, что истинно и по-хорошему австрийское (Грильпарцер, Ленау, Брукнер, Лабор) особенно трудно понять. Оно в известном смыслеутонченнее, чем все иное, и правда, ему присущая, никогда не на стороне правдоподобия».
Кстати, в этот ряд можно было бы включить и Моцарта — или Музиля — или Фейерабенда.
Но что такое правда в художественном произведении, как не ожившее правдоподобие?
Политическая отсталость Австрии в XIX и начале нашего века во всем том, что касается демократии и обусловленного ею бюргерского самосознания, несет, возможно, ответственность за ту черту аристократизма, которую мы видим у многих артистов духовной жизни, выступивших на сцену в те времена; не было бы счастья, да несчастье помогло — вот почему в австрийской культуре почти совсем отсутствует элемент трезвой деловитости, сухого систематизма; или ссылки на common sense.
Мне представляется характерным, что большинство австрийских мыслителей выстраивает как нечто само собой разумеющееся царство свободно парящей фантазии, сооружает своего рода балкон, с которого можно смотреть вниз «на суету мира сего»; и этот фокус дает о себе знать не столько в том, что прямо высказано, сколько «в атмосфере» культуры или благодаря особой номенклатуре.
2. Очевидно, что в нынешней ситуации факт чувственно воспринимаемый и наглядный вызывает наименьший интерес — он обесценивается в условиях господства средств массовой информации; только вводимые нами в область фактов концепты, планы, расчеты, которые требуют работы мысли, — вот что завораживает.
Но ты должен ясно понимать и отдавать себе отчет в том, что искусство, которое тебе импонирует, непременно включает также и глубоко прочувствованные детали.
Попутное замечание: Мысль Освальда Винера об имманентности сводима по существу к следующему: все, что мы думаем и делаем, есть просто программа, заданная своего рода космическому компьютеру — представление, новое по форме и древнее как мир по сути: «в руце божьей».
3. Если угодно, то я — программист, т. е. я создаю программу, которая затем обрабатывается в головах моих читателей; или лучше сказать: я — оператор, я составляю и комбинирую программы, а частично и определяю те правила, по которым их надо использовать.
Но, с другой стороны, и, пожалуй, в наибольшей степени, я — haker, компьютерный вор, тот, кто проникает в чужие, уже существующие системы, берет себе то, что ему надо, а затем строит из этого отчасти свою собственную систему.
Разрушать и строить. Разрушение часто оказывается наилучшим созиданием.
II
«Думать последовательно, по прямой линии для меня мучительно», — сказано в заметках Витгенштейна (или что-то в этом роде). Эти мучения или эта головная боль посещает и меня.
Смотреть, думать, вспоминать — эти процессы для меня сливаются воедино, я переживаю их с «размазанными границами», «грязно» — и это при максимальной отчетливости и строгости границ частных, в том, что касается деталей, малых, изолированных структур — любопытно, что мне это представляется вполне естественным.
Так, например, я уже теперь не знаю больше, с чего начал и должен перелистать написанное назад: как я только что утверждал, у меня не выходит думать по прямой.
Я описываю тут нечто, что можно было бы назвать «исходной ситуацией».
Знать означает вспоминать — так считается. Но все дело в том, хочешь ли вспоминать.
Все зависит от того, куда направлен взгляд. Какую ниточку какой структуры вычленяешь, чтобы по ней двигаться. Какие выводишь следствия.
В области поэтики это означает: Выбор системы счета определяет хореографию истин. Первое предложение — в союзе с моими представлениями о том, что должно следовать дальше, с моей, так сказать, политикой, — определяет весь ход мысли, определяет, кто получит главную роль, а кто маленькую, что выдвинется в центр, а что останется на периферии.
Корректировка замысла, потребность в которой возникает постоянно, всегда влечет за собою и корректировку начальных фраз, первых шагов. Все приходится ставить на новую основу. Меня ничуть не удивляет, что Штифтер, работая над «Витико», должен был внести исправления в первую главу после того, как он написал вторую, а написав третью, снова должен был вернуться к первой и второй, и т. д.
По существу, чаща мира для нас непроницаема. Когда мы хотим что-нибудь сказать, мы изолируем структуры и опираемся на них.
Каждая частица мира, если для удобства изложения нашего взгляда на вещи предположить, что существуют такие частицы, является для нас в тысяче аспектов, предоставляет нам целое игровое поле разнообразных возможностей восприятия, поворачиваясь к нам то одной стороной, то другой. Втиснутая в структуру, впряженная в ее движение — или нам стоит попросту сказать — всюжет рассказа? — частица, деталь приобретает однозначность, обедняется, сводясь к одному значению, которое несет чисто инструментальную функцию, а в остальном является абсолютной иллюзией.
Что такое частица, нам знать не дано.
Но ведь никаких частиц и вообще не существует, мир находится в состоянии непрерывной метаморфозы.
Дело в том, что, как я думаю, работа художника заключается не в изобретении чего-то нового, а в разработке образа, впечатления от мира, может быть, одной ноты, которая передает это впечатление особенно точно, попадает в цель. Требование, которое я предъявляю к художнику, можно было бы формулировать и так: Он должен подарить нам глаза, которые дадут нам увидеть мир.
Конечно, никто не видит мир таким, каков он есть. Я хочу сказать, никто не может претендовать на то, что он со своим образом мира прав, что его видение — правда. В своей работе художник имеет дело с категориями истинности или неистинности лишь постольку, поскольку он берет нашу голову в свои руки, поворачивает ее в какую-то сторону и говорит: Теперь смотри! — Так я размышлял лет двадцать тому назад.
Конечно, вполне мыслимы и полифоническая форма, и рассчитанный на полифоническое повествование творческий замысел художника. Элементом такого повествования является трансперсональный автор; это не новость. Я и сам достаточно экспериментировал с полифонией, например в романе «Ребус». Но всякая полифония ограничивается формой. Впрочем: И бесформенность может быть формой, если я этого хочу.
Одно из любимейших моих представлений — и я не устаю при каждом удобном случае подтверждать его, рискуя, что мои наблюдения могут набить оскомину у окружающих, — состоит в том, что природа, то, что называют природой, есть не что иное, как большая метаморфоза. Это представление, от которого я каждый раз испытываю ощущение счастья, когда, например, весной примулы рвутся на свободу из старой листвы, связано не столько с искусством и литературой, сколько со смертью, которая всегда была мне добрым, естественным спутником.
Если верно, что момент творчества всегда совпадает с каким-либо моментом из детства, сливается с ним — в некоем сияющем, вечно длящемся мгновенье, — то источник и тайну моей поэзии следует искать в полном одиночестве и чувстве отчаяния, которые я испытал в свои ранние годы, когда я сидел где-нибудь и смотрел широко раскрытыми глазами на темные, безмолвные вещи, меня окружавшие. Я замечал, что они имеют неодинаковую поверхность, шероховатую или же гладкую, и что свет в каждой из них отражается иначе, по-своему, отражается или играет бликами. И что вещи имеют вес. Поэтому можно было называть их имена; или давать им какое-нибудь имя, которое неожиданно приходило на ум; и это было спасением, избавлением от одиночества.
Годы моего детства тонут в темноте — и отдельные предметы выплывают из этой темноты, как, например, книга, обернутая в ярко-синюю бумагу или красный волчок: в этих образах также содержатся, потенциально, представления, ходы мысли. Именно такой тип образности называю я сегодня искусством.
Образ, насыщенный возможностями, есть основа всякого произведения искусства.
Через возможности — присущие лишь ему — предмет, схваченный в образе, присутствует «в мире»; соединяется с миром, который «течет», пребывает в постоянном изменении.
И сразу же становится ясно, в чем же заключается одна из главных проблем искусства и художника: Ему никак не удается представить все возможности избранного им предмета. Ему приходится, под давлением неизбежной необходимости, следовать расчетам, делать выбор.
Расчетом я называю план построения и функционирования художественного произведения. Он определяет хореографию истин. Хочу еще раз повторить: Это как на театральной сцене; я говорю, Ты, Ты и Ты — вы должны остаться в игре столько-то времени. А вот вы, ваш выход длится совсем недолго.
Конечно, я не говорю этого прямо. Но я так веду себя. Одни могут вследствие этого показать себя публике с нескольких или со многих сторон, другие — только с одной.
Нередко и самый короткий выход говорит уже очень о многом.
В жизни, в мире, в природе все имеет одинаковую величину — субъективно они зависят от того, как долго я занимаюсь данным предметом. Но в искусстве всему свое место и свое значение.
Не будь расчета, связанного с ним произвола и обусловленной им формы, было бы вообще невозможно что-либо изобразить. Может быть, Кафка намекает на это обстоятельство, когда в письме к издателю Ровольту он говорит — с моей точки зрения, с какой-то гротесковой отвагой, если вспомнить, что он хотел пристроить свои первые вещи, хотя в гносеологическом отношении несколько уклончиво, — говорит о том «плохом», что, по его мнению, каждый писатель старается скрыть. У Кафки сказано: «Признаюсь, что мое решение (при выборе текстов) не всегда было вполне честным. Но теперь я был бы, разумеется, счастлив, если бы эти вещи понравились Вам хотя бы настолько, чтобы Вы их напечатали. В конце концов, даже при самом большом опыте и самом большом понимании плохое видишь в вещах не сразу. Индивидуальность писателя проявляется чаще всего в том, что каждый из нас изобретает собственный способ, как спрятать плохое».
Но это же положение дел можно воспринимать и на манер Колумба: тогда расчет, форма становятся средством передвижения, на котором мы отважно врываемся в неизведанные миры и дикие чащи.
Американская записная книжка 1980 года
Я прибыл сюда ночью (типичное начало всех биографий). Глубоко внизу — крупные сверкающие прямоугольники городских кварталов. Потом поездка на машине: по пути я увидел только несколько матово светящихся фонарных столбов, косые штанги, указывающие вверх на опустевшие кроны деревьев, пучки высохшей травы, обочину дороги.
Потом пошли плоские строения, уплывающие в темноту очертания стен. Потом стены из кирпича. Потом веранда, ярко освещенная, как будто бы лежащая на башне.
Сопровождающий говорит: Вот мы и приехали! — в том смысле, что теперь мы уже дома! Но, конечно, дома был только он, я — нет.
Смотрю в окно: на некотором расстоянии виден дом, фронтон, конек, крыша. Дом деревянный, коричневый с желтым. На склоне крыши — каминная труба с насаженным на нее вытяжным устройством. И флюгер на вытяжке все время в движении, раскачивается туда-сюда.
У дома растет дерево, сосна. Ее ветви тоже движутся, как в медленном танце. Собственно говоря, они вовсе не танцуют: они слегка приподнимаются, а когда порыв ветра стихает, снова опускаются.
Ах, мы всему сразу находим объяснение! — Почему бы не думать, что ветви танцуют! Они покачиваются и даже, может быть, немного кружатся. Смотреть на это приятно.
Когда мы слышим какое-то определенное слово, это так, как будто бы кто-то указал нам в супермаркете на одну определенную полку, например, на полку со сладостями: Но особый вкус, который имеют эти сладости, каждый представляет себе по-своему.
Если чувствуешь себя где-нибудь совсем чужим, единственным доверенным лицом становится природа.
Это было в моем жилище, в комнате, в доме: красивая квартира! Вокруг предметы мебели, каждый со своей историей, которую я не знал, и от этого мне казалось, что никакой истории у них нет. Я склонялся к вещам, чтобы познакомиться с ними, увидеть их раны, царапины, надорванные углы.
Справа — дверной косяк, спереди — край моего письменного стола, почти врезавшегося в картину, слева — другая дверь. В узком пространстве, образованном этими предметами, стоит мое кресло: спинка удобно выгнута, из серой пластмассы. Сидишь как в лунке или чаше, которая покоится на подставке с алюминиевыми ножками. Они блестят, когда на них падает свет.
Так язык набрасывает своего рода сценарий, последовательность знаков и намеков, которыми мы окружаем вещи. Мне представляется, как будто бы я хожу среди вещей и размахиваю длинным жезлом. В каждой вещи я ищу ее дух, заклинаю духов.
Или вот какой образ: Как будто бы я, словно каменщик, бросаю на вещи цементный раствор, то на одно место, то на другое, и надеюсь, что потом найду вещь, схваченную твердой оболочкой.
Моя здешняя квартира чудо как хороша. Все так удобно, так практично. Больше всего мне нравится кухня! Там стоит стол с теми самыми приспособленными к изгибам тела стульями. Сидишь как король! Стоит протянуть руку, и вот уже перед тобой нарезанная ветчина из холодильника, яичница с плиты.
Как сразу же по-иному выглядит вся история! Нацеленная на что-то конкретное, она избавляет нас от необходимости размышлять, потому что ее содержанием становится оценочное суждение.
Я мог бы написать пьесу, в которой главным действующим лицом был бы я сам, а мир вокруг меня — декорацией. Это была бы комедия, трагедия — что вам будет угодно!
Хотел бы я знать, что это такое — кресло.
Вот ЭТО КОНКРЕТНОЕ кресло — его поверхность как матово поблескивающая слоновая кость. Водятся ли здесь вообще слоны?
В наличии имеются белки, малиновки и скворцы.
Попробуем про какого-нибудь скворца!
В скворце есть что-то несолидное, в том, как он выглядит. Оперение отливает золотом, переливается зеленоватыми тонами северного сияния, — и все же он выглядит как проходимец. Так, как будто бы он подобрал нападавшие с небес звезды и прицепил на свои перья. Основной фон оперения у скворца как мягкий зеленый бархат, и по нему рассыпана блестящая сажа: А сверху плавают — кажется, что накидка из сажи еще покрыта к тому же какой-то темной жидкостью — охряно-желтые и золотые пятна. Причем, когда скворец подпрыгивает и взлетает, в одеянии его проскальзывает металлический блеск!
Откуда же появился этот скворец? Может быть, он родом из Гренландии или из теплых, залитых солнечным светом стран, или со дна морского, из пасти вулкана? — Да нет же, он вон с той — танцующей — ветки, и с другой тоже, с той, на которой он сидел, и еще — с той стены, и еще — с той вот ветки, с толстенной.
Тот, кто впервые вступает в общение в чужой стране, тому все, что ему говорят, представляется так, как будто бы это говорят совсем не ему. Он не чувствует себя вовлеченным в общение и смотрит по сторонам, кто бы это мог быть, к кому обращаются эти люди.
Неужели во мне прорастает кто-то другой, мой сиамский близнец, думает он. Правда, эти люди смотрят мне в глаза так, как будто бы они обращаются ко мне, но мне-то самому кажется, будто моя настоящая, моя старая голова осталась где-то сзади, будто из моей груди выделилось еще другое тело, оно — прозрачное, как какая-то клетка из проволоки, наполненная водой или кусочками льда.
Если кто-нибудь понимал его не сразу, у него возникало ощущение, что вокруг него образовалось облако значений: слово, которое он только что произнес, вызывало появление этого облака, светлого, приветливого и все же мучительного.
Там внутри, в самой сердцевине — неподвижное — находилось слово, как маленькая злобная оса, а вокруг слышалось жужжание других слов, они все показывали на слово в середине и хотели что-то объяснить.
Он казался себе волшебником, чье волшебство не стоит ни гроша. А сколько лет он уже ворожил!
С распростертыми руками стоит волшебник у трещины в земле, из которой поднимается черный дым. Он поднимает руки. Дым должен превратиться в фигуру! — Волшебник отшатывается, или это он сам падает в трещину?
Как часто бывает, что в воспоминании все куда-то проваливается и тает: как старый снег на проселочной дороге.
Слова вышли из подчинения, нарушили строй. Как будто бы они, прежде всего лишь неподвижные куклы, не-развившиеся куколки, получили от кого-то буйный анархический призыв к жизни. Настала весна. Слова зажужжали и закружились, и рука неуклюже старается их поймать.
Павлиний глаз! Жук-олень! Адмирал! Комнатные мухи.
Можно было бы сказать: Привычная игра потеряла смысл — игра в ПОНИМАНИЕ, которую мы так любим.
Сейчас я хотел бы исключить тот другой подход, который опирается на жизненные условия.
Иногда бывает, что за всеми значениями, за этим облаком из слов восходит сияние чистого постижения: какое-то тело, форма, от которой исходит сладостный аромат вечности.
Или же бывает так, что как-то незаметно, сами собой исчезают все признаки, указывающие, где, в каком конкретном месте ты сейчас находишься, и тогда иное наступает как состояние, как тихая нежность, исключающая желание что-либо изменить: ты просто есть, высокий шпиль, с которого струится солнечный свет.
Нетленность есть предчувствие, которому вещи отвечают готовностью принять его в себя: предчувствие и готовность сделаны из одного и того же вещества.
В этом мое желание соприкасается с отблеском мировой воли, результатом которой выступают вещи.
Это предполагает, что ВСЕ исходит из ОДНОГО источника — порою так именно и кажется.
В доме, где я живу: четыре двери, не только с замками, но еще для верности и с цепочками. Цепочки слегка провисают, напоминают маленькие петли.
Ночью ему могло привидеться, что на цепочке покачиваются задушенные псы — злые вожделения, от которых цепочки призваны защитить.
Квартиру украшают темно-синие ковры, массивная мягкая мебель, торшеры, широкая кровать, люстры. Мебель стоит в их свете неподвижно и прочно, только иногда над обивкой поднимается облачко пыли или мебель погружается чуть глубже в синеву ковров.
По ночам на улицах никого, только сосны по краю, у которых стволы как туго набитые мешки из красновато-коричневой материи. Есть в этих деревьях что-то странное.
Ну-ка, попробуй про них!
Днем их ветви замирают в изящном изгибе, кажутся издали пенистыми, но застывшими каскадами падающей воды, и только на вершинах, где играет свет, вода оживает, образуя маленькие воронки и водовороты. Бывает, что какая-нибудь ветка сильно выдается в сторону и выглядит как клок разорванного платья, как оторванный шлейф свадебного наряда. Кора словно пробковая оболочка, нежно обнимающая твердый ствол, ласковая теплая кожа.
В сумерках деревья стоят как голодные птицы, топорщат перья, черные и белые. Сплетение темных ветвей и сучьев напоминает скелет. Он изгибается сильно и напряженно, как будто подчиняясь внутренней воле.
Днем же деревья стоят как тихие, благовоспитанные принцы в очень светлых, широко раскинутых плащах. Лишь по временам то там, то здесь пробежит чуть заметная дрожь: то ли насекомое, то ли мотылек, то ли ветка. Или это отвалился маленький кусочек коры и, падая вниз, блеснул в солнечном луче?
Вдоль всей длинной улицы стоят эти заколдованные принцы: наши сосны!
Вы видите: Я пытаюсь подобрать множество образов, чтобы сказать только что-то одно, единственно верное. Но удается ли мне это? Я говорю красивые вещи. Но не это главное: Мне хочется сказать что-то правдивое, и это выходит красиво. Радует ли меня это? Да. Хочу ли я радости? Нет. Я хочу понять целостную сущность вещей, на которые направлен мой взгляд. Если я вижу их правильно, меня охватывает радостное чувство.
Вижу двоих у вращающихся дверей дома, похожего на дворец. Один говорит: Когда дверь повернется, можно будет войти. Другой возражает: Поверни же ее сам!
Может быть, я просто повсюду зажигаю огоньки, на ветках, на сучьях, на верхушках деревьев, на траве, на темнеющих вдали кустах, преображаю мир по своему вкусу. И мир становится как просторная торжественная церковь, пусть продуваемая ветром, шатающаяся под его порывами, стоящая под серым дождливым небом, выветренное временем здание кафедрального собора, в котором вершится праздник: МОЙ праздник!
Что только не делают люди, когда они одиноки, сказал Роберт Вальзер Карлу Земму.
Чего только не делают люди, когда они НЕ одиноки? (предложения-призраки).
В дождь сосны выглядят как бесцветные, щетинистые заросли, вытянутые вверх, как все другие деревья: вяз и ольха, дуб и платан.
Может быть, я веду себя как ребенок, который гробы называет черными ящиками, колокольню — ворчащим великаном, даже о дожде думает, что это кто-то тоненько плачет.
Но как же выглядят сосны, когда идет дождь?
В стволах и в коре перестает пульсировать жизнь, и выясняется, что жизненную силу давало им солнце. Ветви и иглы на них замерли в неподвижности. Затихли. Только иногда видишь, как они вздрагивают, стряхивая с себя груз дождя.
Деревья по сторонам улицы темнеют пятнами, очертания их становятся неясными, расплывчатыми. Дождь в этих местах льет, кажется, сильнее, и капли будто затвердевают по краям облаков-деревьев, превращаются в лед.
Но вблизи деревья похожи на мокрые вешалки, обтрепанные веники, старые башмаки, погасшие свечи — не знаю, на что.
Сегодня идет дождь. Небо превратилось в однообразную плоскость серого цвета — или это все же какое-то редкое, изысканное пространство, заполненное вибрирующими зернышками, светло-серыми, излучающими свет. Таким чужим небо кажется от однообразия, от невыразительности. Словно маска. Правда, это означало бы, что под маской что-то таится — может быть, это просто наши надежды, размытые и отнесенные вдаль за упавшую занавесь дождя.
Один говорит: Вода нагрелась, заварю-ка себе чаю! — Ах, черт, говорит другой, вот я и обжегся.
Или один кричит: Ах, на какой мы высоте, над всем! Смотри! — А другой: Я прыгаю!
В совместном и заряженном противоречиями существовании планы пересекаются: Так возникает представление, как будто бы что-то ЕСТЬ, и от этого забывается, что изначально мы чего-то желали.
Что же еще скрывается за каждым из планов, как не воля, желание? — Так может показаться, что дождь, падающий с небес, приносит избавление, небеса завешены роскошными тканями, сотканными из кристаллов, что капли дождя, падая на землю, застывают на ней сверкающими драгоценностями или что тот, кто обратит лицо свое к небу, вдруг поймет: У меня нет никакого повода испытывать отчаяние, просто это дождь хлещет мне в лицо.
Надо принимать каждый кусочек мира, который тебе дается, и проглатывать его, не требуя большего. Приятен он, этот кусочек, на вкус или нет, не в этом дело.
Объедки, которые остаются после такого пиршества, всегда обильнее, чем само пиршество.
Приблизительно так: Вот теперь тебе подано! Так что ешь!
После дождя — прогулка: Выброшенная из дома кошка перебегает мне дорогу. Сначала она добегает до середины улицы, потом, увидев меня, бежит ко мне. Поднимает голову и окликает меня.
Я перевожу ее оклик как «МЯУ». Разумеется, перевод абсолютно неправильный, потому что на самом деле кошка попросила: Ну, помоги же мне! Перенеси меня на сухое местечко! Где она, моя коробочка и т. п.
Человеческое общение: Смысл слов определяется их употреблением, говорит Витгенштейн. Именно поэтому неправилен мой перевод с кошачьего.
И все же порой возникает впечатление, что слова что-то значат, что их смысл не зависит от их употребления в языковых играх, не зависит он также и от их материальной истории.
Какое великолепное безумие быть в одиночестве, говорит поэт-романтик (я сам).
Попробуй теперь иначе! Постарайся нарисовать картину мира с двух, трех различных точек зрения, переплести их между собой, сплести сеть! Смотри, что в нее ловится!
Какой-нибудь местный житель, выйдя из дома, возможно, подумает: Хороший сегодня денек! Теплынь! Только вот это дерево дает слишком большую тень, загораживает солнце. Похоже, пора отпилить большую ветку, вот эту.
А ты думаешь: Тень, отбрасываемая деревом, это как прохладное, шелестящее платье, которое оно на себя надело. Или нет, еще лучше: Тень — это как бы оболочка, тускло поблескивающий цилиндр, внутри которого — дерево, ценная, эластичная водяная оболочка — и в какой-то мере это действительно так: В тенистом месте выпала роса: Вон там! Как ярко она блестит!
Ребенок забирается на дерево просто потому, что сил у него в избытке, или потому, что он хочет посмотреть на мир с высоты, доставить себе такое необычное, пахнущее авантюрой, удовольствие — но потом он все же начинает сомневаться, можно ли это, разрешается ли, ведь и штанишки, и руки перепачканы смолой: О, господи!
А кошка точит когти об кору. Когда подбегает собака, она запрыгивает на развилку ствола. Голова у кошки круглая, меньше, чем у нас, и покрыта мягкой шерстью.
И завтра дерево тоже останется на своем месте!
К чему ведет стремление к гармонии? К холодному безразличию. А противоположное стремление? От него рождается горечь и строгость.
Когда снаружи ветер, мимо окна летят коричневые семена. В воздухе полно этих маленьких парашютистов. Воздушное пространство кажется огромным, если представить себе, что семена — это планеты, у каждой из которых своя орбита: они кружатся, падают, поднимаются снова наверх, уносятся прочь, колеблются, почти оставаясь на одном месте, разлетаются в разные стороны, срываются в штопор, медленно опускаются, покорно ложатся в землю.
Не есть ли это истинное стремление: ни к чему не стремиться?
Бывает такое одиночество, от которого может спасти только одно: еще большее одиночество. И это одиночество — настоящее.
Дружелюбие таится в уголках губ, о нем говорят оттопыренные уши, светлые кончики пальцев: девушка-продавщица протягивает руку, и ты кладешь в нее деньги.
Или на улице: Кто-нибудь идет перед тобой, и ветер треплет штанины его брюк.
Смотрю в окно: Сегодня хороший день. Солнечный свет, рассеиваемый нежной дымкой тумана, струится сразу со всех сторон и освещает местность. Все вещи, деревья, дома, окружены светлой каймой, и у тех, что ближе всего, ясно видны геометрические формы. Кажется, они заключают в себе что-то, что их заполняет изнутри. Эта начинка светится, и, может быть, так кажется оттого, что ты сам ничем не заполнен и представляешь собой чистое созерцание.
Смотрю в окно: Темная гряда облаков отражает солнечный свет, и все вещи, деревья, дома стоят какие-то двухмерные, плоские и бездушные перед этой светящейся стеной. Но краски! Кажется, что перед глазами горит и полыхает. На деревьях пылает зелень, на домах кирпичи пламенеют как языки огня. И хотя гроза еще не началась, она уже растерла себе все краски и дует в горы, чтобы, когда ударит молния, они вспыхнули, стали кричащими: Тогда все сначала замрет, белый мертвый свет подчеркнет все контуры, и все словно вытянется вверх, навстречу грозе! Все потемнеет до черноты! — Как будто бы весь мир состоит из одних виселиц, на них висят злодеи, издают душераздирающие вопли.
Вечерами лучше всего смотреть на проходящие облака. Они как будто бы сделаны из светлого известняка, на котором темнеют синие пятна, и каким же маленьким кажется себе под ними человек.
На ночной стороне облаков цвет фиолетовый, сторона, освещенная солнцем, как лебединая грудь. И земля под ними как будто так ничтожна, с какими-то жалкими островерхими крышами, жалкими перепутавшимися ветвями и малой толикой золота на далекой линии горизонта.
Мир кажется тогда горой, сложенной из молчания. И молчание это — действительно прочный материал, вроде как огромная куча плотного снега, покрывающего все вещи. Каждая вещь словно пробуравила в снежной горе свое отверстие, маленький тоннель, образованный теплом, исходящим от вещей. Сверху в тоннель падают капли. И так они лежат, родные нам вещи. А эта капель, бег времени, есть язык тишины, ее звучание.
Быть может, мне стоило бы набросать план местности, взять широкое полотно и обозначить на нем улицы и дороги?
План местности довольно прост: Это равнина, не ограниченная ничем, кроме тонкой линии горизонта, где земля сходится с небом. Там вдали видны облака, или еще маленькие клубы тумана на голубом фоне, или черное, плотное подножие грозы, у которого пролегают белые линии или полосы, словно громадные водопады, и возникает впечатление, что слышишь рокот и гром, хотя грозовая колонна движется и разрастается совершенно беззвучно.
Эта земля никому не ставит на пути препятствий. Дороги тянутся прямо, как будто узкие каналы серого цвета прорезают равнину. Они влюблены в даль, эти дороги, и точка их исчезновения далеко на краю земли вызывает смущение в душе того, кто смотрит: как будто бы его кто-то нежно и чуть печально поцеловал.
Оттого, что проходящие по полям дороги многократно перекрещиваются, образуется узор из квадратов. И как по-разному они выглядят! Ближние кажутся прочно вклеенными в землю, углы у них совершенно прямые, линии — четкие. А те, что вдали, словно у них есть крылья, слегка приподнялись над землей, у них темно-синие, размытые края и сферическая форма: дома и деревья там будто плывут на кораблях, дрейфуют на вздыбленных льдинах, а еще дальше, совсем вдалеке, все связи между предметами уже теряются, сила тяжести перестает действовать, и участки ландшафта, обрывки луга и коричневые, мохнатые куски леса, разобщенные и поистине свободные, легко парят в пространстве, смыкаются, снова разъединяются — как клочки бумаги, на которой кто-то записал сны мира и своей жизни.
Посмотри в окно! — Вблизи, на переднем плане все явлено во плоти, пронизано смехом, озорством, мукой или болезнью — вот изогнулась ветка дерева, вот человек поднимает руку, клубится дым, мусорный ящик бесстыдно раскрывает свою пасть. Но отдаленные деревья, это сосны уже возвышаются как гордые мачты парусников: как будто бы пришла пора отплывать: прощай!
Я хотел бы установить несколько елок, парочку вязов, разбросать по равнине кусты, да еще три-четыре сарайчика-развалюхи.
Потом настает очередь одиночества, притащим сюда большущие, отливающие синевой ледяные глыбы одиночества.
Они плавятся, растворяются в тишине, пронзенной птичьими голосами: Так одиночество, древний поток, растекается по миру.
Всюду, где в ледниковый период континент покрывали огромные глетчеры, сохранились долины древних рек. Это протянувшиеся на многие километры мелкие низменности или впадины, по которым в свое время стекала талая вода.
Встречаются люди, с которых мир стекает как вода. У них души — непромокаемые, водонепроницаемые как глина, водоотталкивающие как нержавеющая сталь.
Имеется выражение: Этот человек чувствует себя как рыба в воде, или еще: Этот прошел огонь, воду и медные трубы, или: Он плавает как рыба. Большие щуки! — Спрашивается: такие люди относятся к классу хищников или нет?
Во всяком случае у них нет сердца, того, что называют сердцем — или в лучшем случае оно у них из камня, как у героя «ХОЛОДНОГО СЕРДЦА» — нехорошие люди: пошли они к черту!
Душою называют способность сердца заставить в нужный момент умолкнуть рассудок.
Терпимость и душевность исключают друг друга.
Бывают дни, когда здешняя местность выглядит как после всемирного потопа. Не потому, что все покрыто илом и тиной. Но вокруг вещей образуется какой-то налет незначительности, затвердевшая, высохшая корка. Вещи под этим жестким панцирем как будто остекленели, стали как мертвые, препарированные насекомые. И коллекция этих насекомых уже очень старая, посеревшая от старости, изъедена молью и жучком. У жука-оленя недостает усиков, не горит павлиний глаз, нет больше адмиральской перевязи! Нет души.
Ветви платана напоминают своей белизной отколотые куски меловой скалы. Вязы подметают небеса метлами своих ветвей. Даже кошка, обычно такая интеллигентная, сидит сегодня как бессмысленный комок плоти под водосточной трубой: Может, это просто чучело? Мумия, от которой идет застойный гнилой запах, запах тления!
В саду напротив только что срезали куст, у самой земли. Подрезанные ветви уставились вверх своими карими круглыми глазами — или же это обрубки рук и ног, уже тронутые тлением?
Людские беды разрастаются здесь так пышно и неуемно, как будто ничем не обусловленные, что только насмешка еще способна уменьшить боль: Вот мужчина, низко склонившийся над мусорным баком; Вот женщина ждет на автобусной остановке, измятое невыразительное лицо лоснится от привычной пошлости: вялое тело, плюшевые брюки, ярко накрашенные ногти. А вот еще мужчина: одет безупречно, галстук как на рекламе, вывернутые наружу ступни, одутловатое лицо, волосы, напоминающие парик, и слезящиеся глаза — и вот он идет вперед, по прямой, будто только что сотворен; только что выпущен из бездушной, бессильной руки Господа Бога.
И все же по вечерам, когда черные, неузнаваемые от бесцветности птицы садятся на верхние ветви деревьев и смотрят в глаза заходящего солнца, когда все вокруг овеяно доверчивой, даже какой-то верующей тишиной, когда светятся дороги, ведущие на Запад, вода в продолговатых водоемах покрывается рябью, и ночь тихонько пощелкивает в глубине кустарника, — тогда хочется думать, что все устроено как нельзя лучше.
Впрочем, сердцу сразу же возражает рассудок.
Критика