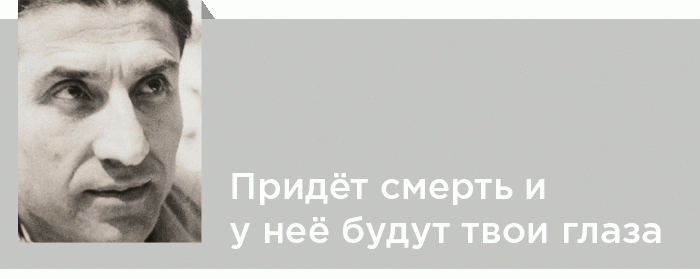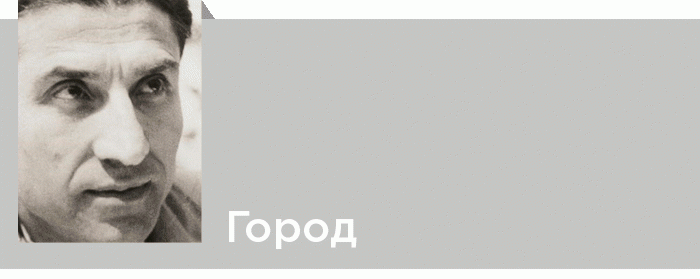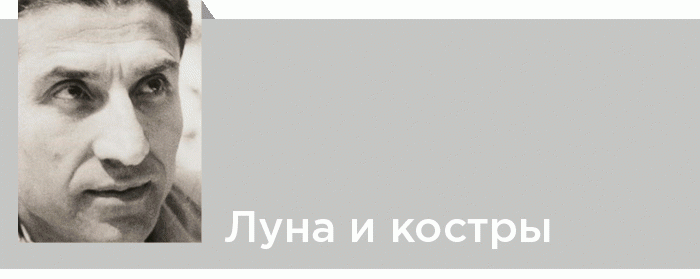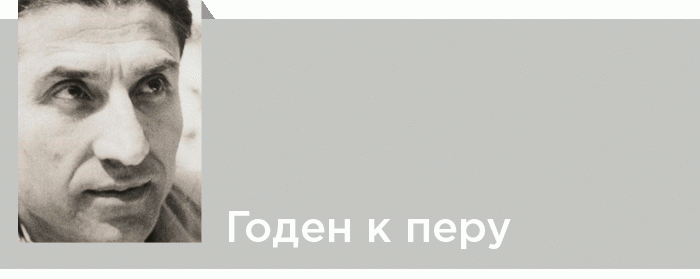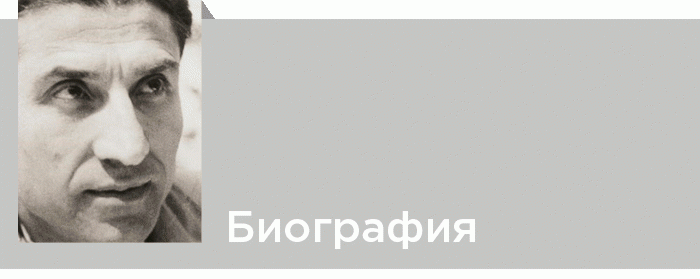Чезаре Павезе. Прекрасное лето
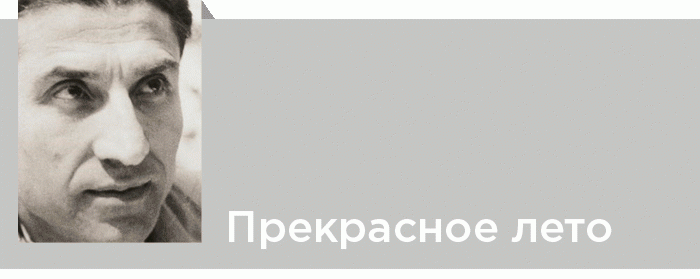
(Отрывок)
I
В те времена всегда был праздник. Стоило им выйти из дому и перейти через дорогу, как они прямо шалели, и все было так замечательно, особенно по вечерам, что, возвращаясь домой смертельно усталые, они еще надеялись, что произойдет что-нибудь необыкновенное – вспыхнет пожар, в доме родится ребенок или, вот было бы здорово, вдруг наступит день и все снова высыпят на улицу и можно будет опять гулять и гулять, идти в луга и на холмы. «Понятное дело, – говорили им, – вы здоровые, молодые, у вас нет никаких забот». Но даже Тина, хотя она вышла из больницы хромой, а дома у нее нечего было есть, радовалась жизни не меньше других и как-то раз, ковыляя вслед за подругами, остановилась и расплакалась, потому что идти спать было глупо – только зря время терять, когда так хочется веселиться.
Джиния, если на нее нападало такое настроение, не подавала и виду, а провожала до дому какую-нибудь подружку и говорила, говорила, пока не выговорится. Когда надо было расставаться, им уже нечего было сказать друг другу – они давно шли молча, как будто порознь. Джина успокаивалась и возвращалась домой, не жалея, что осталась одна. Само собой, лучше всего было в субботние вечера, когда они ходили на танцы. Но и в остальные дни было хорошо, и, уходя утром на работу, Джиния подчас радовалась даже тому, что пройдется по улице. Другие говорили: «Если я поздно прихожу, то не высыпаюсь», «Если я поздно прихожу, мне попадает». Но Джиния никогда не уставала, а ее брат, который работал в ночную смену, а спал днем, видел ее лишь за ужином. В обед, когда она входила, Северино только поворачивался на другой бок. Джиния накрывала на стол и, проголодавшись, ела, сосредоточенно жуя и прислушиваясь к шумам, долетавшим с лестницы и из других квартир. Время шло медленно, как это обычно бывает, когда не с кем перемолвиться словом, и Джиния успевала помыть посуду, накопившуюся в раковине, и немножко прибраться, а потом прилечь на тахту и подремать под тиканье будильника, доносившееся из другой комнаты. Иногда она даже закрывала ставни, чтобы в комнате было темно и она могла чувствовать себя в полном уединении. Проспать она не боялась, потому что в три часа спускалась по лестнице Роза и тихонько, чтобы не разбудить Северино, скреблась к ним в дверь, пока Джиния не отзывалась. Они вместе выходили на улицу и шли к трамвайной остановке.
У Джинии с Розой только и было общего, что этот кусок дороги да звездочка из искусственного жемчуга в волосах. Но однажды, когда они проходили мимо витрины и Роза сказала: «Мы с тобой как сестры», Джиния поняла, что таких звездочек пруд пруди и что, если она не хочет, чтобы и ее принимали за фабричную работницу, она должна носить шляпку, тем более что Роза, еще зависящая от отца и матери, не скоро сможет позволить себе такую роскошь.
Разбудив Джинию, Роза, если позволяло время, заходила к ним, и Джиния с ее помощью наводила порядок, тихо посмеиваясь над Северино, который, как и все мужчины, не знал, что значит вести дом. Роза шутки ради говорила о нем «твой муж», по нередко Джиния хмурилась и отвечала, что не так-то весело, когда дома хлопот полон рот, а мужа нет. Конечно, она говорила это не всерьез – ей было даже приятно побыть одной, чувствуя себя полной хозяйкой в доме, – но Розе надо было время от времени давать попять, что они уже не девочки.
Роза и на улице не умела себя вести, кривлялась, хохотала, оглядывалась на прохожих – Джиния готова была ее исколотить. Но они часто вместе ходили на танцы, и тут она нуждалась в Розе, потому что та была со всеми на «ты», а ее дурачества только подчеркивали, что Джиния гораздо тоньше ее. В этот прекрасный год, когда они начинали жить самостоятельно, Джиния скоро поняла, что у нее есть преимущество перед другими: она и дома сама себе хозяйка – Северино был не в счет, – и в свои семнадцать лет может жить как взрослая женщина. По пока Джиния еще носила звездочку в волосах и позволяла сопровождать себя Розе, поскольку та ее забавляла. Во всем квартале не было другой девушки, которая так чудила бы, как Роза, когда она была в ударе. Она умела любого разобрать но косточкам и высмеять и, бывало, целыми вечерами только и делала, что всех потешала. А задорная была, как петушок. «Что с тобой, Роза?» – спрашивал кто-нибудь из парней, пока все ждали, когда заиграет оркестр. «Мне страшно, – отвечала она (и глаза у нее выкатывались из орбит), – когда я входила, какой-то старик так и уставился на меня, наверное, он поджидает меня па улице, я боюсь». Парень не верил. «Должно быть, это твой дед». – «Дурак». – «Ну ладно, давай потанцуем». – «Нет, мне страшно». Уже танцуя, Джиния слышала, как тот парень кричит: «Нахалка! Ведьма! Пропади ты пропадом! Катись к себе на фабрику!» Тогда Роза смеялась, и другие тоже покатывались со смеху, а Джиния, продолжая танцевать, думала, что именно фабрика делает девушек такими. Да и удивляться было нечему, стоило только посмотреть на механиков – с кем поведешься, от того и наберешься.
Если в компании оказывался кто-нибудь из них, можно было не сомневаться, что, не успеет стемнеть, какая-нибудь девушка выйдет из себя, а если дурости хватит, то и заплачет. Они насмешничали, как Роза, и норовили увести тебя в луга. С ними было невозможно разговаривать по-человечески и приходилось все время держаться настороже, чтобы в случае чего сразу дать отпор. Но зато в иные вечера они пели, и пели хорошо, в особенности если приходил с гитарой Феруччо, высокий светловолосый парень, который вечно сидел без работы, но у которого пальцы все еще были заскорузлые и черные от въевшегося угля. Казалось невероятным, что эти грубые руки могут быть такими чуткими, и Джиния, которой однажды случилось почувствовать их у себя под мышкой, избегала смотреть на них, когда он играл. Роза сказала ей, что этот Феруччо два или три раза спрашивал о пей, и Джиния ответила: «Скажи ему, чтобы о и сперва остриг себе ногти». Она ожидала, что, когда они встретятся в следующий раз, Феруччо посмеется, но он даже не взглянул на все.
В один прекрасный день, когда Джиния выходила из ателье, обеими руками поправляя шляпку на голове, она увидела у подъезда Розу, которая бросилась ей навстречу.
– Что случилось?
– Я удрала с фабрики.
Они молча дошли до трамвайной остановки: Роза ничего больше не говорила, а озадаченная Джиния не знала, что сказать. Только когда они сошли с трамвая, Роза тихо пробормотала, что боится, не забеременела ли она. Джиния обозвала ее дурой, Роза вскипела, и они схлестнулись, остановившись на углу. До настоящей ссоры дело не дошло, потому что Роза, которая так разбушевалась только от страха, быстро остыла, но Джиния была взволнованна больше нее, она чувствовала себя обманутой и обойденной, как ребенок, который сидит в детской, когда другие развлекаются, да еще кем обойденной – Розой, у которой не было даже никакого самолюбия. «Я не такая дешевка, – говорила Джиния про себя, – больно рано в семнадцать-то лет. Тем хуже для нее, если она хочет растратить себя». Она так говорила, но не могла вспомнить об этой истории без чувства унижения: при мысли о том, что все ее подруги, ничего не говоря ей, уже побывали с парнями в лугах, а у нее, такой самостоятельной, еще колотилось сердце от одного только прикосновения мужской руки, – при этой мысли у нее перехватывало дыхание.
– Почему в тот день ты пришла сказать мне об этом? – спросила она Розу как-то раз, когда они после обеда вместе выходили из дому.
– А кому же мне было сказать? Я думала, что влипла.
– А почему ты раньше ничего мне не говорила?
Роза, теперь уже успокоившаяся, засмеялась и веселей застучала каблучками.
– Такие вещи лучше держать про себя. А то еще сглазишь.
Джиния думала: «Дура. Теперь она смеется, а давно ли готова была в петлю лезть? Она еще девчонка, вот и все». Но когда она шла одна на работу или с работы, она думала: мы все еще молоды, а чтобы знать, как вести себя, надо дожить лет до двадцати.
Однажды Джиния весь вечер разглядывала возлюбленного Розы – Пино, кривоносого коротышку, который только и умел играть на биллиарде и ничего не делал, а вдобавок ко всему гундосил. Джиния не понимала, почему Роза продолжает ходить с ним в кино, после того как убедилась, какой он подлец. У нее не выходило из головы то воскресенье, когда они вместе катались на лодке и оказалось, что у Пино вся спина в веснушках, точно изъедена ржавчиной. Теперь, когда она знала, что было между ними, она припомнила, что в этот день Роза с Пипо ушли в кусты. Как это она, дура, не поняла, в чем дело? Но уж Роза и вовсе была дурой из дур, и она ей еще раз сказала это, когда они пошли в кнно.
Подумать только, ведь они не раз целой компанией катались па лодке и смеялись, шутили, подтрунивали над парочками. За другими Джиния следила, а вот Розу и Пино проглядела. В полдень, в самую жару, в лодке остались только она и хромуша Типа. Остальные, в том числе и Роза, сошли на берег, и слышно было, как они перекликаются. Типа, которая была в юбке и блузке, сказала Джиппи: «А я разденусь и буду загорать, только бы никто не пришел». Джиния сказала, что покараулит, но сама только прислушивалась к голосам, время от времени доносившимся с берега. Скоро все смолкло над спокойной водой. Тина, обернув бедра полотенцем, легла и стала жариться на солнце. Тогда Джиния соскочила на берег и прошла несколько шагов по траве босиком. Голоса Амелии, которая увела за собой всех остальных, больше не было слышно. Джиния, решив по глупости, что они играют в прятки, не стала их искать и вернулась в лодку.
II
Про Амелию по крайней мере было известно, что она ведет другую жизнь. Ее брат был механиком, но в то лето она лишь время от времени появлялась по вечерам в их компании и, хотя со всеми смеялась, ни с кем не откровенничала, потому что ей было уже девятнадцать или даже двадцать лет. Джинии хотелось бы иметь ее рост и ее длинные, стройные ноги – на такие ноги прямо просятся топкие чулки. Правда, в купальном костюме у Амелии выпирали бедра, и вообще в ее фигуре было что-то лошадиное. «Я безработная, – сказала она Джинии как-то вечером, когда та разглядывала ее платье, – времени у меня хоть отбавляй, я могу целый день подбирать себе фасон. Ты знаешь, я тоже работала в ателье, как ты, там я и научилась кроить». Джиния подумала, что хорошо не шить самой, а заказывать себе платья, но ничего не сказала. Они вместе погуляли в этот вечер, и Джиния проводила Амелию до дому, потому что чувствовала себя бодрешенькой и ей совсем не хотелось спать. Недавно прошел дождь, асфальт и деревья были мокрые, в лицо веяло свежестью.
– Ты, я вижу, любишь гулять, – смеясь, говорила Амелия. – А как к этому относится твой брат Северино?
– Северино в это время на работе. Это он зажигает все фонари и следит за ними.
– Значит, это он светит парочкам? Как он одет? Как газовщик?
– Да нет, – со смехом сказала Джиния. – Он следит за рубильниками на электростанции. Всю ночь дежурит у пульта.
– И вы живете одни? Он не читает тебе морали?
Амелия болтала весело, непринужденно, по-свойски, и Джиния без труда говорила ей «ты».
– Ты давно без работы? – спросила она ее.
– Вообще-то работа у меня есть. Меня рисуют.
По ее тону можно было подумать, что она шутит, и Джиния вопросительно посмотрела на нее.
– Как рисуют?
– Анфас, в профиль, одетую, раздетую. Это называется быть натурщицей.
Джиния слушала ее, притворяясь изумленной, чтобы она продолжала рассказывать, хотя прекрасно знала то, о чем говорила Амелия. Она только никогда бы не поверила, что та заговорит с ней на эту тему, потому что никому из девушек она про свое занятие и словом не обмолвилась, и только через привратниц Роза раскрыла ее секрет.
– Ты вправду ходишь к художнику?
– Ходила, – сказала Амелия. – Но летом ему дешевле обходится рисовать на открытом воздухе. А зимой слишком холодно позировать голой, вот и выходит, что почти никогда не работаешь.
– Ты раздевалась?
– Ну да, – сказала Амелия.
Потом взяла Джинию под руку и заговорила опять.
– Работа эта хорошая – ничего не делаешь, только слушаешь разговоры. Одно время я ходила к художнику, у которого была шикарная мастерская и, когда приходили люди, подавали чай. Вот где можно набраться ума, почище, чем в кино.
– И что же, они входили, когда ты позировала?
– Спрашивали позволения. Самое лучшее – иметь дело с женщинами. Ты знаешь, что женщины тоже пишут картины? Они платят девушке, чтобы нарисовать ее голой. Но почему им самим не стать перед зеркалом? Я понимаю, если бы они рисовали мужчину.
– Небось они и мужчин рисуют.
– Может быть, – сказала Амелия, останавливаясь у своего подъезда, и подмигнула ей. – Но некоторых натурщиц они нанимают за двойную плату. На свете всякое бывает, то-то и хорошо.
Джиния сказала Амелии, чтобы она заходила к ней, и пошла домой одна по залитому отсветом фонарей и витрин асфальту, уже почти просохшему на теплом воздухе. «Такая бывалая, а рассказывает почем зря про свои дела, – думала Джиния, очень довольная. – Если бы я вела такую жизнь, как она, я бы была похитрей». Джиния была слегка разочарована, когда прошло несколько дней, а Амелия так и не зашла. Видно, в тот вечер она вовсе не собиралась подружиться с ней, но тогда значит, думала Джиния, она рассказывает такие вещи кому попало и у нее действительно винтиков не хватает. А может, она принимает меня за девочку, которая поверит чему угодно. И как-то вечером в большой компании Джиния рассказала, что видела в одном магазине картину, на которой можно было узнать Амелию. Все ей поверили, но Джинии вздумалось добавить, что она узнала ее по фигуре, потому что, когда натурщица голая, художники нарочно изменяют ей лицо.
– Как же, станут они церемониться, – сказала Роза и посмеялась над ее наивностью.
– Я была бы рада, если бы какой-нибудь художник написал мой портрет да еще заплатил бы мне, – сказала Клара.
Тут стали обсуждать, красива ли Амелия, и брат Клары, который был с ними в лодке, сказал, что в голом виде он красивее ее. Все засмеялись, а Джиния сказала, хотя никто ее не слушал:
– Если бы она не была хорошо сложена, художник не стал бы писать с нее картину.
В тот вечер она опять испытала чувство обиды и чуть не расплакалась. Но шли дни, и, когда однажды, выйдя из трамвая, она снова встретила Амелию, они как ни в чем не бывало погуляли, болтая о всякой всячине. Джиния была даже элегантнее Амелии, которая шла со шляпкой в руке и смеялась, показывая зубы.
На следующий день в обед Амелия зашла к ней домой. Из-за жары дверь была распахнута, и Джиния увидела Амелию из темноты, прежде чем та разглядела ее. Они обрадовались друг другу, и, когда Джиния распахнула ставни, Амелия огляделась вокруг, обмахиваясь шляпой.
– Неплохая мысль – оставлять дверь открытой, – сказала она. – Тебе хорошо. У меня дома так нельзя, потому что мы живем на первом этаже.
Потом заглянула в другую комнату, где спал Северино, и заметила:
– А у нас настоящий табор. В двух комнатах живем впятером, не считая кошек.
Когда пришло время идти на работу, они вышли вместе, и Джиния сказала:
– Когда тебе осточертеет на своем первом этаже, приходи ко мне, здесь можно посидеть спокойно.
Ей хотелось, чтобы Амелия почувствовала, что она вовсе не желает сказать ничего худого о ее домашних, а просто рада ей, потому что они понимают друг друга. А Амелия, не сказав ни да, ни нет, угостила Джинию чашкой кофе перед тем, как та села в трамвай. Ни назавтра, ни на следующий день они не увиделись. А потом Амелия пришла как-то вечером, на этот раз без шляпы, села на тахту и, смеясь, попросила сигарету. Джиния кончала мыть посуду, а Северино брился. Он дал ей сигарету, мокрыми пальцами зажег спичку, и они втроем пошутили насчет фонарей. Северино нужно было бежать, но он успел сказать Джинии, чтобы она не полуночничала. Амелия с улыбкой посмотрела на него, когда он выходил.
– Ты ходишь на танцы все туда же? – сказала она Джинии. – Ребята там очень славные, но надоедные. И твои подруги тоже.
Они вышли из дому и по проспектам пошли к центру, обе без шляп, наслаждаясь вечерней прохладой. Для начала они купили мороженого и, полизывая его, смотрели на людей и смеялись. С Амелией Джинии было все трын-трава, и она веселилась от души с таким чувством, как будто в этот вечер чего только не произойдет. Она знала, что может положиться на Амелию, которой было уже двадцать лет и которая шла и смотрела на всех с развязным видом. Амелия из-за жары даже не надела чулок; и, когда они проходили мимо танцзала из тех, где оркестр играет под сурдинку, а на столиках горят лампы под абажурами, Джиния испугалась, что Амелия потащит ее туда. Она никогда не была в таких заведениях и от страха затаила дыхание. Амелия сказала:
– Уж не хочешь ли ты войти?
– Жарко, и, потом, мы не одеты, – сказала Джиния. – Лучше погуляем.
– Мне тоже неохота, – сказала Амелия, – но что же мы будем делать? Не хочешь же ты стоять на углу и смеяться, глядя на прохожих?
– А ты что хотела бы?
– Не будь мы женщины, у нас была бы машина и мы бы сейчас поехали купаться на озера.
– Давай пройдемся и поболтаем, – сказала Джиния.
– Можно пойти на холм, распить бутылочку и попеть. Ты любишь вино?
Джиния сказала, что нет. Амелия посмотрела на двери, ведущие в танцзал.
– Но по рюмочке мы все-таки выпьем, – сказала она. – Пойдем отсюда. Кто скучает, тот сам виноват.
Они выпили по рюмочке в первом попавшемся кафе, и, когда вышли, Джиния почувствовала в воздухе прохладу, которой прежде не ощущала, и подумала – как хорошо, что летом вино освежает. Амелия между тем говорила, что тот, кто ничего не делает весь день, имеет право хоть вечером отвести душу, но иной раз, как подумаешь о том, что время уходит, становится страшно и пропадает охота бегать, задрав хвост.
– С тобой этого не бывает?
– Я бегу только, когда тороплюсь на работу, – сказала Джиния. – Я так мало развлекаюсь, что у меня нет времени думать об этом.
– Ты молодая, – сказала Амелия, – а я, бывает, места себе не нахожу, даже когда работаю.
– Стояла же ты на месте, когда позировала, – сказала Джиния.
Амелия рассмеялась.
– Вот уж нет. Самые ловкие натурщицы – это те, которые сводят с ума художника. Если не двигаться время от времени, он забывает, что ты позируешь, и начинает обращаться с тобой, как со служанкой. Будь только овцой, а волки найдутся.
Джиния лишь улыбнулась в ответ, но ее так и подмывало кое о чем попросить Амелию, и удержаться от этого было труднее, чем устоять перед рюмочкой ликера. Тогда она предложила посидеть где-нибудь в холодке и выпить еще по рюмочке.
– Ну что же, – сказала Амелия. – Мы выпили у стойки только потому, что это дешевле.
После второй рюмки Джиния почувствовала, как по жилам у нее разливается тепло, и, когда они выходили, осмелела и сказала Амелии:
– У меня к тебе просьба. Мне бы очень хотелось посмотреть, как ты позируешь.
Они долго говорили об этом дорогой, и Амелия смеялась, потому что натурщица, будь она голая или одетая, может интересовать мужчин, но не другую девушку. Натурщица стоит себе или сидит – на что тут смотреть? Джиния сказала, что хочет поглядеть, как художник рисует ее: она никогда не видела, как пишут красками, а это, должно быть, интересно.
– Не сегодня-завтра, – говорила она, – сейчас у тебя нет работы. Но обещай мне, что, если ты опять начнешь ходить к какому-нибудь художнику, ты возьмешь с собой меня.
Амелия опять засмеялась и сказала, что это проще простого: она знает, где мастерские художников, и может свести ее туда.
– Но будь поосторожнее, они сволочи. Теперь смеялась и Джиния.
Потом они посидели на скамейке. Никто не проходил: время было такое – ни то ни се, и слишком поздно, и слишком рано. Вечер они закончили в танцзале на холме.
III
С тех пор Амелия стала часто заходить за ней, и они отправлялись пройтись, поболтать. Войдя в комнату, Амелия громко разговаривала и не давала спать Северино. Когда после обеда Роза забегала за Джинией, они уже собирались уходить. Амелия докуривала сигарету – если у нее была сигарета – и давала советы Розе, которая успела рассказать ей про своего Пино. Попятное дело, Амелии неохота было сидеть в своей клетушке, а делать весь день было нечего, вот она и водила компанию с ними. Амелия шутила и с Розой, над которой они с Джинией потешались, когда оставались одни, – делала вид, что не верит ее россказням, и смеялась ей в лицо.
Джиния сблизилась с Амелией, когда убедилась, что, несмотря на всю свою бойкость, она была просто бедняга. Амелия ходила без чулок, но только потому, что у нее их не было; всегда носила то красивое платье, которое так понравилось Джинии, но у нее не было другого. Может, потому ей и было все нипочем: Джиния заметила, что и она сама чувствует себя вольнее, когда выходит без шляпки. Ей действовала на нервы Роза, которая сразу поняла, как обстоит дело. «Бывалая-то она бывалая, – говорила Роза, – да что толку, ведь когда она снимает платье, ей приходится ложиться в постель, потому что переодеться не во что». Несколько раз Джиния спрашивала у Амелии, почему она опять не наймется позировать, а та отвечала, что, для того чтобы найти работу, надо не быть безработной.
Хорошо бы весь день ничего не делать и ходить вдвоем гулять, когда спадает жара, но при этом быть такими элегантными, чтобы, пока они разглядывают витрины, люди разглядывали бы их самих. «А быть свободной, как я, не очень-то весело, – говорила Амелия. – Я от этого на стенку лезу». Джиния дорого дала бы, чтобы Амелия говорила с ней о вещах, которые ей нравятся, потому что настоящая близость и заключается в том, чтобы знать, чего желает другой, и, если обоим нравится одно и то же, чувство робости пропадает. Но когда под вечер они проходили через пассаж, Джиния вовсе не была уверена, что Амелия любуется тем же, чем она. Никогда нельзя поручиться, что ей понравится шляпка или материя, которая приглянулась Джинии, и Джиния опасалась, что она посмеется над ней, как смеялась над Розой. Хотя Амелии весь день не с кем было перемолвиться словом, она с Джинией никогда не говорила о том, чего ей хотелось бы, что ее интересует, а если и говорила, то не всерьез. «Ты никогда не обращала внимания, поджидая кого-нибудь, сколько попадается свинячьих рыл и куриных ног? – говорила Амелия. – С ума сойти!» Может быть, она шутила, а может, и правда проводила иногда с четверть часа, глазея на прохожих и про себя насмехаясь над ними, но, как бы то ни было, Джиния уже боялась, что сглупила, признавшись Амелии, что ей хотелось бы посмотреть, как пишут картины.
Теперь, когда они отправлялись на прогулку, Амелия сама решала, куда им пойти, а Джиния подчинялась ей, соглашаясь на все. Когда они снова пришли в танцзал, где были в первый вечер, Джинии, которая тогда очень веселилась, все здесь показалось незнакомым: и освещение и оркестр, и ей понравилось только, что балконные двери были открыты и оттуда тянуло свежестью, а все потому, что она не чувствовала себя достаточно хорошо одетой, чтобы выйти на площадку между столиками. Но тут Амелия заговорила с каким-то молодым человеком, который обращался к ней на «ты», а когда смолкла музыка, другой молодой человек помахал им рукой, и Амелия, обернувшись, спросила: «Это он с тобой здоровается?» Джиния была рада, что кто-то ее узнал, но тот молодой человек исчез, а неприятный парень, который танцевал с ней в прошлый раз, торопливо прошел мимо, не замечая ее. Джинии казалось, что в первый вечер они едва успевали присесть за столик, чтобы перевести дух, а теперь им пришлось долго ждать, сидя у окна, пока кто-нибудь пригласит их, и Амелия, которая села первой, громко сказала: «Что ж, и это развлечение». Конечно, и другие девушки в этом зале были одеты не лучше Амелии, и многие тоже были без чулок, но Джиния смотрела все больше на белые куртки официантов и думала о том, что у входа, должно быть, полно машин. Потом она поняла, что глупо надеяться встретить здесь художника Амелии.
Стояла такая теплынь, что по вечерам невозможно было усидеть дома, и Джинии казалось, что она раньше даже не понимала, что такое лето, до того было хорошо каждый день, когда стемнеет, прогуливаться по бульварам. Иногда ей мнилось, что это лето никогда не кончится, и вместе с тем думалось, что им надо пользоваться, не упуская ни минуты, потому что, когда наступит осень, должно что-то произойти. Поэтому она больше не бывала с Розой в старом танцзале и в ближайшем кино, а подчас выходила одна и бежала в какое-нибудь кино в центре: чем она хуже Амелии?
Однажды вечером Амелия зашла за ней и, когда они спускались по лестнице, сказала:
– Вчера я нашла работу.
Джиния не удивилась. Она давно этого ожидала. Она спокойно спросила, скоро ли Амелия начнет.
– Я уже начала сегодня утром, – ответила та. – Два часа пробыла.
– То-то ты такая веселая, – сказала Джиния.
Потом спросила, какую картину пишет с нее художник.
– Никакую. Он просто делает зарисовки. Рисует мое лицо. Я говорю, а он набрасывает профиль. Эта работа много времени не требует.
– Значит, ты не позируешь? – сказала Джиния.
– Ты что думаешь, – бросила Амелия, – позировать – это обязательно раздеться и стоять голой?
– Ты завтра опять к нему пойдешь? – спросила Джиния. Амелия пошла и назавтра и еще много дней подряд ходила туда. По вечерам она со смехом рассказывала про этого художника, который не мог ни минуты постоять на месте и все спрашивал Амелию, рисовал ли ее кто-нибудь вот так, расхаживая по мастерской, как он.
– Сегодня утром он нарисовал с меня ню. Он из тех хитрецов, которые приглядываются. да примеряются понемножку, но сделают наброска четыре, и ты вся тут, и больше в тебе не нуждаются.
Джиния спросила, какой он из себя, и Амелия сказала: ничего особенного, маленький такой человечек.
– Как ты с ним познакомилась?
– Случайно. Заходи за мной завтра, – сказала Амелия, и они договорились пойти к нему вместе после обеда.
Назавтра, в субботу, был чудесный солнечный день. Амелия всю дорогу смешила Джинию.
По винтовой лестнице они поднялись в мастерскую. Это была большая комната, в которой царил полумрак, только в глубине ее в щелку между занавесями пробивался свет. Джиния с, бьющимся сердцем остановилась на последнем марше лестницы. Амелия громко крикнула «добрый день» и в полутьме прошла до середины комнаты. Тут из-за занавесей вышел мужчина – полный, с седой бородой – и сказал, разведя руками:
– Сегодня я ухожу, девушки. Ничего не поделаешь.
На нем была широкая светлая блуза, которая оказалась грязно-желтой, когда он, обернувшись, немного отодвинул занавес, чтоб стало светлее.
– Сегодня, девушки, работать не стоит. Сегодня надо подышать воздухом.
Джиния все стояла на лестнице, откуда ей были видны ноги Амелии, четко вырисовывавшиеся против света, и тихо тянула себе под нос: «Ну пойдем, Амелия».
– Это и есть твоя подружка, которая хочет со мной познакомиться? Да ведь она совсем еще девочка. Подойди-ка сюда, – обратился он к Джинии, – дай я на тебя взгляну на свету.
Джиния скрепя сердце переступила порог, чувствуя на себе любопытный взгляд серых глаз с каким-то хитрым, а может просто стариковским прищуром. Послышался резкий, раздраженный голос Амелии:
– Но мы же с вами условились!
– Что поделаешь? – сказал художник. – Что поделаешь? Да и вы тоже, должно быть, устали. Работать надо спокойно. Разве ты не бываешь рада, когда я даю тебе передохнуть?
Тут Амелия села на стул в тени занавесей, а Джинии показалось, что она стоит здесь уже целую вечность, не зная, как себя держать под перекрестным огнем взглядов художника и Амелии. Ей казалось, что художник шутит, но не с ними, а сам с собой; время от времени он бросал несколько слов пристававшей к нему Амелии и все повторял: «Что поделаешь?» Вдруг он, как мячик, отскочил назад и шире раздвинул занавеси. В пустом помещении пахло свежей побелкой и масляной краской.
– Мы обливаемся потом, – сказала Амелия, – дайте нам по крайней мере остыть. Верно, Джиния?
Между тем Бородач, повернувшись к ним спиной, открывал большие окна, выходившие в небо. Амелия сидела, заложив ногу на ногу, смотрела на художника и смеялась. Перед окном стоял мольберт с холстом, испещренным пятнами красок и следами соскобленных мазков.
– Когда же и работать, как не сейчас, пока еще светло? – сказала Амелия. – Держу пари, вы собираетесь изменить мне с другой натурщицей.
– Я со всеми тебе изменяю! – крикнул художник, который, низко наклонившись, рылся в ящике под мольбертом и выбрасывал оттуда листы, коробки, кисти. – Думаешь, ты лучше дерева или лошади? Я работаю, даже когда гуляю, ты что думаешь?
Амелия вскочила со стула, сняла шляпку и подмигнула Джинии.
– Почему бы вам не сделать набросок с моей подруги? – сказала она со смехом. – Она еще никогда никому не позировала.
Художник обернулся.
– Этим я и собираюсь заняться, – сказал он. – Меня заинтересовало выражение ее лица.
Он начал с карандашом в руке описывать большие круги вокруг Джинии, склонив голову набок, поглаживая бороду и щурясь, как кот. Джиния стояла посреди комнаты и не осмеливалась пошевелиться. Потом он велел ей стать ближе к свету и, не спуская с нее глаз, положил на мольберт лист бумаги и начал рисовать. В небе вырисовывались крыши домов и желтое облако. Джиния с бьющимся сердцем уставилась на это облако и, хотя слышала, как Амелия что-то говорила, ходила по комнате, сморкалась, ни разу даже не взглянула на нее.
Когда Амелия позвала ее посмотреть на рисунок, Джинии пришлось прикрыть глаза, чтобы свыкнуться с полутьмой. Потом она медленно наклонилась над листом и узнала свою шляпку, но лицо показалось ей чужим – бесчувственным, как у спящей, а рот открыт, словно девушка па рисунке говорила во сне.
– Вот задача, – говорил Бородач, – тебя в самом деле никто никогда не рисовал?
Он заставил ее снять шляпку и сказал, чтобы она села и о чем-нибудь разговаривала с Амелией. И вот они сидели и смотрели друг на дружку, сдерживая разбиравший их смех, а художник заполнял набросками один лист за другим. Амелия держалась свободно и говорила Джинии, боявшейся пошевелиться, чтобы она не думала о своей позе.
– Вот задача, – опять сказал Бородач, искоса глядя на Джинию, – можно подумать, что девственный профиль расплывчат.
Джиния спросила у Амелии, будет ли она позировать, и та громко сказала:
– Сегодня он заинтересовался тобой и теперь уж от тебя не отступится.
Они поговорили о том, о сем, а потом Джиния спросила у Амелии, нельзя ли взглянуть на ее портреты, нарисованные в предыдущие дни.
Амелия встала, направилась в глубину комнаты, принесла оттуда папку, положила ее на колени Джинии и, раскрыв, сказала:
– Вот, смотри.
Джиния перевернула несколько листов, и на четвертом или пятом ее даже пот прошиб. Она не осмеливалась заговорить, чувствуя на себе взгляд серых глаз художника. Амелия тоже выжидательно смотрела на нее. Наконец она спросила:
– Ну что, нравится?
Джиния подняла голову, стараясь улыбнуться.
– Я тебя не узнаю, – сказала она.
Потом один за другим просмотрела все листы и мало-помалу успокоилась. Ведь, в конце концов, Амелия стояла перед ней одетая и смеялась.
Джиния сказала как дура:
– Это все он нарисовал?
Амелия, не поняв ее, громко ответила:
– Да уж, конечно, не я.
Когда Бородач кончил, Джинии захотелось опять закрыть глаза и подождать, как будто они еще не привыкли к освещению. Но Амелия подозвала ее, и, подойдя, Джиния в изумлении застыла перед большим листом. На нем было разбросано множество ее головок, одна какая-то кривая, иные с гримаской, которой она вовсе не делала, но волосы, щеки, ноздри были ее. Она посмотрела на смеющегося Бородача, и ей показалось, что теперь у него совсем другие глаза.
Потом Амелия начала выпрашивать деньги, повторяя, что час есть час и что они с Джинией работают не для развлечения, а для того, чтобы заработать на жизнь. Джиния, которая готова была ее исколотить, возразила, что пришла с ней случайно и вовсе не хочет отбивать у нее кусок хлеба. Бородач посмеялся сквозь зубы и сказал, что ему пора уходить.
– Пойдемте, я куплю вам мороженого и побегу.
Критика